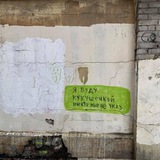ПО РЕКЕ
1.
Всё, что было забыто во сне, – остается во сне:
объяснительная записка, утерянный номерок.
Ничего, потерпи: здесь, на тонкой границе, где полоской синеет рассвет,
все объяснишь на словах,
новое купишь пальто.
Жизнь повторится. А может, и не повторится.
Пришиваю ничейной ниткой к никчёмному дорогое,
а в учебниках полых сгущаются облака.
Марьиванна, я тут, я учил, но учил про другое.
Жизнь была непрерывной, большой, слишком тесной,
была легка.
Перед смертью отца, не на этом, а том берегу
отвисится в шкафу незапятнанное пальто,
отлежится добавочный смысл,
а отец, как колдун в гробу,
незнакомый, примерит его, а потом по весне – уплывет.
Бормоча, карауля, колдуя, не помня себя,
раньше споря с тобой, а теперь в тебе отражаясь,
я проснулся один. И уходит чужой/чужая
эта жизнь о тебе, а теперь вот и сон про тебя.
В общем, всё, что останется здесь, останется только во мне.
Это даже уже не рассказать никому.
Темные льдиные длины идут по Москве-реке,
а по другой реке они через свет плывут.
2.
Там, в шкафу, в темноте, где не встретиться больше никак,
где берет длиннополый рукав за обшлаг обнулённую руку,
мы там будем с тобою друг друга, как в детстве, искать.
И аукать.
(20 марта – 13 апреля 2025)
#журнал_литгост
1.
Всё, что было забыто во сне, – остается во сне:
объяснительная записка, утерянный номерок.
Ничего, потерпи: здесь, на тонкой границе, где полоской синеет рассвет,
все объяснишь на словах,
новое купишь пальто.
Жизнь повторится. А может, и не повторится.
Пришиваю ничейной ниткой к никчёмному дорогое,
а в учебниках полых сгущаются облака.
Марьиванна, я тут, я учил, но учил про другое.
Жизнь была непрерывной, большой, слишком тесной,
была легка.
Перед смертью отца, не на этом, а том берегу
отвисится в шкафу незапятнанное пальто,
отлежится добавочный смысл,
а отец, как колдун в гробу,
незнакомый, примерит его, а потом по весне – уплывет.
Бормоча, карауля, колдуя, не помня себя,
раньше споря с тобой, а теперь в тебе отражаясь,
я проснулся один. И уходит чужой/чужая
эта жизнь о тебе, а теперь вот и сон про тебя.
В общем, всё, что останется здесь, останется только во мне.
Это даже уже не рассказать никому.
Темные льдиные длины идут по Москве-реке,
а по другой реке они через свет плывут.
2.
Там, в шкафу, в темноте, где не встретиться больше никак,
где берет длиннополый рукав за обшлаг обнулённую руку,
мы там будем с тобою друг друга, как в детстве, искать.
И аукать.
(20 марта – 13 апреля 2025)
#журнал_литгост
#вконтакте_напомнил
Мне нравится эта фотография. Старость и детство. Моя прабабушка, дожившая почти до ста, и мой брат, которому сейчас уже больше сорока.
Прабабушка давно спит на Преображенском кладбище, а брат переживет меня.
Андрюша тут совершенный ангел, баб Тата как всевидящая Сивилла.
Но и это, и другое неправда.
Прабабушка многое пережила, была действительно мудрой женщиной, но уже ничего не видела, и физически, и метафизически: в пророки не нанималась.
Брат думает, наверно, когда его отпустят с этой фотосессии.
Но как хорошо, что они тут вместе есть. Это же не наши теперь повсеместные телефоны, щёлкай не хочу. Надо было принести фотоаппарат, потом проявлять, потом печатать.
Хорошо, что принесли, проявили, напечатали.
Может, они, прабабушка с братом, и не хотели. Но кто-то сказал: «на память, ну как же так! обязательно нужно».
И вот сели, как им сказали. И до сих пор сидят, секундные, в кривом снимке, в праздничном платье, вечные.
Мне нравится эта фотография. Старость и детство. Моя прабабушка, дожившая почти до ста, и мой брат, которому сейчас уже больше сорока.
Прабабушка давно спит на Преображенском кладбище, а брат переживет меня.
Андрюша тут совершенный ангел, баб Тата как всевидящая Сивилла.
Но и это, и другое неправда.
Прабабушка многое пережила, была действительно мудрой женщиной, но уже ничего не видела, и физически, и метафизически: в пророки не нанималась.
Брат думает, наверно, когда его отпустят с этой фотосессии.
Но как хорошо, что они тут вместе есть. Это же не наши теперь повсеместные телефоны, щёлкай не хочу. Надо было принести фотоаппарат, потом проявлять, потом печатать.
Хорошо, что принесли, проявили, напечатали.
Может, они, прабабушка с братом, и не хотели. Но кто-то сказал: «на память, ну как же так! обязательно нужно».
И вот сели, как им сказали. И до сих пор сидят, секундные, в кривом снимке, в праздничном платье, вечные.
В этот большой день я часто цитирую либо Бориса Слуцкого, которого очень люблю, либо это стихотворение Михаила Панова. (Он родился в 1920, умер в 2001.)
Там, в его тексте, поразительна цитата из Блока. Причем какая. Самая что ни на есть не военная, любовная, про мороз и книгу, уроненную на пол. Про двух целующих птиц, про кота, про Паоло и Франческу.
НОЧЬЮ
Приехали ночью, вкопали ЗИС-3. К пяти замаскировали ее.
Не спалось. Я лежал на снегу под двумя задубелыми шинелями.
Слепо светили две звезды, да и те пропали.
Дышал, дышал на руки: от холода одеревенели.
Вспомнил: «Она пришла с мороза раскрасневшаяся...»
Родной для меня это стих! Это Блок!
(Книгу-то взводный, гад, зажилил, — думаю в полусне. —
А ведь нес ее от Кавказа... и всегда... как зеницу ока...)
Натаскиваю, натягиваю шинель, чтобы укрыться с головою.
Рвет ветер! Ко мне сочатся его ледяные потоки.
Медленно вырастает звук порывистый и воющий:
«Мессершмит»? Или может... нет, не «фокке-вульф».
Думаю о судьбе русского свободного стиха:
будущее — за ним. И совсем не бескрылый,
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыханья,
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.
К шести забылся. Резало от ремня и кобуры, неснятых на ночь.
В кармане тихо шелестели часы (трофейные, анкерные).
В семь ноль-ноль на высоте 120 и две десятых
бешено и мертво застучали немецкие танки.
(1942)
Я, когда первый раз наткнулся на стихотворение, ничего не знал об этом поэте. Полез в интернет уточнять. Нашел:
«Поэт, лингвист, литературовед. Младший лейтенант, командир огневого взвода. Родился в Москве. В октябре 1941 году после окончания Московского педагогического института добровольцем ушёл на фронт. После обучения в противотанковом артиллеристском дивизионе, получил звание младшего лейтенанта и был направлен командиром огневого взвода 2-ой батареи в 393-й Отдельный Истребительный Противотанковый дивизион (…). Воевал под Москвой, на Кавказе, на Украине, в Румынии, Болгарии, Венгрии, участвовал в боях за Будапешт. Дважды был ранен. Закончил войну в Австрии. Награждён орденом «Красная Звезда», орденом Отечественной войны и медалями «За отвагу» и «За взятие Будапешта»».
Человек, видимо, был непокорный, и в 70-х у него возникает конфликт с партийным руководством Института русского языка, и Панов вынужден уволиться.
Но какие же удивительные стихи. Живые, свободные.
И этот стык: «Медленно вырастает звук порывистый и воющий: «Мессершмит»? Или может... нет, не «фокке-вульф».
Думаю о судьбе русского свободного стиха: будущее — за ним. И совсем не бескрылый, не безвольный, вранье: это стих глубокого дыханья, яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл».
Думает, казалось бы, о такой ерунде и в такой момент: ветер, холод, вой с неба – и какие-то строчки, какой-то спорный свободный стих, какой-то Блок.
___
С Днём Победы.
Там, в его тексте, поразительна цитата из Блока. Причем какая. Самая что ни на есть не военная, любовная, про мороз и книгу, уроненную на пол. Про двух целующих птиц, про кота, про Паоло и Франческу.
НОЧЬЮ
Приехали ночью, вкопали ЗИС-3. К пяти замаскировали ее.
Не спалось. Я лежал на снегу под двумя задубелыми шинелями.
Слепо светили две звезды, да и те пропали.
Дышал, дышал на руки: от холода одеревенели.
Вспомнил: «Она пришла с мороза раскрасневшаяся...»
Родной для меня это стих! Это Блок!
(Книгу-то взводный, гад, зажилил, — думаю в полусне. —
А ведь нес ее от Кавказа... и всегда... как зеницу ока...)
Натаскиваю, натягиваю шинель, чтобы укрыться с головою.
Рвет ветер! Ко мне сочатся его ледяные потоки.
Медленно вырастает звук порывистый и воющий:
«Мессершмит»? Или может... нет, не «фокке-вульф».
Думаю о судьбе русского свободного стиха:
будущее — за ним. И совсем не бескрылый,
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыханья,
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.
К шести забылся. Резало от ремня и кобуры, неснятых на ночь.
В кармане тихо шелестели часы (трофейные, анкерные).
В семь ноль-ноль на высоте 120 и две десятых
бешено и мертво застучали немецкие танки.
(1942)
Я, когда первый раз наткнулся на стихотворение, ничего не знал об этом поэте. Полез в интернет уточнять. Нашел:
«Поэт, лингвист, литературовед. Младший лейтенант, командир огневого взвода. Родился в Москве. В октябре 1941 году после окончания Московского педагогического института добровольцем ушёл на фронт. После обучения в противотанковом артиллеристском дивизионе, получил звание младшего лейтенанта и был направлен командиром огневого взвода 2-ой батареи в 393-й Отдельный Истребительный Противотанковый дивизион (…). Воевал под Москвой, на Кавказе, на Украине, в Румынии, Болгарии, Венгрии, участвовал в боях за Будапешт. Дважды был ранен. Закончил войну в Австрии. Награждён орденом «Красная Звезда», орденом Отечественной войны и медалями «За отвагу» и «За взятие Будапешта»».
Человек, видимо, был непокорный, и в 70-х у него возникает конфликт с партийным руководством Института русского языка, и Панов вынужден уволиться.
Но какие же удивительные стихи. Живые, свободные.
И этот стык: «Медленно вырастает звук порывистый и воющий: «Мессершмит»? Или может... нет, не «фокке-вульф».
Думаю о судьбе русского свободного стиха: будущее — за ним. И совсем не бескрылый, не безвольный, вранье: это стих глубокого дыханья, яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл».
Думает, казалось бы, о такой ерунде и в такой момент: ветер, холод, вой с неба – и какие-то строчки, какой-то спорный свободный стих, какой-то Блок.
___
С Днём Победы.
#вконтакте_напомнил
У меня за окном квартиры, которая уже давно досталась мне от бабушки, растет дуб.
И ветка всегда доставала до окна. С нее осенью даже можно было снять желуди, просто протянув руку. Бабушка Александра Васильевна очень жаловалась на эту ветку. Особенно зимой. «Обледенеет и стучит в стекло. Вот бы Борька зашел, обрезал».
«Борька» (мой папа) заходил, обрезал.
А я любил эту ветку.
Прошли годы – и вот однажды этой ранней весной пришли коллективные «Борьки» (нет, я не отдам им папино имя), коллективные Петьки и срезали все ветки к чертовой матери. В том числе и мою.
Она торчала голым обрубком на еще не зазеленевшем дереве. Как у того стихотворного инвалида с пустым рукавом, который идет из кино, даже не поздоровавшись с Ходасевичем.
Пришел апрель, наступил май.
Эту жизнь не победить.
У меня за окном квартиры, которая уже давно досталась мне от бабушки, растет дуб.
И ветка всегда доставала до окна. С нее осенью даже можно было снять желуди, просто протянув руку. Бабушка Александра Васильевна очень жаловалась на эту ветку. Особенно зимой. «Обледенеет и стучит в стекло. Вот бы Борька зашел, обрезал».
«Борька» (мой папа) заходил, обрезал.
А я любил эту ветку.
Прошли годы – и вот однажды этой ранней весной пришли коллективные «Борьки» (нет, я не отдам им папино имя), коллективные Петьки и срезали все ветки к чертовой матери. В том числе и мою.
Она торчала голым обрубком на еще не зазеленевшем дереве. Как у того стихотворного инвалида с пустым рукавом, который идет из кино, даже не поздоровавшись с Ходасевичем.
Пришел апрель, наступил май.
Эту жизнь не победить.
«НЕ ХОЧУ РАЯ БЕЗ МУРИ»
Потерял в Москве переулок один. Столько раз там проходил за десять лет, кажется, что и во сне найду, но вот уже год не был в центре, и вдруг – хоть на карте в телефоне вижу, а как дойти до него, старомосковского, немного кривого, со старинными доходными домами – не знаю.
Потерянный переулок.
У ныне уже покойной поэтессы Елены Шварц было стихотворение, где она говорила, что ей не нужно райского блаженства без двух старых машинок. Двух кротких и железных, нищих духом существ. Одной пишущей, другой швейной.
Машин нет в смерти ни одной.
Мне это очень, очень жаль –
На что мне радость и печаль,
Когда нет "Оптимы" со мной?
Бердяев в своей книге «Самосознании» тоже требовал ну если не швейную машинку в раю, то точно своему котику такого же небесного царства, как и всем.
Писал, что не может помыслить Царства Божьего без своего Мури, так как его любовь к коту требует бессмертия и вечности. «Не хочу Рая без Мури».
Будто бы верил в бессмертие души животных, будто что-то ему нашептало, да так нашептало, что был документально оповещен, что в будущей жизни наши питомцы станут нести в себе собирательный образ всего своего рода.
И то правда. Ну как без котиков в небесном царстве?
Я как-то к этому всему без сантиментов.
Была у меня собака, звали ее Чуня, была она маленькой, черной, умной и хитрой. Но уже года три ее нет.
Ну что ж делать. Это жизнь. Точнее, это жизнь и смерть в одном флаконе.
И вот тут на днях перестилал кровать, решил и матрасы,икеевские такие (их у меня два, один на другом), тоже перевернуть. Чтоб значит, продавливались равномерно, с обеих сторон. Ну снял постельное белье, перевернул один матрас, перевернул второй.
И вдруг что-то тоненько лязгнуло об пол.
Нагнулся: а это кончик собачьего когтя. Мы оба эту муторную процедуру не любили с Чуней, но собакам надо иногда когти стричь. Иначе они на концах слоятся. Вот мы и мучилась раз в месяц. Она – дрожит, я – злой, потому что меня самого подташнивает от этого действия, но делать-то нечего.
И вот, в общем, чунин коготь, кончик его, точнее, лежит у меня на паркете. И блестит в солнечном квадрате агатовым матовым бессмертным блеском.
С ума сойти.
Как будто не было смерти, как будто не было вечного расставания, как будто нет этого «нет», как будто нет и этого цилиндра собачьего праха, который стоит у меня в картонной тубе на комоде. И я, кстати, до сих пор не уверен, что там именно Чуня.
«Вы хотите, чтоб мы вам потом привезли после индивидуальной кремации ее прах?» «Хочу». «С вас пять тыщ».
А может, там и не чунин прах? Ну зачерпнули лопаткой в общей куче, и не было никакой индивидуальной кремации. За мои пять тыщ. И теперь у меня на комоде стоит какой-нибудь собирательный Полкан, перемешенный с котом Муром или с Каштанкой.
Но дело совсем не в этом. А в победе над смертью. Не тушкой, так чучелкой. Через все границы, все непересекающиеся миры. Через «нет» и «никогда». Толкаясь своей призрачной упрямой башкой. Но пролезть обратно. Ко мне.
И ведь столько времени прошло, и всё стирано-перестирано десятки раз, даже чехлы от матрасов и те стирались, а вот поди ж ты. Уцепилась срезанным когтем, пришла опять.
Цепкая собачонка.
__
(колонка в Литературной газете, май 2025)
https://lgz.ru/article/ne-khochu-raya-bez-muri/
Потерял в Москве переулок один. Столько раз там проходил за десять лет, кажется, что и во сне найду, но вот уже год не был в центре, и вдруг – хоть на карте в телефоне вижу, а как дойти до него, старомосковского, немного кривого, со старинными доходными домами – не знаю.
Потерянный переулок.
У ныне уже покойной поэтессы Елены Шварц было стихотворение, где она говорила, что ей не нужно райского блаженства без двух старых машинок. Двух кротких и железных, нищих духом существ. Одной пишущей, другой швейной.
Машин нет в смерти ни одной.
Мне это очень, очень жаль –
На что мне радость и печаль,
Когда нет "Оптимы" со мной?
Бердяев в своей книге «Самосознании» тоже требовал ну если не швейную машинку в раю, то точно своему котику такого же небесного царства, как и всем.
Писал, что не может помыслить Царства Божьего без своего Мури, так как его любовь к коту требует бессмертия и вечности. «Не хочу Рая без Мури».
Будто бы верил в бессмертие души животных, будто что-то ему нашептало, да так нашептало, что был документально оповещен, что в будущей жизни наши питомцы станут нести в себе собирательный образ всего своего рода.
И то правда. Ну как без котиков в небесном царстве?
Я как-то к этому всему без сантиментов.
Была у меня собака, звали ее Чуня, была она маленькой, черной, умной и хитрой. Но уже года три ее нет.
Ну что ж делать. Это жизнь. Точнее, это жизнь и смерть в одном флаконе.
И вот тут на днях перестилал кровать, решил и матрасы,икеевские такие (их у меня два, один на другом), тоже перевернуть. Чтоб значит, продавливались равномерно, с обеих сторон. Ну снял постельное белье, перевернул один матрас, перевернул второй.
И вдруг что-то тоненько лязгнуло об пол.
Нагнулся: а это кончик собачьего когтя. Мы оба эту муторную процедуру не любили с Чуней, но собакам надо иногда когти стричь. Иначе они на концах слоятся. Вот мы и мучилась раз в месяц. Она – дрожит, я – злой, потому что меня самого подташнивает от этого действия, но делать-то нечего.
И вот, в общем, чунин коготь, кончик его, точнее, лежит у меня на паркете. И блестит в солнечном квадрате агатовым матовым бессмертным блеском.
С ума сойти.
Как будто не было смерти, как будто не было вечного расставания, как будто нет этого «нет», как будто нет и этого цилиндра собачьего праха, который стоит у меня в картонной тубе на комоде. И я, кстати, до сих пор не уверен, что там именно Чуня.
«Вы хотите, чтоб мы вам потом привезли после индивидуальной кремации ее прах?» «Хочу». «С вас пять тыщ».
А может, там и не чунин прах? Ну зачерпнули лопаткой в общей куче, и не было никакой индивидуальной кремации. За мои пять тыщ. И теперь у меня на комоде стоит какой-нибудь собирательный Полкан, перемешенный с котом Муром или с Каштанкой.
Но дело совсем не в этом. А в победе над смертью. Не тушкой, так чучелкой. Через все границы, все непересекающиеся миры. Через «нет» и «никогда». Толкаясь своей призрачной упрямой башкой. Но пролезть обратно. Ко мне.
И ведь столько времени прошло, и всё стирано-перестирано десятки раз, даже чехлы от матрасов и те стирались, а вот поди ж ты. Уцепилась срезанным когтем, пришла опять.
Цепкая собачонка.
__
(колонка в Литературной газете, май 2025)
https://lgz.ru/article/ne-khochu-raya-bez-muri/
lgz.ru
«Не хочу рая без Мури»
...Со мной все время разговаривают на улицах люди. Причем те, с кем я вообще предпочел бы не разговаривать.
Только вышел из подъезда, иду к мусорке, в руках позвякивает мешок со стеклотарой. Вдруг сразу машина. Притормаживает. В открытое окно высовываемся какой-то страшный дядька, в руке у него какой-то фрагмент мне неизвестного, как скелет доисторической фауны, оборудования:
– Эй, купи шуруповёрт!
– Зачем мне твой шуруповёрт?
Где я и где шуруповёрт? Нет, ну действительно?
https://story.ru/istorii-znamenitostej/avtorskie-kolonki/dmitriy-vodennikov-kradenyy-shurupovyert/
Только вышел из подъезда, иду к мусорке, в руках позвякивает мешок со стеклотарой. Вдруг сразу машина. Притормаживает. В открытое окно высовываемся какой-то страшный дядька, в руке у него какой-то фрагмент мне неизвестного, как скелет доисторической фауны, оборудования:
– Эй, купи шуруповёрт!
– Зачем мне твой шуруповёрт?
Где я и где шуруповёрт? Нет, ну действительно?
https://story.ru/istorii-znamenitostej/avtorskie-kolonki/dmitriy-vodennikov-kradenyy-shurupovyert/
story.ru
Дмитрий Воденников: Краденый шуруповёрт — авторские колонки журнала STORY
Дмитрий Воденников: Краденый шуруповёрт — авторские колонки журнала STORY. Читайте на нашем сайте.
#вконтакте_напомнил
Давнишняя фотография.
Сделана мной из окна гостиницы, чтоб просто зафиксировать забавный оптический эффект.
А потом смотришь на получившееся, и у тебя вдруг ёкает сердце.
Петербург, май, тени уходят в воду.
И здесь всё: великий город, огромный подвиг, мертвые и живые, мы все здесь, идем из прошлого, будущего, чередой, солнечным днем, по своим делам, из света в мрак перелетая, а потом (только здесь не видно) из мрака в свет.
Что-то хотим этим своим движением рассказать.
Давнишняя фотография.
Сделана мной из окна гостиницы, чтоб просто зафиксировать забавный оптический эффект.
А потом смотришь на получившееся, и у тебя вдруг ёкает сердце.
Петербург, май, тени уходят в воду.
И здесь всё: великий город, огромный подвиг, мертвые и живые, мы все здесь, идем из прошлого, будущего, чередой, солнечным днем, по своим делам, из света в мрак перелетая, а потом (только здесь не видно) из мрака в свет.
Что-то хотим этим своим движением рассказать.
ПРОСТО МОЛЧИ
Ремарк написал однажды, что земля значит для солдата так много, как ни для кого больше.
Это он, солдат, приник к ней, как будто сжимает её в объятиях, «когда под огнём страх смерти заставляет его глубоко зарываться в неё лицом и всем своим телом, она его единственный друг, его брат, его мать». Она принимает его и снова отпускает «на десять секунд, – десять секунд перебежки, ещё десять секунд жизни, – и опять подхватывает его, чтобы укрыть, порой навсегда».
Цитата взята из романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», но сам фрагмент мог бы существовать и как начало эссе.
Ведь эссе как жанр мерцает где-то посередине (и да, оно именно мерцает, всегда немного притворяется, мимикрирует), качается между стихотворением (верлибром) и прозой.
Есть в эссе какая-то необязательность. На самом деле призрачная: там вполне крепкие связи между словами. Но главное – там отсутствует сюжет. То есть он есть («шёл, шёл и подумал»), но это скорее сюжет мысли. Поэтому эссе всегда и существует как будто на полях – и тех элисийских, и на этих – полях, например, текста. Всё это заставляет жанр быть каким-то промежуточным.
А ещё эссе учит свободе.
И смирению.
Ты, как паук, ткёшь и ткёшь что-то, только к тебе имеющее непосредственное отношение (он же, паук, из себя эту нить, эту воздушную ткань берёт), но конечный итог оказывается больше, тоньше и прозрачнее тебя. И сияет на солнце. Какой-то хищный словесный узор.
...Когда-то один человек (жил он в конце шестнадцатого века) уединился у себя дома, никуда не ходил, никого не принимал, решил ничем не заниматься – просто прожить в уединении.
Сказал себе: пусть там ум что-то просто бормочет. Но ум стал бормотать так много интересного, что хозяин ума даже удивился. Ум его порождал «столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится».
Я думаю, все уже догадались, как звали этого человека. Это – Монтень. Родоначальник спорного, странного, межеумочного прозаического жанра – эссе.
(Тут, кстати, пришла в голову мысль: самое невозможное место для эссе – это священные тексты. Там – только стихи, которые притворяются прозой. Собственно, все известные священные тексты написаны божественным верлибром. Просто их читающие не знают этого слова.)
Может, мы и сны видим именно как эссе? Они путаные, необязательные, плохо запоминаются.
Обычная жизнь – это проза. Солнечный любовный удар – это стихотворение. А сны – эссе.
Все остальные жанры нашей жизни: очерки, объяснительные записки, инструкции и хроника происшествий – читаются нами по диагонали.
...Но вдруг выползет странное существо странного текста. То ли это рыба, то ли уже может ходить по суше.
Посмотрит-посмотрит на нас, повернётся с кромки воды и суши – и опять уплывёт. Так ничего и не сказав.
Люди прозрачны и слишком внутри горчат, застряли в сетях, шелестят, регистрируют каждый чих. Просто плыви, не отводи взгляд: круглый внимательный вечно солёный взгляд. Просто молчи.
______
(колонка в Литературной газете, май 2025)
Ремарк написал однажды, что земля значит для солдата так много, как ни для кого больше.
Это он, солдат, приник к ней, как будто сжимает её в объятиях, «когда под огнём страх смерти заставляет его глубоко зарываться в неё лицом и всем своим телом, она его единственный друг, его брат, его мать». Она принимает его и снова отпускает «на десять секунд, – десять секунд перебежки, ещё десять секунд жизни, – и опять подхватывает его, чтобы укрыть, порой навсегда».
Цитата взята из романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», но сам фрагмент мог бы существовать и как начало эссе.
Ведь эссе как жанр мерцает где-то посередине (и да, оно именно мерцает, всегда немного притворяется, мимикрирует), качается между стихотворением (верлибром) и прозой.
Есть в эссе какая-то необязательность. На самом деле призрачная: там вполне крепкие связи между словами. Но главное – там отсутствует сюжет. То есть он есть («шёл, шёл и подумал»), но это скорее сюжет мысли. Поэтому эссе всегда и существует как будто на полях – и тех элисийских, и на этих – полях, например, текста. Всё это заставляет жанр быть каким-то промежуточным.
А ещё эссе учит свободе.
И смирению.
Ты, как паук, ткёшь и ткёшь что-то, только к тебе имеющее непосредственное отношение (он же, паук, из себя эту нить, эту воздушную ткань берёт), но конечный итог оказывается больше, тоньше и прозрачнее тебя. И сияет на солнце. Какой-то хищный словесный узор.
...Когда-то один человек (жил он в конце шестнадцатого века) уединился у себя дома, никуда не ходил, никого не принимал, решил ничем не заниматься – просто прожить в уединении.
Сказал себе: пусть там ум что-то просто бормочет. Но ум стал бормотать так много интересного, что хозяин ума даже удивился. Ум его порождал «столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится».
Я думаю, все уже догадались, как звали этого человека. Это – Монтень. Родоначальник спорного, странного, межеумочного прозаического жанра – эссе.
(Тут, кстати, пришла в голову мысль: самое невозможное место для эссе – это священные тексты. Там – только стихи, которые притворяются прозой. Собственно, все известные священные тексты написаны божественным верлибром. Просто их читающие не знают этого слова.)
Может, мы и сны видим именно как эссе? Они путаные, необязательные, плохо запоминаются.
Обычная жизнь – это проза. Солнечный любовный удар – это стихотворение. А сны – эссе.
Все остальные жанры нашей жизни: очерки, объяснительные записки, инструкции и хроника происшествий – читаются нами по диагонали.
...Но вдруг выползет странное существо странного текста. То ли это рыба, то ли уже может ходить по суше.
Посмотрит-посмотрит на нас, повернётся с кромки воды и суши – и опять уплывёт. Так ничего и не сказав.
Люди прозрачны и слишком внутри горчат, застряли в сетях, шелестят, регистрируют каждый чих. Просто плыви, не отводи взгляд: круглый внимательный вечно солёный взгляд. Просто молчи.
______
(колонка в Литературной газете, май 2025)
Ехал однажды утром на скором сидячем поезде из Нижнего Новгорода в Москву. Четыре часа. А мне эти четыре часа сидеть – долго. Все как-то устраиваются, сидят, спят, через наушники фильмы смотрят, а мне маятно; приходится выходить иногда в середину вагона, в пространство между дверями: ноги размять.
Тогда я первый раз этих двоих и увидел.
Сидит пара: мужик и молодая девушка. И всё время она его левой рукой обнимает. А правой по лицу гладит. А он спит.
«Вот же приставучая, – думаю. – Покоя ему не дает. «Моё, моё». Даже во сне не отпустит».
Через час опять вышел – смотрю: он проснулся, а она все равно его обнимает. И по лицу гладит. Как будто говорит: всё хорошо, всё хорошо.
А лицо у него в странных морщинах, но не возрастных, а других каких-то, как будто папирусных. Как будто он осунулся от болезни. Или от нервного истощения. То ли он после онкологии, то ли у него какое-то расстройство системного характера.
А она гладит его по осунувшемуся папирусному лицу и по-прежнему вроде шепчет ему, говорит: «Всё хорошо, мой маленький, всё хорошо».
Нет, наверное, брат и сестра, думаю. Бедная. Вот же не повезло. Сколько проблем.
…Потом она кормить его чем-то стала, на столик еду положила, оба едят, а она руку с его плеча не снимает. Он ест, но даже когда ест, как будто к ней жмётся, всем телом жалуется, словно защиты просит.
Какая же прекрасная сестра, думаю, какой же несчастный брат.
Через час вышел снова к дверям, на середину, а он, как птенчик, целует ее в губы, она отвечает ему на поцелуй и гладит-гладит его по лицу, и по-прежнему что-то твердит, успокаивает.
Значит, парень и девушка. Или муж и жена.
И как будто нет вокруг них никого. Ни меня с моими ногами, ни соседей, ни пирожков с булками, ни проводников, ни всей этой чертовой «Ласточки», а только он и она и это висящее над ними, как облако: всё будет хорошо, мой маленький, все будет хорошо, мой миленький, всё будет, любимый мой, хорошо.
#вконтакте_напомнил
Тогда я первый раз этих двоих и увидел.
Сидит пара: мужик и молодая девушка. И всё время она его левой рукой обнимает. А правой по лицу гладит. А он спит.
«Вот же приставучая, – думаю. – Покоя ему не дает. «Моё, моё». Даже во сне не отпустит».
Через час опять вышел – смотрю: он проснулся, а она все равно его обнимает. И по лицу гладит. Как будто говорит: всё хорошо, всё хорошо.
А лицо у него в странных морщинах, но не возрастных, а других каких-то, как будто папирусных. Как будто он осунулся от болезни. Или от нервного истощения. То ли он после онкологии, то ли у него какое-то расстройство системного характера.
А она гладит его по осунувшемуся папирусному лицу и по-прежнему вроде шепчет ему, говорит: «Всё хорошо, мой маленький, всё хорошо».
Нет, наверное, брат и сестра, думаю. Бедная. Вот же не повезло. Сколько проблем.
…Потом она кормить его чем-то стала, на столик еду положила, оба едят, а она руку с его плеча не снимает. Он ест, но даже когда ест, как будто к ней жмётся, всем телом жалуется, словно защиты просит.
Какая же прекрасная сестра, думаю, какой же несчастный брат.
Через час вышел снова к дверям, на середину, а он, как птенчик, целует ее в губы, она отвечает ему на поцелуй и гладит-гладит его по лицу, и по-прежнему что-то твердит, успокаивает.
Значит, парень и девушка. Или муж и жена.
И как будто нет вокруг них никого. Ни меня с моими ногами, ни соседей, ни пирожков с булками, ни проводников, ни всей этой чертовой «Ласточки», а только он и она и это висящее над ними, как облако: всё будет хорошо, мой маленький, все будет хорошо, мой миленький, всё будет, любимый мой, хорошо.
#вконтакте_напомнил
НА ФОНЕ ЗЕЛЕНИ В КАКОМ-ТО ТАМ ГОДУ
Всё, что было счастьем, а потом стало пылью, в век цифровых технологий упирается, вставляет сгустившийся из праха башмак в дверной проем, не желает достойно уходить. Тянет ручонки. Говорит: а помнишь, помнишь?
Да помню я, помню.
Но чего под нос-то совать?
Три дня подряд я стираю фотографии из переполнившегося телефона. Люди, люди, памятки, собака, фотографии экрана, счета.
Зачем было всего столько?
Но вот нашёл снимок, неаккуратно сделанный года три назад с живой фотографии. Молодой папа, мама, которой осталось несколько лет жизни, сестра, я.
Кажется, это первый мой снимок: сестре повезло, она была первенцем, ее много фотографировали – и голым пупсиком, и уже когда стояла на маленьких ножках, а меня нет: молодые родители в молодых родителей наигрались, и я стал фотографической сиротой.
Но вот этот фотоснимок – есть. Еще совсем двадцатипятилетний папа на фоне летней зелени в белой рубашке, с закатанными ниже локтя рукавами, мама в какой-то полосатой кофточке, сестра с бантиком, я лысый и с полуоткрытым ртом. Папа иронично держит меня за ухо.
Не уверен, что мальчик на фото в курсе, что такое проводной телефонный аппарат. А уж что такое «стирать фото с телефона» даже папа на фотографии не знает. Сказали бы ему тогда – сильно бы удивился. (Хотя казалось бы: все ж таки физик.)
Альберт Камю вроде однажды в дневнике написал: «Людские лица искажены знанием. Но иногда из-под шрамов проступает лицо отрока, благословляющего жизнь».
Не знаю, как там у отрока, но у этого маленького ребенка нет на лице ни намека на знание.
Зато у меня теперь есть.
Общеизвестное, навязшее в зубах ролан-бартовское про «пунктум» в этой нашей семейной фотографии для меня работает непреложно, как по учебнику. «Пунктум фотографии – это то случайное в ней, что укалывает меня».
Вот и меня это фото «укалывает». И эта черно-белая зелень, и эта отцовская рубашка, и сестра, и мама, и я. Но дело не в том, как, наверное, все подумали: что дескать, мало жизни, моей и чужой, мало, мало.
Нет. Как раз наоборот.
Дитя. Пока тебя держат за ухо, я, глядящий на тебя из другого времени, с неизвестного тебе «космического» гаджета, хочу тебе кое-что сказать.
Ты ещё намучаешься через пятьдесят лет с телефоном.
Жизни окажется так много, что упыхаешься стирать.
#вконтакте_напомнил
Всё, что было счастьем, а потом стало пылью, в век цифровых технологий упирается, вставляет сгустившийся из праха башмак в дверной проем, не желает достойно уходить. Тянет ручонки. Говорит: а помнишь, помнишь?
Да помню я, помню.
Но чего под нос-то совать?
Три дня подряд я стираю фотографии из переполнившегося телефона. Люди, люди, памятки, собака, фотографии экрана, счета.
Зачем было всего столько?
Но вот нашёл снимок, неаккуратно сделанный года три назад с живой фотографии. Молодой папа, мама, которой осталось несколько лет жизни, сестра, я.
Кажется, это первый мой снимок: сестре повезло, она была первенцем, ее много фотографировали – и голым пупсиком, и уже когда стояла на маленьких ножках, а меня нет: молодые родители в молодых родителей наигрались, и я стал фотографической сиротой.
Но вот этот фотоснимок – есть. Еще совсем двадцатипятилетний папа на фоне летней зелени в белой рубашке, с закатанными ниже локтя рукавами, мама в какой-то полосатой кофточке, сестра с бантиком, я лысый и с полуоткрытым ртом. Папа иронично держит меня за ухо.
Не уверен, что мальчик на фото в курсе, что такое проводной телефонный аппарат. А уж что такое «стирать фото с телефона» даже папа на фотографии не знает. Сказали бы ему тогда – сильно бы удивился. (Хотя казалось бы: все ж таки физик.)
Альберт Камю вроде однажды в дневнике написал: «Людские лица искажены знанием. Но иногда из-под шрамов проступает лицо отрока, благословляющего жизнь».
Не знаю, как там у отрока, но у этого маленького ребенка нет на лице ни намека на знание.
Зато у меня теперь есть.
Общеизвестное, навязшее в зубах ролан-бартовское про «пунктум» в этой нашей семейной фотографии для меня работает непреложно, как по учебнику. «Пунктум фотографии – это то случайное в ней, что укалывает меня».
Вот и меня это фото «укалывает». И эта черно-белая зелень, и эта отцовская рубашка, и сестра, и мама, и я. Но дело не в том, как, наверное, все подумали: что дескать, мало жизни, моей и чужой, мало, мало.
Нет. Как раз наоборот.
Дитя. Пока тебя держат за ухо, я, глядящий на тебя из другого времени, с неизвестного тебе «космического» гаджета, хочу тебе кое-что сказать.
Ты ещё намучаешься через пятьдесят лет с телефоном.
Жизни окажется так много, что упыхаешься стирать.
#вконтакте_напомнил
«Если бы мир, в котором мы живем, весь был съедобный, как легко было бы в нем жить! Уже когда я стала взрослой, меня порой одолевало желание ощипать и съесть цветущий миндаль или откусить кусочек от карамельно-миндального заката. Неоновые вывески на фоне темного нью-йоркского неба казались мне огромных размеров лакомствами, которые, увы, невозможно проглотить».
https://story.ru/istorii-znamenitostej/avtorskie-kolonki/dmitriy-vodennikov-sploshnaya-siren-/
https://story.ru/istorii-znamenitostej/avtorskie-kolonki/dmitriy-vodennikov-sploshnaya-siren-/
story.ru
Дмитрий Воденников: Сплошная сирень — авторские колонки журнала STORY
Дмитрий Воденников: Сплошная сирень — авторские колонки журнала STORY. Читайте на нашем сайте.
Люди в чёрном на чёрном.
Несколько лет назад. Причем в месте не очень оживленном, точнее, совсем не оживленном, там, на Яузе, где машины едут и едут, где прохожие совсем не ходят, где мостики через Яузу, но на этих мостиках почти никогда никого нет.
Но тут и проявились – на столбе – черные на черном. То ли пришельцы, то ли секретные агенты из фильма.
И столб на старом снимке в первый момент покажется вдруг березой. Но нет. Не береза.
… У всех глаза скрыты: то ли темные очки, то ли еще не вышли достаточно из сумрака.
А у одного – горят.
Несколько лет назад. Причем в месте не очень оживленном, точнее, совсем не оживленном, там, на Яузе, где машины едут и едут, где прохожие совсем не ходят, где мостики через Яузу, но на этих мостиках почти никогда никого нет.
Но тут и проявились – на столбе – черные на черном. То ли пришельцы, то ли секретные агенты из фильма.
И столб на старом снимке в первый момент покажется вдруг березой. Но нет. Не береза.
… У всех глаза скрыты: то ли темные очки, то ли еще не вышли достаточно из сумрака.
А у одного – горят.
Вчера ехал из аэропорта в такси. Таксист такой хороший: и щебечет, и щебечет.
Но тут, чтоб разговор поддержать, спрашиваю: «А где мы сейчас?»
А он мне: «А вы что, не москвич?»
«Ну почему, – говорю , – москвич. Но Москва такая огромная. Я же не могу все районы знать».
«Это Химки», – говорит с некоторой обидой.
Потом оборачивается: «А вы что, с друзьями не гуляете в Химках?»
«Ну вы знаете: все-таки я живу в Сокольниках, будет странно, если я поеду гулять с друзьями в Химки».
И тут же на свою беду интересуюсь: «А щас мы где?»
«А щас в Ховрино», – с ледяным презрением отвечает он.
Я прям чувствую вину, что не погулял тут с друзьями. Про друзей даже говорить не буду: иуды.
Про Марьину Рощу уже и не спрашивал.
Доехали в гробовом молчании.
#вконтакте_напомнил
Но тут, чтоб разговор поддержать, спрашиваю: «А где мы сейчас?»
А он мне: «А вы что, не москвич?»
«Ну почему, – говорю , – москвич. Но Москва такая огромная. Я же не могу все районы знать».
«Это Химки», – говорит с некоторой обидой.
Потом оборачивается: «А вы что, с друзьями не гуляете в Химках?»
«Ну вы знаете: все-таки я живу в Сокольниках, будет странно, если я поеду гулять с друзьями в Химки».
И тут же на свою беду интересуюсь: «А щас мы где?»
«А щас в Ховрино», – с ледяным презрением отвечает он.
Я прям чувствую вину, что не погулял тут с друзьями. Про друзей даже говорить не буду: иуды.
Про Марьину Рощу уже и не спрашивал.
Доехали в гробовом молчании.
#вконтакте_напомнил
15 июня 2018 года я сделал эту фотографию, Вконтакте напомнил.
Сиял цветок, полз паучок, было лето, так много лет назад, столько воды утекло, теперь новое лето, где тот паучок, где тот цветок, роса на лепестках, непристойность цветка, лапки паучьи в росе, где они, нет их. Один дождь, дождь, дождь. Снова с неба вода течет.
Сиял цветок, полз паучок, было лето, так много лет назад, столько воды утекло, теперь новое лето, где тот паучок, где тот цветок, роса на лепестках, непристойность цветка, лапки паучьи в росе, где они, нет их. Один дождь, дождь, дождь. Снова с неба вода течет.
КОЗА В ТРАМВАЕ
Трамваев было так много в русской поэзии, что она бы могла частью туда погрузиться, залезть, прозвенеть, сперва разогнавшись, и потом, набрав ход, оторваться от рельсов, взлететь, а мы бы стояли открыв рты и завидовали улетевшим.
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрёт,
А она то сжимается, как воробей,
То растёт, как воздушный пирог.
«В 6 часов 13 минут пополудни, – было написано в одной докладной в двадцатые годы двадцатого столетия, – в вагоне номер 243 кондуктором номер 712 найдена мужская левая колоша с дыркой величиной в медный пятак».
Протёртая медленным временем, прохудившаяся калоша в 1929 году лежала в бюро потерянных вещей не одна.
Там ещё спал чёрный кошелёк («пусто» – было написано в документе, в толстой отчётной книге). Стоял, как старая огромная книжка, старый портфель (и там тоже пусто: видно, всё из него уже выгребли, отправив сам портфель в пустом вагоне до конечной станции). Тут же кучкой лежали грязные мужские кальсоны (не будем конкретизировать). А ещё буханка ржаного хлеба и зонтик. А ещё вполне работающая швейная машинка, вексель на 303 рубля, дамский лифчик (это к кальсонам) и даже дохлая кошка (откуда она там, в трамвае?). Впрочем, кошку, скорее всего, выбросили. Но в книге утерянных вещей зафиксировали.
Кто-то их все переписал, складировал (кроме кошки), увековечил – пусть на время, пусть не навсегда. Переписал и пошёл пить чай.
...Однажды читал про древнего инвалида. На Ближнем Востоке учёные раскопали пещеру и среди всего прочего нашли покалеченный мужской скелет. Когда-то скелет был почти стариком, ему было примерно сорок пять лет, и к моменту смерти скелет потерял почти всё.
У него не было правой руки по локоть, левого глаза, он был хром на правую ногу, а при жизни получил сильный удар в лоб. Человек, запрятавший в себе этот скелет, выжил, оправился, но потом смерть всё равно его подстерегла. Кажется, этот доисторический старик был к моменту смерти ещё и глух.
Но этого бывшего человека хотя бы через много тысяч лет однажды нашли.
А этого?
...Один пассажир в двадцатые годы двадцатого века настойчиво пытался провезти в московском трамвае козу. Но, кроме такого важного факта, мы ничего про него не узнаем. Где он через много (или немного) лет нашёл своё успокоение? Строил ли он дальше социализм или вообще ничего не строил?
Знаем только, что с козой ему в трамвае долго проехаться не довелось. Бдительные пассажиры вывели его оттуда и отконвоировали в милицию. Надо же: и ведь не жалко было время тратить своё.
...Прямо так и вижу: идёт по убитой пыльной мостовой провинившийся дядька, вокруг него несколько возмущённых граждан, самой последней – на верёвке – идёт коза.
И солнце светит, и бывшие пассажиры, а теперь добровольные конвоиры и пойманный нарушитель ругаются между собой, жестикулируют или идут спокойно, и коза так жалобно иногда сзади: ме-е-е.
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину – Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Нет, не спрятаться мне от великого «ме-е-е».
А о том, что сталось потом с той несчастной козой, никто нам уже не расскажет.
_____
(колонка в Литературной газете, июнь 2025)
Трамваев было так много в русской поэзии, что она бы могла частью туда погрузиться, залезть, прозвенеть, сперва разогнавшись, и потом, набрав ход, оторваться от рельсов, взлететь, а мы бы стояли открыв рты и завидовали улетевшим.
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрёт,
А она то сжимается, как воробей,
То растёт, как воздушный пирог.
«В 6 часов 13 минут пополудни, – было написано в одной докладной в двадцатые годы двадцатого столетия, – в вагоне номер 243 кондуктором номер 712 найдена мужская левая колоша с дыркой величиной в медный пятак».
Протёртая медленным временем, прохудившаяся калоша в 1929 году лежала в бюро потерянных вещей не одна.
Там ещё спал чёрный кошелёк («пусто» – было написано в документе, в толстой отчётной книге). Стоял, как старая огромная книжка, старый портфель (и там тоже пусто: видно, всё из него уже выгребли, отправив сам портфель в пустом вагоне до конечной станции). Тут же кучкой лежали грязные мужские кальсоны (не будем конкретизировать). А ещё буханка ржаного хлеба и зонтик. А ещё вполне работающая швейная машинка, вексель на 303 рубля, дамский лифчик (это к кальсонам) и даже дохлая кошка (откуда она там, в трамвае?). Впрочем, кошку, скорее всего, выбросили. Но в книге утерянных вещей зафиксировали.
Кто-то их все переписал, складировал (кроме кошки), увековечил – пусть на время, пусть не навсегда. Переписал и пошёл пить чай.
...Однажды читал про древнего инвалида. На Ближнем Востоке учёные раскопали пещеру и среди всего прочего нашли покалеченный мужской скелет. Когда-то скелет был почти стариком, ему было примерно сорок пять лет, и к моменту смерти скелет потерял почти всё.
У него не было правой руки по локоть, левого глаза, он был хром на правую ногу, а при жизни получил сильный удар в лоб. Человек, запрятавший в себе этот скелет, выжил, оправился, но потом смерть всё равно его подстерегла. Кажется, этот доисторический старик был к моменту смерти ещё и глух.
Но этого бывшего человека хотя бы через много тысяч лет однажды нашли.
А этого?
...Один пассажир в двадцатые годы двадцатого века настойчиво пытался провезти в московском трамвае козу. Но, кроме такого важного факта, мы ничего про него не узнаем. Где он через много (или немного) лет нашёл своё успокоение? Строил ли он дальше социализм или вообще ничего не строил?
Знаем только, что с козой ему в трамвае долго проехаться не довелось. Бдительные пассажиры вывели его оттуда и отконвоировали в милицию. Надо же: и ведь не жалко было время тратить своё.
...Прямо так и вижу: идёт по убитой пыльной мостовой провинившийся дядька, вокруг него несколько возмущённых граждан, самой последней – на верёвке – идёт коза.
И солнце светит, и бывшие пассажиры, а теперь добровольные конвоиры и пойманный нарушитель ругаются между собой, жестикулируют или идут спокойно, и коза так жалобно иногда сзади: ме-е-е.
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину – Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Нет, не спрятаться мне от великого «ме-е-е».
А о том, что сталось потом с той несчастной козой, никто нам уже не расскажет.
_____
(колонка в Литературной газете, июнь 2025)
https://story.ru/istorii-znamenitostej/avtorskie-kolonki/dmitriy-vodennikov-dva-stikhotvoreniya/
…годы шли с перекатом,
с отчетливым перестуком,
годы ушли, укатились, любовь умирать не хотела,
но потом умерла.
А она там всё шла и шла,
а она там – всё пела и пела.
…годы шли с перекатом,
с отчетливым перестуком,
годы ушли, укатились, любовь умирать не хотела,
но потом умерла.
А она там всё шла и шла,
а она там – всё пела и пела.
story.ru
Дмитрий Воденников: Два стихотворения — авторские колонки журнала STORY
Дмитрий Воденников: Два стихотворения — авторские колонки журнала STORY. Читайте на нашем сайте.
#вконтакте_напомнил
Я никогда не могу вспомнить, когда именно сто лет назад я купил Чуню.
Помню, что это было в начале лета. Если проверять по сохранившемуся зачем-то собачьему паспорту (все остальное я сразу выбросил после ее смерти), то так как она родилась 24 марта, продавали ее, скорее всего, трехмесячной. В общем, где-то в июне.
(Мне и теперь подсказали: 29 июня 2007.)
Хорошая была собака. Своенравная. В руки сразу не давалась. (Ну кроме моих.) Даже тем, кого знала. Отскакивала. Сама решала, когда разрешит им себя погладить. Заодно сама решала, на чьих коленях, когда гости уже в доме, будет лежать. Ее, конечно, можно было ссадить, попробовать, рискнуть, стряхнуть, но ненадолго.
И еще – она всегда лаяла на уходящих.
Что там в этот момент в ее буйной голове переклинивало, неизвестно. Но лаяла всегда.
Моя любимая история (а я ее уже рассказывал) заключалась в следующем.
Вот приходит гость. Чуня лает, а гость перед ней пресмыкается (ах, какая миленькая собачка, ах, какая маленькая, ах, какой басовитый лай). Наконец она позволяла себя коснуться, погладить. Снизошла. Гость уже тает.
Потом все идут на кухню: Чуня сперва ложится на мои колени, чтоб потом через пять минут перебраться на колени пришедшего.
– Ой! А почему она выбрала именно меня? Она же так на меня лаяла? – спрашивает гость. А на глазах уже слезы умиления.
– Понятия не имею, – самым своим честным голосом говорю я. – Первый раз такое вижу! Видимо, она полюбила вас.
Гость уже просто плавится.
Но все хорошее когда-нибудь кончается. Гостю пора уходить. Он собирается в прихожей – и тут Чуня опять начинала извергать свои собачьи проклятия. Да так, что в ушах звенит.
– Что случилось? – спрашивает гость. А сам чуть не плачет. – Почему она опять на меня лает?
– Она разлюбила вас, — безжалостно отвечал я.
Я никогда не могу вспомнить, когда именно сто лет назад я купил Чуню.
Помню, что это было в начале лета. Если проверять по сохранившемуся зачем-то собачьему паспорту (все остальное я сразу выбросил после ее смерти), то так как она родилась 24 марта, продавали ее, скорее всего, трехмесячной. В общем, где-то в июне.
(Мне и теперь подсказали: 29 июня 2007.)
Хорошая была собака. Своенравная. В руки сразу не давалась. (Ну кроме моих.) Даже тем, кого знала. Отскакивала. Сама решала, когда разрешит им себя погладить. Заодно сама решала, на чьих коленях, когда гости уже в доме, будет лежать. Ее, конечно, можно было ссадить, попробовать, рискнуть, стряхнуть, но ненадолго.
И еще – она всегда лаяла на уходящих.
Что там в этот момент в ее буйной голове переклинивало, неизвестно. Но лаяла всегда.
Моя любимая история (а я ее уже рассказывал) заключалась в следующем.
Вот приходит гость. Чуня лает, а гость перед ней пресмыкается (ах, какая миленькая собачка, ах, какая маленькая, ах, какой басовитый лай). Наконец она позволяла себя коснуться, погладить. Снизошла. Гость уже тает.
Потом все идут на кухню: Чуня сперва ложится на мои колени, чтоб потом через пять минут перебраться на колени пришедшего.
– Ой! А почему она выбрала именно меня? Она же так на меня лаяла? – спрашивает гость. А на глазах уже слезы умиления.
– Понятия не имею, – самым своим честным голосом говорю я. – Первый раз такое вижу! Видимо, она полюбила вас.
Гость уже просто плавится.
Но все хорошее когда-нибудь кончается. Гостю пора уходить. Он собирается в прихожей – и тут Чуня опять начинала извергать свои собачьи проклятия. Да так, что в ушах звенит.
– Что случилось? – спрашивает гость. А сам чуть не плачет. – Почему она опять на меня лает?
– Она разлюбила вас, — безжалостно отвечал я.