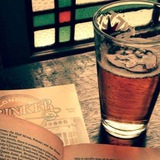Тезис 11
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАТВЕЕВЫМ ИЛЬЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАТВЕЕВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА Если сейчас Телеграм прекратит работу, начнет сбоить…
Интересная тема, конечно. Получается, в современном мире любая «публичная сфера» кому-то принадлежит — и, более того, её основополагающая цель и задача совсем не связана с реализацией тех вещей, которым служит публичная сфера.
Ну то есть: Юрген Хабермас, автор понятия в его современном смысле, определил публичную сферу (Öffentlichkeit) так: она «состоит из частных лиц, собравшихся вместе как общественность (публика) и выражающих потребности общества совместно/перед государством». Извините за корявую цитату. У публичной сферы, по Хабермасу, есть набор характерных ей черт: открытая дискуссия, критика действий власти, полная подотчетность, гласность и независимость действующих лиц от экономических интересов и контроля государства.
Но то, что привело к расцвету публичной сферы (капитализм как процесс накопления капитала и социального веса людьми, не включенными в традиционные режимы власти —двор и церковь) привело и к её конечному упадку: политика спонсируется бизнесом, «свободные» медиа тоже стали зависеть от кликов, лайков, трафика (то есть рекламных денег) или грантов/внешнего финансирования (то есть, опять же, капитала).
Телеграмы, Фейсбуки, Инстаграмы и прочие площадки — это, конечно, места, где частные лица формируют определенную общественную группу/публику, имеют дискуссии и тд. Но они не формулируют, в конечном итоге, никаких общественных требований — такие дискуссии не предполагают ничего, кроме дискуссии (или каких-то идентификационных игр — я с этими, я такой), это проведение времени. И, что еще важнее, цель самого существования такой площадки (а они, как мы давеча были заново проинформированы, принадлежат конкретным людям, находящимся в определенной системе отношений с государством и иными элитарными группами) — вовсе не в том, чтобы поддерживать те самые ценности публичной сферы. Они, как было сказано выше, нужны, чтобы их собственники, сотрудники и иные держатели коммерческих интересов (скажем, ребята, которые играют на курсе TON) могли заработать денег. Короче, можно сколько угодно создавать публичную сферу в телеграме, но какой в этом толк, если в любой момент Дурова могут повязать в аэропорту [вставьте название города].
Но на самом деле эту идею легко радикализировать: публичная сфера в интернете вообще не принадлежит, собственно, участникам публичной сферы. Сама суть и содержание публичных отношений между индивидами взята в аренду на рынке, управляемом арендодателями. Все доменные имена и хостинги мы арендуем. Интернет-провайдеры зависят от государственных институтов. В конце концов, интернет можно перерубить, заглушить, нормировать и так далее. Мы не управляем поисковой выдачей, алгоритмами соцсетей, тем, какие сайты у нас открываются, какие — нет. Аргументы технооптимистов и сингулярность Курцвела начинают казаться искаженной версией ночного кошмара.
Неспроста Хабермас возвращается к салонам, публичным библиотекам и прочим кофейням (местам, где публичная сфера в 17-18 веках и начала появляться). Это места человеческого интереса и привязанности, но их главное качество — что суть публичного разговора не является их производной, их в любой момент можно сменить. В России к ним можно добавить те самые гаражи Кордонского (уже, конечно, много где снесенные и закатанные под парковки), дачные поселки и кооперативы, домовые советы, публичные бани, клубы по интересам и тд — любые пространства, где полная индивидуализация по определению невозможна, где формируемая общность вполне может быть случайной. Если думать о каком-то политически значимом действии сегодня — то это не медиа, не какая-либо игра по правилам медиа, а немедийная публичная сфера — пожалуй, это оно и есть.
Но это, опять же, радикальная версия. Истина, как водится, где-то посередине.
(Написала этот пост днем, сейчас еще актуальнее).
Ну то есть: Юрген Хабермас, автор понятия в его современном смысле, определил публичную сферу (Öffentlichkeit) так: она «состоит из частных лиц, собравшихся вместе как общественность (публика) и выражающих потребности общества совместно/перед государством». Извините за корявую цитату. У публичной сферы, по Хабермасу, есть набор характерных ей черт: открытая дискуссия, критика действий власти, полная подотчетность, гласность и независимость действующих лиц от экономических интересов и контроля государства.
Но то, что привело к расцвету публичной сферы (капитализм как процесс накопления капитала и социального веса людьми, не включенными в традиционные режимы власти —двор и церковь) привело и к её конечному упадку: политика спонсируется бизнесом, «свободные» медиа тоже стали зависеть от кликов, лайков, трафика (то есть рекламных денег) или грантов/внешнего финансирования (то есть, опять же, капитала).
Телеграмы, Фейсбуки, Инстаграмы и прочие площадки — это, конечно, места, где частные лица формируют определенную общественную группу/публику, имеют дискуссии и тд. Но они не формулируют, в конечном итоге, никаких общественных требований — такие дискуссии не предполагают ничего, кроме дискуссии (или каких-то идентификационных игр — я с этими, я такой), это проведение времени. И, что еще важнее, цель самого существования такой площадки (а они, как мы давеча были заново проинформированы, принадлежат конкретным людям, находящимся в определенной системе отношений с государством и иными элитарными группами) — вовсе не в том, чтобы поддерживать те самые ценности публичной сферы. Они, как было сказано выше, нужны, чтобы их собственники, сотрудники и иные держатели коммерческих интересов (скажем, ребята, которые играют на курсе TON) могли заработать денег. Короче, можно сколько угодно создавать публичную сферу в телеграме, но какой в этом толк, если в любой момент Дурова могут повязать в аэропорту [вставьте название города].
Но на самом деле эту идею легко радикализировать: публичная сфера в интернете вообще не принадлежит, собственно, участникам публичной сферы. Сама суть и содержание публичных отношений между индивидами взята в аренду на рынке, управляемом арендодателями. Все доменные имена и хостинги мы арендуем. Интернет-провайдеры зависят от государственных институтов. В конце концов, интернет можно перерубить, заглушить, нормировать и так далее. Мы не управляем поисковой выдачей, алгоритмами соцсетей, тем, какие сайты у нас открываются, какие — нет. Аргументы технооптимистов и сингулярность Курцвела начинают казаться искаженной версией ночного кошмара.
Неспроста Хабермас возвращается к салонам, публичным библиотекам и прочим кофейням (местам, где публичная сфера в 17-18 веках и начала появляться). Это места человеческого интереса и привязанности, но их главное качество — что суть публичного разговора не является их производной, их в любой момент можно сменить. В России к ним можно добавить те самые гаражи Кордонского (уже, конечно, много где снесенные и закатанные под парковки), дачные поселки и кооперативы, домовые советы, публичные бани, клубы по интересам и тд — любые пространства, где полная индивидуализация по определению невозможна, где формируемая общность вполне может быть случайной. Если думать о каком-то политически значимом действии сегодня — то это не медиа, не какая-либо игра по правилам медиа, а немедийная публичная сфера — пожалуй, это оно и есть.
Но это, опять же, радикальная версия. Истина, как водится, где-то посередине.
(Написала этот пост днем, сейчас еще актуальнее).
❤20👍6🤩2
Forwarded from soloveev: жизнь на марсе 👩🎤
Следующим трендом после психологов будут философы
Вчера в рассылке у Миши Калашникова (одна из лучших рассылок, что я читаю) прочитал его ответ на вопрос, какие темы будут популярны через несколько лет. Миша среди прочего пишет:
Я согласен и думаю, что одним из инструментом по работе со смыслами будет старая добрая философия. Только переупакованная из академии в более доступную форму.
Моя мечта создать способ преподавания и обсуждения философии, доступный сегменту «айтишников» и «предпринимателей», изголодавшихся по работе со смыслами.
Я верю, что в ближайшем будущем к личному философу будет так же популярно ходить, как сейчас люди ходят к психологам. Каждую неделю ходишь обсуждать смыслы жизни или философские тексты.
В Форбсе недавно вышла статья о будущем философии с исследованием этого тренда: «В поиске новых смыслов: почему на фоне мирового кризиса философия становится «модной».
Напр. там упоминается такое:
В России все популярнее становятся подкасты на философские темы. Философ Александр Ветушинский размышляет о роли философа вне академии. Илья Ляшко предлагает взрослым людям индивидуальные занятия философией. Диана Гаспарян на Страдариуме начинает второй поток курса «Введение в практику философствования». Олег Пащенко уже лет десять преподает ядерную смесь из дизайна и философии. Многие мои друзья ходят на философские ридинги или создают свои.
У философии большой порог вхождения, но те проблемы, которые она поднимает, актуальны многим. Хотите понять ИИ и технологическую повестку — курите Ника Ланда, e/acc, АСТ, объектно-ориентированные онтологии, отношение к прогрессу и технологиям.
Эта востребованная дисциплина будет сплавом из философии, социологии, истории человеческой мысли, теории о человеке и обществе и, конечно, о вещах.
Ее будут называть по разному: практические философия, смыслология, экзистенциальная навигация, смысловой дизайн, онтологический коучинг, метафизика современности. Другие будут говорить, что это важный мета-навык, столь же необходимый как и софт скиллы.
Все это будет плюс минус про одно — про умение работать со смыслами. Не только создание их, а именно работа с ними, которая подразумевает много — от понимания и чтения в посведневности до экранирования и присвоения.
Будет интересно. И предстоит большая работа.
Вчера в рассылке у Миши Калашникова (одна из лучших рассылок, что я читаю) прочитал его ответ на вопрос, какие темы будут популярны через несколько лет. Миша среди прочего пишет:
• в мире очень не хватает смысла, и будет востребовано все, что помогает увидеть цели и ориентиры;
Я согласен и думаю, что одним из инструментом по работе со смыслами будет старая добрая философия. Только переупакованная из академии в более доступную форму.
Моя мечта создать способ преподавания и обсуждения философии, доступный сегменту «айтишников» и «предпринимателей», изголодавшихся по работе со смыслами.
Я верю, что в ближайшем будущем к личному философу будет так же популярно ходить, как сейчас люди ходят к психологам. Каждую неделю ходишь обсуждать смыслы жизни или философские тексты.
В Форбсе недавно вышла статья о будущем философии с исследованием этого тренда: «В поиске новых смыслов: почему на фоне мирового кризиса философия становится «модной».
Напр. там упоминается такое:
В Европе и США развито такое понятие, как «философское консультирование», есть профессиональные ассоциации, которые подразумевают сертифицирование участников. В Германии и Франции работают фило-кафе (café-philo), где проходят регулярные встречи под руководством модераторов-философов, есть отдельные «философские кабинеты», куда ты можешь ходить поговорить о жизни, как мы сегодня ходим к психологам.
В России все популярнее становятся подкасты на философские темы. Философ Александр Ветушинский размышляет о роли философа вне академии. Илья Ляшко предлагает взрослым людям индивидуальные занятия философией. Диана Гаспарян на Страдариуме начинает второй поток курса «Введение в практику философствования». Олег Пащенко уже лет десять преподает ядерную смесь из дизайна и философии. Многие мои друзья ходят на философские ридинги или создают свои.
У философии большой порог вхождения, но те проблемы, которые она поднимает, актуальны многим. Хотите понять ИИ и технологическую повестку — курите Ника Ланда, e/acc, АСТ, объектно-ориентированные онтологии, отношение к прогрессу и технологиям.
Эта востребованная дисциплина будет сплавом из философии, социологии, истории человеческой мысли, теории о человеке и обществе и, конечно, о вещах.
Ее будут называть по разному: практические философия, смыслология, экзистенциальная навигация, смысловой дизайн, онтологический коучинг, метафизика современности. Другие будут говорить, что это важный мета-навык, столь же необходимый как и софт скиллы.
Все это будет плюс минус про одно — про умение работать со смыслами. Не только создание их, а именно работа с ними, которая подразумевает много — от понимания и чтения в посведневности до экранирования и присвоения.
Будет интересно. И предстоит большая работа.
❤13👍1
soloveev: жизнь на марсе 👩🎤
Следующим трендом после психологов будут философы Вчера в рассылке у Миши Калашникова (одна из лучших рассылок, что я читаю) прочитал его ответ на вопрос, какие темы будут популярны через несколько лет. Миша среди прочего пишет: • в мире очень не хватает…
Есть у меня похожее наблюдение. Возможно, это как раз-таки эффект пузыря — я стала философом, и вокруг меня зароилась философия.
Но есть и вполне сильный аргумент о том, что сейчас людям в жизни (особенно после определенного её предела, и в определенных её условиях, конечно) не хватает смысла — того самого «большего, чем я» ответа на вопрос «зачем все это». Пространство и язык для разговора о не-сиюминутном, не-проходящем, не-связанном с бытовыми, повседневными, рабочими или семейными делами, раньше предоставляла религия. Скажем, каждое воскресенье, по доброй воле или из-за социальной конвенции, но многие люди шли в церковь — в их расписании было буквально выделено «время для размышлений о вечности/смерти/любви/боге/трансцендентном». И было, конечно, совершенно необязательно знать слово трансценденция, чтобы о ней думать.
Но духовность из общества модерна постепенно вымывается — она заменяется технократическим мышлением, на место смысла жизни ставится бесконечный прогресс, направленный в неопределенное будущее, история то заканчивается, то вдруг начинается снова, человек обнаруживает себя на вершине мира, куда он сам себя поставил, и он там космически, невероятно одинок. После смерти бога и автора ему оказывается совсем не с кем поговорить. Как говорится, протестант работал, потому что рассчитывал оказаться в раю, а мы работаем, просто потому что должны. И в какой-то момент такое положение вещей начинает вызывать понятные вопросы.
Причем запрос этот на «большее, чем я» на самом деле неоднороден — кто-то хочет, чтобы этот смысл ему/ей просто сообщили, как раньше сообщали в церкви; кто-то же хочет его для себя создать (найти, придумать, вывести, утвердиться). И кажется, в обоих случаях философия — хорошее место, чтобы начать.
Но у неё есть довольно значительное слабое место. Западная философия со временем превратилась в сферу профессиональной деятельности — это довольно сложная академическая сфера с высоким порогом вхождения, собственным языком и прочими прелестями институционализированной науки. Восточная философия для западного человека порой оказывается еще сложнее, потому что она-то как раз нарочито проста — и нам сложно отбросить выученный годами критического взгляда скептицизм.
Во всю эту философию очень тяжело войти — и я думаю, в значительной степени потому, что эта связка между запросом на смысл и философией до сих пор не такая явная для большинства людей. Психотерапия существовала десятки лет, но настоящий бум у неё случился тогда, когда понимание связи между «что-то мне хреново» и психотерапией стало общим местом — благодаря популяризации терапии, её языка и инструментов (у этого есть обратный эффект — поп-психология и падение среднего уровня этой сферы вообще, но сейчас не об этом). Связь философии и создания собственного смысла или интереса к жизни пока что общим местом не является. Мало кто, как мне кажется, думает: блин, что-то мне бессмысленно. Пойду-ка я почитаю Платона или схожу на философский кружок или поговорю с философом. И вот здесь лежит, на мой взгляд, самая большая сложность: человеческая (в плане ресурсов), коммуникационная (в плане как про это рассказать, сделать понятным), и даже «продуктовая» в широком смысле (как это вообще упаковать, как это должно работать).
Возможно, философии стоит вернуться к призванию, от которого ей, вероятно, никогда и не следовало отказываться, и снова стать «областью, которая с незапамятных времен считалась истинной областью философии, но которая <...> впала в интеллектуальное запустение, нравоучительность и, наконец, в забвение: учение о хорошей жизни (the teaching of the good life)» (с) Теодор Адорно.
И вот как сделать это — тут, действительно, придется хорошенько поработать.
Но есть и вполне сильный аргумент о том, что сейчас людям в жизни (особенно после определенного её предела, и в определенных её условиях, конечно) не хватает смысла — того самого «большего, чем я» ответа на вопрос «зачем все это». Пространство и язык для разговора о не-сиюминутном, не-проходящем, не-связанном с бытовыми, повседневными, рабочими или семейными делами, раньше предоставляла религия. Скажем, каждое воскресенье, по доброй воле или из-за социальной конвенции, но многие люди шли в церковь — в их расписании было буквально выделено «время для размышлений о вечности/смерти/любви/боге/трансцендентном». И было, конечно, совершенно необязательно знать слово трансценденция, чтобы о ней думать.
Но духовность из общества модерна постепенно вымывается — она заменяется технократическим мышлением, на место смысла жизни ставится бесконечный прогресс, направленный в неопределенное будущее, история то заканчивается, то вдруг начинается снова, человек обнаруживает себя на вершине мира, куда он сам себя поставил, и он там космически, невероятно одинок. После смерти бога и автора ему оказывается совсем не с кем поговорить. Как говорится, протестант работал, потому что рассчитывал оказаться в раю, а мы работаем, просто потому что должны. И в какой-то момент такое положение вещей начинает вызывать понятные вопросы.
Причем запрос этот на «большее, чем я» на самом деле неоднороден — кто-то хочет, чтобы этот смысл ему/ей просто сообщили, как раньше сообщали в церкви; кто-то же хочет его для себя создать (найти, придумать, вывести, утвердиться). И кажется, в обоих случаях философия — хорошее место, чтобы начать.
Но у неё есть довольно значительное слабое место. Западная философия со временем превратилась в сферу профессиональной деятельности — это довольно сложная академическая сфера с высоким порогом вхождения, собственным языком и прочими прелестями институционализированной науки. Восточная философия для западного человека порой оказывается еще сложнее, потому что она-то как раз нарочито проста — и нам сложно отбросить выученный годами критического взгляда скептицизм.
Во всю эту философию очень тяжело войти — и я думаю, в значительной степени потому, что эта связка между запросом на смысл и философией до сих пор не такая явная для большинства людей. Психотерапия существовала десятки лет, но настоящий бум у неё случился тогда, когда понимание связи между «что-то мне хреново» и психотерапией стало общим местом — благодаря популяризации терапии, её языка и инструментов (у этого есть обратный эффект — поп-психология и падение среднего уровня этой сферы вообще, но сейчас не об этом). Связь философии и создания собственного смысла или интереса к жизни пока что общим местом не является. Мало кто, как мне кажется, думает: блин, что-то мне бессмысленно. Пойду-ка я почитаю Платона или схожу на философский кружок или поговорю с философом. И вот здесь лежит, на мой взгляд, самая большая сложность: человеческая (в плане ресурсов), коммуникационная (в плане как про это рассказать, сделать понятным), и даже «продуктовая» в широком смысле (как это вообще упаковать, как это должно работать).
Возможно, философии стоит вернуться к призванию, от которого ей, вероятно, никогда и не следовало отказываться, и снова стать «областью, которая с незапамятных времен считалась истинной областью философии, но которая <...> впала в интеллектуальное запустение, нравоучительность и, наконец, в забвение: учение о хорошей жизни (the teaching of the good life)» (с) Теодор Адорно.
И вот как сделать это — тут, действительно, придется хорошенько поработать.
❤21✍1🗿1
(Кажется, это хорошая возможность между делом напомнить, что практической философией (или философским консультированием) я как раз-таки и люблю заниматься — поэтому если вдруг вам что-то бессмысленно, или зацепило что-то вышесказанное, или давно хотелось почитать Платона (или Канта, или Маркса, или Еву Иллуз, или «что-нибудь про буддизм/счастье/смысл жизни/смерть/связь тела и сознания», или вообще любой другой запрос, прямо или косвенно связанный с какими-то сложными концепциями или вопросами) — то это можно сделать, например, со мной. Just saying!)
Telegram
Вроде культурный человек
Быстрый анонс номер два: на ближайшие месяцы есть несколько мест для философских консультаций / совместных ридингов, индивидуальных или групповых.
Я дипломированный политфилософ (мда) и за последнее время провела некоторое количество разных чтений с последующим…
Я дипломированный политфилософ (мда) и за последнее время провела некоторое количество разных чтений с последующим…
❤11🔥4
Предложила коллегам по философскому кружку прочитать Парменида — одного из досократических философов, который в метафорической поэме «О природе» заложил начала метафизики as we know it, разделил истину и мнение, сообщил нам, что «мыслить и быть — одно и то же». Иными словами, текста там страниц на двадцать, а комментариев к этому тексту — на миллионы страниц и сотни лет (ради этого мы занимаемся западной философией? видимо, да). Например, свой подход к чтению Парменида сделал и Мартин Хайдеггер, значительно интересовавшийся вопросами бытия и истины.
Читать к кружку Хайдеггера я, конечно, не стала — дай, думаю, посмотрю какую-нибудь лекцию, и быстренько все пойму.
Лекция:
Читать к кружку Хайдеггера я, конечно, не стала — дай, думаю, посмотрю какую-нибудь лекцию, и быстренько все пойму.
Лекция:
💯9👍2
Forwarded from Ekaterina Kudryavtseva
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😁10❤8
Forwarded from Учусь как умею
Меня пост выше радует, но смущает представлением о том, что такое знание:
- больше похоже на факты о мире. И когда нам внушают то, что в нас чего-то нет, а вот в этом курсе есть жизненно важные факты и это даёт дорогу к лучшей жизни, то из ощущения дефицита мы идём покупать курс.
Или надежда на лучшее даёт нам такое обучение, которое поддерживает нас в наших заблуждениях. Мы находим непротиворечивый для себя курс и платим за дискуссии, чтобы показывать какие молодцы, что уже шарим в материале.
Автор поста принимает решение воздержаться, не разделять эти идеи (мой респект 💪). Что поможет в этом воздержании? Сила воли?
Я бы добавила сюда вот что: знания — это самостоятельно добытые суждения, как дом, который мы должны строить только на своей земле. Если это кем-то принесённые факты, то они временные и перестраиваются без нашего участия.
unlearning — это умение разучиваться быть переносчиками фактов и стать владельцами своей земли, на которой нужно ещё научиться выстраивать самостоятельные суждения. В таком случае мы идём налегке и не тащим "рюкзак знаний", ведь рюкзак нужен тогда, когда мы не знаем что несём, не понимаем оснований о каком предмете речь и нам нужно эту раздробленность как-то обобщить. Ну в "портфель компетенций" ещё собрать.
Мочь-не-мочь и уметь отказаться от переноски чужой картины мира и разных фактов о нём —это и есть освобождение. Потом ты начинаешь учиться вообще по-другому, не учиться, а познавать.
Это свобода быть самостоятельно мыслящим человеком.
#философиязнаний
Считать свои знания неполными и стремиться их дополнять
- больше похоже на факты о мире. И когда нам внушают то, что в нас чего-то нет, а вот в этом курсе есть жизненно важные факты и это даёт дорогу к лучшей жизни, то из ощущения дефицита мы идём покупать курс.
Или надежда на лучшее даёт нам такое обучение, которое поддерживает нас в наших заблуждениях. Мы находим непротиворечивый для себя курс и платим за дискуссии, чтобы показывать какие молодцы, что уже шарим в материале.
Автор поста принимает решение воздержаться, не разделять эти идеи (мой респект 💪). Что поможет в этом воздержании? Сила воли?
Я бы добавила сюда вот что: знания — это самостоятельно добытые суждения, как дом, который мы должны строить только на своей земле. Если это кем-то принесённые факты, то они временные и перестраиваются без нашего участия.
unlearning — это умение разучиваться быть переносчиками фактов и стать владельцами своей земли, на которой нужно ещё научиться выстраивать самостоятельные суждения. В таком случае мы идём налегке и не тащим "рюкзак знаний", ведь рюкзак нужен тогда, когда мы не знаем что несём, не понимаем оснований о каком предмете речь и нам нужно эту раздробленность как-то обобщить. Ну в "портфель компетенций" ещё собрать.
Мочь-не-мочь и уметь отказаться от переноски чужой картины мира и разных фактов о нём —это и есть освобождение. Потом ты начинаешь учиться вообще по-другому, не учиться, а познавать.
Это свобода быть самостоятельно мыслящим человеком.
#философиязнаний
👍8🔥1
Учусь как умею
Меня пост выше радует, но смущает представлением о том, что такое знание: Считать свои знания неполными и стремиться их дополнять - больше похоже на факты о мире. И когда нам внушают то, что в нас чего-то нет, а вот в этом курсе есть жизненно важные факты…
Считается, что разучение того, что ты раньше знал (или думал, что знал), во что верил и в чем был убежден (хотя в некотором смысле — убеждения и есть вера) — это необходимый шаг к истинному познанию. Например, у античных философов.
Скажем, афоризм, приписываемый Сократу или Демокриту: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого», означает примерно следующее: люди чаще всего заблуждаются в своих знаниях (например, принимая убеждения или мнения за знания), но когда мы знаем о своем незнании, мы знаем больше, чем все остальные, ибо они о своем незнании не осведомлены. Знание и не-знание находятся в диалектической связи: если представить знания в виде шара (одно из любимых развлечений древних греков — представить что-нибудь в форме шара или круга), то, чем больше шар знания, тем больше площадь поверхности шара, представляющая незнание. Чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Ну, спасибо, наверное.
У Парменида богиня Истины встречает философа предложением немедленно отказаться от всего, что он считал верным до этого: если ты хочешь знать истину, ты должен отринуть ВСЕ легковесные мнения смертных. Но, отказываясь принимать на веру иллюзорные представления о мире (к ним Парменид относил и науку — большинство людей в истории Земли умерли, железобетонно веря в какую-то научную истину, которая позже была опровергнута или изменена), он все же призывает понять, почему они таковы и почему кажутся людям чем-то подлинным. Более того, некоторые из них вполне могут оказаться истинны — но это ситуативная истина, лишенная основы (действительного понимания подлинного бытия). В размышлениях о мире нам все же нужен какой-то предмет.
Кхем, извините. Собственно, в этой последней идее есть интересная штука: кроме свободы быть мыслящим человеком обнаруживается, как мне кажется, кое-что еще — необходимость понять «пути смертных», то есть то, как и почему и я, и другие люди воспринимают мир именно таким образом. Конечно, мое восприятие мира иллюзорно — чужое тоже — но это необязательно значит, что вообще все концепции и модели нужно выкинуть на помойку. Нужно лишь допустить, что все они вероятностны — то есть могут совпасть с истиной, а могут и не совпасть.
Греку всегда предлагается полемизировать. Не столько искать, рациональным способом пытаться познать истину — а раскрывать «сокрытость», не-истину. Воспринимать любое знание о мире (в том числе свое собственное) как что-то, в чем может быть скрыто нечто другое.
Собственно, меня в философии в первую очередь привлекло именно это: не практический ракурс политической философии, не фреймворки для «поиска истины», не чисто академическое понимание того, «как все устроено» (хотя и все эти вещи безусловно тоже). Вопрос, который занимает меня больше всего — «да, но почему я так думаю, почему мы так в этом уверены, откуда вообще взялось это убеждение, и как наши действия объясняются через призму этих моделей мира?». Ну и далее, конечно — что в этих моделях должно измениться, чтобы изменилась наша жизненная практика.
В этом смысле, все, что мы знаем, вполне следует воспринимать всерьез — как основу для постоянного доуточнения своей картины мира. Такое промежуточное состояние — между поиском более удачной, готовенькой картины мира где-нибудь в интернете, когда старая перестала устраивать, и полным отказом/разрушением того, что ты когда-либо знал, в надежде заполнить освободившееся пространство как-то иначе.
(Очень увлекательно).
(Кстати, следующий вопрос мог бы быть: но ведет ли такой путь к ясности, или только создает бесконечные разветвления «да, но»?).
Скажем, афоризм, приписываемый Сократу или Демокриту: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого», означает примерно следующее: люди чаще всего заблуждаются в своих знаниях (например, принимая убеждения или мнения за знания), но когда мы знаем о своем незнании, мы знаем больше, чем все остальные, ибо они о своем незнании не осведомлены. Знание и не-знание находятся в диалектической связи: если представить знания в виде шара (одно из любимых развлечений древних греков — представить что-нибудь в форме шара или круга), то, чем больше шар знания, тем больше площадь поверхности шара, представляющая незнание. Чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Ну, спасибо, наверное.
У Парменида богиня Истины встречает философа предложением немедленно отказаться от всего, что он считал верным до этого: если ты хочешь знать истину, ты должен отринуть ВСЕ легковесные мнения смертных. Но, отказываясь принимать на веру иллюзорные представления о мире (к ним Парменид относил и науку — большинство людей в истории Земли умерли, железобетонно веря в какую-то научную истину, которая позже была опровергнута или изменена), он все же призывает понять, почему они таковы и почему кажутся людям чем-то подлинным. Более того, некоторые из них вполне могут оказаться истинны — но это ситуативная истина, лишенная основы (действительного понимания подлинного бытия). В размышлениях о мире нам все же нужен какой-то предмет.
Кхем, извините. Собственно, в этой последней идее есть интересная штука: кроме свободы быть мыслящим человеком обнаруживается, как мне кажется, кое-что еще — необходимость понять «пути смертных», то есть то, как и почему и я, и другие люди воспринимают мир именно таким образом. Конечно, мое восприятие мира иллюзорно — чужое тоже — но это необязательно значит, что вообще все концепции и модели нужно выкинуть на помойку. Нужно лишь допустить, что все они вероятностны — то есть могут совпасть с истиной, а могут и не совпасть.
Греку всегда предлагается полемизировать. Не столько искать, рациональным способом пытаться познать истину — а раскрывать «сокрытость», не-истину. Воспринимать любое знание о мире (в том числе свое собственное) как что-то, в чем может быть скрыто нечто другое.
Собственно, меня в философии в первую очередь привлекло именно это: не практический ракурс политической философии, не фреймворки для «поиска истины», не чисто академическое понимание того, «как все устроено» (хотя и все эти вещи безусловно тоже). Вопрос, который занимает меня больше всего — «да, но почему я так думаю, почему мы так в этом уверены, откуда вообще взялось это убеждение, и как наши действия объясняются через призму этих моделей мира?». Ну и далее, конечно — что в этих моделях должно измениться, чтобы изменилась наша жизненная практика.
В этом смысле, все, что мы знаем, вполне следует воспринимать всерьез — как основу для постоянного доуточнения своей картины мира. Такое промежуточное состояние — между поиском более удачной, готовенькой картины мира где-нибудь в интернете, когда старая перестала устраивать, и полным отказом/разрушением того, что ты когда-либо знал, в надежде заполнить освободившееся пространство как-то иначе.
(Очень увлекательно).
(Кстати, следующий вопрос мог бы быть: но ведет ли такой путь к ясности, или только создает бесконечные разветвления «да, но»?).
❤13💯5🔥1
То почему философ является источником закона, но не является источником власти, объясняется на основании того тина посредничества, которое философ собой являет. Как можно видеть на примере поэмы Парменида, философ говорит о вечной и недвижной Истине, находясь посреди не вечного и изменчивого, и, приобщаясь к вечному, сам становится проявлением вечного в невечном, неподвижного в подвижном. Философ, конечно, не может сделать все вокруг себя неподвижным и вечным, но он может стать осью, которая придает этому движению определенную упорядоченность, постоянство, которое может давать «отблеск вечности». Это постоянство может быть передано только посредством законов. Самому философу закон присущ внутренне, и, как говорит Аристипп, философы превосходят остальных тем, что, «если все законы уничтожаются, мы одни будем жить по-прежнему» (Диоген Лаэрций, 2.8.68.).
Когда думал, что философское образование дает возможность хихикать над философскими мемами, а оно делает тебя осью между вечным и невечным. А у нас между прочим и так риски стать осью зла были повышены, предупреждать надо.
(Вообще, кроме шуток — античное представление о том, на что способен философ не только с точки зрения логоса, способности к рассуждению/мышлению/поиску ответов на сложнейшие вопросы, но и с точки зрения собственной этической системы, внутренней стойкости, непротиворечивости и осознанности своих поступков поражает воображение.
Короче, если и школа философии, то только такая: тренируем внутреннюю устойчивость; развиваем и соблюдаем внутренний закон; перепрыгиваем через жизненные трудности; интеллектуальная медитация на богиню истины; мантра «я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»; созерцание: профессиональный уровень. Записывайтесь, осталось всего два местечка).
✍11😁7💯2
Вроде культурный человек
Считается, что разучение того, что ты раньше знал (или думал, что знал), во что верил и в чем был убежден (хотя в некотором смысле — убеждения и есть вера) — это необходимый шаг к истинному познанию. Например, у античных философов. Скажем, афоризм, приписываемый…
Кстати, про картины мира. Давно писала, как меня поразило, что одна из основных черт характера Гарри Поттера — удивительное отсутствие интереса в том, как устроен магический мир, учитывая, что он попал туда в сознательном возрасте, с некоторой предустановленной картиной мира (не-магической). Вообще любопытство, желание знать, разобраться, что-то понять, в мире ГП — черта подозрительная; она либо делает тебя смешным (как Гермиону, Невилла или папу Уизли), либо, цитируя другую классику, потенциально опасным мудаком (как, скажем, Тома Реддла или Дамблдора). Понятная установка: многие знания — многие печали, лучше кушай шоколадных лягушек и летай на метле. Гарри Поттер живет в магическом мире, как в Диснейленде — это всего лишь аттракцион, иногда веселый, иногда опасный, но это всегда что-то, что с Гарри случается, и он никогда не знает, почему.
Но вообще, кто населяет британский магический мир, какими мы регулярно видим его жителей? Они ведутся на сплетни и громкие заголовки, их элита снобская, злобная и глуповатая, они движимы простыми страхами, реактивны, запрещают, высмеивают или жестоко наказывают все, чего не понимают или боятся, считают, что качество людей зависит от крови, постоянно чувствуют, что их жизни что-то угрожает, они консервативны, традиционалистичны, бюрократичны и лишены воображения. Воображение и любопытство сделает тебя злодеем, не забывай, Гарри.
И это, как мне кажется, очень даже отражено в их системе образования: иными словами, а каких еще людей может произвести Хогвартс?
В нем преподают семь основных предметов: Трансфигурация, Заклинания, Зельеварение, История магии, Защита от Темных искусств, Астрономия и Травология.
Позже можно выбрать еще два предмета, но после экзаменов бросить: Нумерология, Магловедение, Прорицания, Изучение Древних рун и Уход за магическими существами.
Большинство предметов, так или иначе, скорее практичны: мы учимся превращать кубки в мышей, лупонить магией по людям и не-людям, сажать растения, мешать зелья, чинить очки и открывать двери. Единственная гуманитарная дисциплина — История магии, она чудовищна, ее нудит призрак и на ней все спят. Вторая — Магловедение, ненужное тем, кто пришел из мира маглов, и не очень понятное, как дисциплина, в мире, где маглы — это что-то унизительное и презираемое.
В самом практическом обучении нет ничего плохого, но по сути образовательная программа в мире магов состоит из разных форм ОБЖ (как выжить), труда (как сделать или вырастить что-то) и спорта (причем без, собственно, физической культуры/фитнеса — скорее, это что-то типа агрессивных смертельно опасных гонок на воздушных картах).
Думаю, понятно, к чему я веду: в этом мире вообще нет гуманитарных наук, которые предполагали бы изучение и разговор и том, как устроено общество, политика, мышление, знание, связи между людьми, литература, искусство. Там не рассказывают, как устроен суд (хотя судилищ в магическом мире порядочно), законы, общественное управление, как работает реальность вокруг них в социальном, культурном и политическом смысле. Науки о мире сводятся к травам, зельям, магии, нумерологии, рунам, прорицаниям. Школа выпускает естественно-научников, спортсменов и ментов. В итоге это мы и видим: людей, увлеченных естественно-научной дисциплиной (смесью субстанций; растениями), каким-то делом (практической магией; войной), и бюрократов (работников системы). Эта образовательная система говорит: не надо думать о том, как устроено общество, вот министры, они все знают и накажут вас, если сочтут нужным. Общественная жизнь скрыта туманом неявных запретов. Такой мир мы и видим: не вовлекающихся людей, невротичных, наказывающих непонятное (например, Гермиону, которая узнает, что школьное благо основано на рабовладельческой системе; бороться против неё — стыдно и смешно, ведь всем все нравится).
Короче. Магам бы историю (хорошую), литературу и социальные науки, и вот бы зажилось-то.
Но вообще, кто населяет британский магический мир, какими мы регулярно видим его жителей? Они ведутся на сплетни и громкие заголовки, их элита снобская, злобная и глуповатая, они движимы простыми страхами, реактивны, запрещают, высмеивают или жестоко наказывают все, чего не понимают или боятся, считают, что качество людей зависит от крови, постоянно чувствуют, что их жизни что-то угрожает, они консервативны, традиционалистичны, бюрократичны и лишены воображения. Воображение и любопытство сделает тебя злодеем, не забывай, Гарри.
И это, как мне кажется, очень даже отражено в их системе образования: иными словами, а каких еще людей может произвести Хогвартс?
В нем преподают семь основных предметов: Трансфигурация, Заклинания, Зельеварение, История магии, Защита от Темных искусств, Астрономия и Травология.
Позже можно выбрать еще два предмета, но после экзаменов бросить: Нумерология, Магловедение, Прорицания, Изучение Древних рун и Уход за магическими существами.
Большинство предметов, так или иначе, скорее практичны: мы учимся превращать кубки в мышей, лупонить магией по людям и не-людям, сажать растения, мешать зелья, чинить очки и открывать двери. Единственная гуманитарная дисциплина — История магии, она чудовищна, ее нудит призрак и на ней все спят. Вторая — Магловедение, ненужное тем, кто пришел из мира маглов, и не очень понятное, как дисциплина, в мире, где маглы — это что-то унизительное и презираемое.
В самом практическом обучении нет ничего плохого, но по сути образовательная программа в мире магов состоит из разных форм ОБЖ (как выжить), труда (как сделать или вырастить что-то) и спорта (причем без, собственно, физической культуры/фитнеса — скорее, это что-то типа агрессивных смертельно опасных гонок на воздушных картах).
Думаю, понятно, к чему я веду: в этом мире вообще нет гуманитарных наук, которые предполагали бы изучение и разговор и том, как устроено общество, политика, мышление, знание, связи между людьми, литература, искусство. Там не рассказывают, как устроен суд (хотя судилищ в магическом мире порядочно), законы, общественное управление, как работает реальность вокруг них в социальном, культурном и политическом смысле. Науки о мире сводятся к травам, зельям, магии, нумерологии, рунам, прорицаниям. Школа выпускает естественно-научников, спортсменов и ментов. В итоге это мы и видим: людей, увлеченных естественно-научной дисциплиной (смесью субстанций; растениями), каким-то делом (практической магией; войной), и бюрократов (работников системы). Эта образовательная система говорит: не надо думать о том, как устроено общество, вот министры, они все знают и накажут вас, если сочтут нужным. Общественная жизнь скрыта туманом неявных запретов. Такой мир мы и видим: не вовлекающихся людей, невротичных, наказывающих непонятное (например, Гермиону, которая узнает, что школьное благо основано на рабовладельческой системе; бороться против неё — стыдно и смешно, ведь всем все нравится).
Короче. Магам бы историю (хорошую), литературу и социальные науки, и вот бы зажилось-то.
Telegram
Вроде культурный человек
В один из моментов пересмотра или перечитывания Гарри Поттера меня поразила в самую печень удивительное понимание: Гарри был полностью, фатально нелюбопытен. Его любимыми предметами был квиддич (потому что это круто) и Защита от Темных искусств (потому что…
🔥55❤14👍7😁4👎1🤔1
(Если что, я понимаю все условности и причины, почему этот мир именно так написан; и не говорю, что в мире Гарри Поттера все должны быть философами (хотя именно на похожей предпосылке построена «Гарри Поттер и методы рационального мышления»). Скорее, использую всем известную магическую школу в качестве иллюстрации тезиса: устройство мира зависит от того, как мы на него смотрим и как мы его понимаем. И наоборот. И мне кажется, это очень конечно интересно все).
❤43🗿1
О демократическом популизме (1/2,5)
Как раз подсхлынула политическая аналитика по выборам в Америке, где, как всем однозначно известно (об этом не забывают регулярно сообщать абсолютно независимые американские и европейские СМИ) победил популистский лидер. И это плохо. Потому что популизм — это плохо.
Но что это вообще значит?
Современное использование термина «популизм» предполагает набор универсальных элементов, которые должны легко считываться. Когда мы говорим — популизм, мы имеем в виду что-то или кого-то глупого, жестокого, параноидального и агрессивного; это орудие манипуляции; популист или популистская политика настроена против конституционного либерально-демократического порядка; его/её/их задача — уничтожить независимые суды, свободу СМИ, гражданские права и справедливые законы; популизм неизбежно вырождается в ту или иную форму недемократического и авторитарного порядка.
Это — распространенный нарратив, но его универсальность сомнительна. В современной политической азбуке есть две максимы: первая — демократия всегда есть желаемый результат развития любой политической системы, достояние цивилизации, её венец; вторая — существующие демократии всегда под угрозой, им вечно что-то угрожает, буквально одна ошибка — и ты ошибся, нет больше никакой демократии.
Удивительное отсутствие стойкости для главного достижения человеческой мысли, не правда ли?
«Популизм — извечный враг демократии» — это то же самое, что и сказать «демократия — извечный враг демократии». Главный враг демократии — она сама. Это не новая идея: еще Платон, один из виднейших критиков демократии, предупреждал — демократия лишь прикрывается свободой, на самом деле это хаос, который по античной политической мысли неизбежно сменяется тиранией. Народ необразован, глуп и склонен к склокам, люди не могут договориться между собой и склонны верить популистским лидерам. Толпа приводит к власти людей, не обладающих достаточными личными качествами для справедливого и разумного управления. Короче, современное представление о популизме — это и есть определение демократии (по Платону).
Удивительно, но сторонники демократии также невысоко оценивают её внутреннюю устойчивость — то есть способность выстоять против как внешних, так и внутренних (!) врагов. В 30-х годах прошлого века немецкий юрист Карл Лёвенштейн, сбежав из Германии в США, описал воинствующую демократию: систему, которая должна защищать демократические права и свободы — сознательно ограничивая эти права и свободы для выбранного ряда лиц (эта идея была очевидным образом мотивирована политической обстановкой Германии 30-х). Идея проста: популистские и анти-демократические лидеры могут придти к власти демократическими путями, а потом уничтожить демократию. Чтобы защититься от этого, в демократическом государстве должны быть механизмы, которые ограничивают определенных людей или группу лиц в участии в политике — вплоть до (конечно же временного!) прекращения действия выборов и иных (крайне условно, честно скажем) демократических механизмов. Так демократия уничтожает сама себя — она буквально «выключает» свои основополагающие предпосылки. И делает это она ради борьбы с популизмом — по которым в данном случае понимается риск неправильного народного выбора.
Итак, демократия опасна сама для себя, и причина этого — народ, который для устойчивости демократии опасен. Да, демократия — это вроде как про свободу выбора, но нет, не так. Народный выбор может быть правильным и неправильным, и вообще человек свободным быть умеет плохо.
Демократия, вполне вероятно, лучше иных форм управления. Но демократы проигрывают и будут проигрывать — мне кажется, тут есть тысячи причин, и как минимум две из них носят системный характер. (На полноту картины в телеграм-постике, конечно, не претендую).
Как раз подсхлынула политическая аналитика по выборам в Америке, где, как всем однозначно известно (об этом не забывают регулярно сообщать абсолютно независимые американские и европейские СМИ) победил популистский лидер. И это плохо. Потому что популизм — это плохо.
Но что это вообще значит?
Современное использование термина «популизм» предполагает набор универсальных элементов, которые должны легко считываться. Когда мы говорим — популизм, мы имеем в виду что-то или кого-то глупого, жестокого, параноидального и агрессивного; это орудие манипуляции; популист или популистская политика настроена против конституционного либерально-демократического порядка; его/её/их задача — уничтожить независимые суды, свободу СМИ, гражданские права и справедливые законы; популизм неизбежно вырождается в ту или иную форму недемократического и авторитарного порядка.
Это — распространенный нарратив, но его универсальность сомнительна. В современной политической азбуке есть две максимы: первая — демократия всегда есть желаемый результат развития любой политической системы, достояние цивилизации, её венец; вторая — существующие демократии всегда под угрозой, им вечно что-то угрожает, буквально одна ошибка — и ты ошибся, нет больше никакой демократии.
Удивительное отсутствие стойкости для главного достижения человеческой мысли, не правда ли?
«Популизм — извечный враг демократии» — это то же самое, что и сказать «демократия — извечный враг демократии». Главный враг демократии — она сама. Это не новая идея: еще Платон, один из виднейших критиков демократии, предупреждал — демократия лишь прикрывается свободой, на самом деле это хаос, который по античной политической мысли неизбежно сменяется тиранией. Народ необразован, глуп и склонен к склокам, люди не могут договориться между собой и склонны верить популистским лидерам. Толпа приводит к власти людей, не обладающих достаточными личными качествами для справедливого и разумного управления. Короче, современное представление о популизме — это и есть определение демократии (по Платону).
Удивительно, но сторонники демократии также невысоко оценивают её внутреннюю устойчивость — то есть способность выстоять против как внешних, так и внутренних (!) врагов. В 30-х годах прошлого века немецкий юрист Карл Лёвенштейн, сбежав из Германии в США, описал воинствующую демократию: систему, которая должна защищать демократические права и свободы — сознательно ограничивая эти права и свободы для выбранного ряда лиц (эта идея была очевидным образом мотивирована политической обстановкой Германии 30-х). Идея проста: популистские и анти-демократические лидеры могут придти к власти демократическими путями, а потом уничтожить демократию. Чтобы защититься от этого, в демократическом государстве должны быть механизмы, которые ограничивают определенных людей или группу лиц в участии в политике — вплоть до (конечно же временного!) прекращения действия выборов и иных (крайне условно, честно скажем) демократических механизмов. Так демократия уничтожает сама себя — она буквально «выключает» свои основополагающие предпосылки. И делает это она ради борьбы с популизмом — по которым в данном случае понимается риск неправильного народного выбора.
Итак, демократия опасна сама для себя, и причина этого — народ, который для устойчивости демократии опасен. Да, демократия — это вроде как про свободу выбора, но нет, не так. Народный выбор может быть правильным и неправильным, и вообще человек свободным быть умеет плохо.
Демократия, вполне вероятно, лучше иных форм управления. Но демократы проигрывают и будут проигрывать — мне кажется, тут есть тысячи причин, и как минимум две из них носят системный характер. (На полноту картины в телеграм-постике, конечно, не претендую).
❤12👍7👾1
О демократическом популизме (2/2,5)
Первая причинааа этооо тыыыы...так вот. Причина первая предполагает более откровенный (может быть даже «реалистический») взгляд на политическую реальность. Да, есть консервативные, правые («привычные») популисты, но есть и демократические популисты — это те политики, которые объявляют себя современными демократами (в США — особенно; среди европейских евробюрократов — тем более; в российской оппозиции — были ли другие?). По сути, демократизм стал своего рода virtue signaling: все заняты демонстрацией добродетели; формулированием правильных мнений в соцсетях; раздачей поддержки не по политическим причинам, а потому что так будет лучше выглядеть для тех, кого я считаю своей аудиторией; и так далее. У этого есть множество проблем: например, демократический популист выступает «за все хорошее и против всего плохого»; заняв позицию носителя публичной добродетели, нельзя проявить моральную серость или оказаться замеченным в политической неоднозначности. Демократический популист пытается занять позицию универсального добра, однозначного цивилизационного блага, поэтому существование в объективной реальности (где у каждого живого человека кроме virtues есть еще и vices) для него опасно — оказавшись реальным человеком, дем-популист всегда теряет очки. В это время консервативный популист (например, тот же Трамп), признавая свои vices, очки только выигрывает. Клинтон в 2016 году назвала сторонников Трампа «корзиной нежелательных вещей» (basket of deplorables); Байден в 2024 году назвал их «мусором» (garbage). Двух этих политиков объединяет то, что они так или иначе проиграли — вероятно, решив, что объявления себя хорошими людьми будет достаточно. Анти-демократическое мышление демократов, их уверенность, что достаточно «стоять на правильной стороне истории», что демократия — это когда у власти демократы, уже стоит демократам выборов по всему миру. Дальше, вероятнее всего, хуже.
Вторая причина косвенно связана с первой, но корни её — в политэкономии, а не только в медийном спектакле имени современной публичной политики. Дело не только в том, что ты не можешь выиграть выборы, если ты ненавидишь людей, которые должны тебя избрать, или считаешь себя лучше них; есть исследования (например, это — голландское), которые показывают: люди, которые голосуют за популистов, не против идеи демократии как таковой; они против тех, кто сейчас, в момент конкретных выборов, называет себя демократом, демократической партией, кто является публичным лицом демократической политики. Структурные корни популизма заложены в политической экономии современного капитализма. То, что сейчас часто называется правым популизмом — это допустимая форма выражения несогласия с текущим либерально-демократическим порядком, основанным на рыночной капиталистической системе. Как писал Карл Поланьи, капитализм подменяет социальную реальность человеческого общения (в том числе в Аристотелиевском смысле — политического общения) на экономическую реальность денежно-статусных взаимоотношений, и политика и социальные связи вырождаются. Современные консервативные популисты бросают вызов (пусть — лишь публично) основам либерального порядка, и это по понятным причинам вызывает массовый интерес. Можно сказать, что во многих случаях популистская риторика — это ответ на деструктивное давление «свободных рынков». Во многих странах популистские партии — единственные, кто утверждает, что существует реальная альтернатива кучкованию вокруг центристских позиций нео-либеральной глобализации. Ответом на все это чисто социально-экономическое отчаяние становится национализм, ксенофобия, протекционизм, традиционализм — единственная версия «альтернативного будущего», которая сейчас присутствует.
«Всплеск популизма — это нелиберальный демократический ответ на десятилетия недемократической либеральной политики» (Cas Mudde, датский политический исследователь и, в общем-то, кто-то может сказать, левак). Но если «популистские» партии лишь заполняют смысловую пустоту — может быть, её могут заполнить не только они? Вот в чем — как минимум — часть вопроса.
Первая причинааа этооо тыыыы...так вот. Причина первая предполагает более откровенный (может быть даже «реалистический») взгляд на политическую реальность. Да, есть консервативные, правые («привычные») популисты, но есть и демократические популисты — это те политики, которые объявляют себя современными демократами (в США — особенно; среди европейских евробюрократов — тем более; в российской оппозиции — были ли другие?). По сути, демократизм стал своего рода virtue signaling: все заняты демонстрацией добродетели; формулированием правильных мнений в соцсетях; раздачей поддержки не по политическим причинам, а потому что так будет лучше выглядеть для тех, кого я считаю своей аудиторией; и так далее. У этого есть множество проблем: например, демократический популист выступает «за все хорошее и против всего плохого»; заняв позицию носителя публичной добродетели, нельзя проявить моральную серость или оказаться замеченным в политической неоднозначности. Демократический популист пытается занять позицию универсального добра, однозначного цивилизационного блага, поэтому существование в объективной реальности (где у каждого живого человека кроме virtues есть еще и vices) для него опасно — оказавшись реальным человеком, дем-популист всегда теряет очки. В это время консервативный популист (например, тот же Трамп), признавая свои vices, очки только выигрывает. Клинтон в 2016 году назвала сторонников Трампа «корзиной нежелательных вещей» (basket of deplorables); Байден в 2024 году назвал их «мусором» (garbage). Двух этих политиков объединяет то, что они так или иначе проиграли — вероятно, решив, что объявления себя хорошими людьми будет достаточно. Анти-демократическое мышление демократов, их уверенность, что достаточно «стоять на правильной стороне истории», что демократия — это когда у власти демократы, уже стоит демократам выборов по всему миру. Дальше, вероятнее всего, хуже.
Вторая причина косвенно связана с первой, но корни её — в политэкономии, а не только в медийном спектакле имени современной публичной политики. Дело не только в том, что ты не можешь выиграть выборы, если ты ненавидишь людей, которые должны тебя избрать, или считаешь себя лучше них; есть исследования (например, это — голландское), которые показывают: люди, которые голосуют за популистов, не против идеи демократии как таковой; они против тех, кто сейчас, в момент конкретных выборов, называет себя демократом, демократической партией, кто является публичным лицом демократической политики. Структурные корни популизма заложены в политической экономии современного капитализма. То, что сейчас часто называется правым популизмом — это допустимая форма выражения несогласия с текущим либерально-демократическим порядком, основанным на рыночной капиталистической системе. Как писал Карл Поланьи, капитализм подменяет социальную реальность человеческого общения (в том числе в Аристотелиевском смысле — политического общения) на экономическую реальность денежно-статусных взаимоотношений, и политика и социальные связи вырождаются. Современные консервативные популисты бросают вызов (пусть — лишь публично) основам либерального порядка, и это по понятным причинам вызывает массовый интерес. Можно сказать, что во многих случаях популистская риторика — это ответ на деструктивное давление «свободных рынков». Во многих странах популистские партии — единственные, кто утверждает, что существует реальная альтернатива кучкованию вокруг центристских позиций нео-либеральной глобализации. Ответом на все это чисто социально-экономическое отчаяние становится национализм, ксенофобия, протекционизм, традиционализм — единственная версия «альтернативного будущего», которая сейчас присутствует.
«Всплеск популизма — это нелиберальный демократический ответ на десятилетия недемократической либеральной политики» (Cas Mudde, датский политический исследователь и, в общем-то, кто-то может сказать, левак). Но если «популистские» партии лишь заполняют смысловую пустоту — может быть, её могут заполнить не только они? Вот в чем — как минимум — часть вопроса.
❤13👍9👾1
О демократическом популизме (2,5/2,5)
Демократам нужна не политическая толкотня, взаимные оскорбления, нескрываемая демофобия и ожидание власти единственно по причине собственной (честно говоря, в большинстве случаев откровенно сомнительной) хорошести — им нужно политическое воображение. Возможно, анти-интуитивно — но для разгона этого воображения можно позаимствовать идеи у богатой традиции демократического популизма и его версии конституционализма, направленного против государственных институций.
Идея, возможно, сомнительная. Возможно, нет. Об этом — как-нибудь потом (если я не забуду!!! Ставьте крабиков, чтобы я не забыла).
В целом еще интересно, что песнь о «кризисе воображения» становится все более массовой, и она касается все бОльших областей человеческого опыта — кроме политики она особенно заметна в искусстве и контенте (литературе, кино, телевидении), медиа, образовании. Те же выборы в современных демократиях все больше похожи на «Форсаж 22» — все это одновременно и знакомо, и предсказуемо, и разочаровывает. Но это, разумеется, в теории.
Демократам нужна не политическая толкотня, взаимные оскорбления, нескрываемая демофобия и ожидание власти единственно по причине собственной (честно говоря, в большинстве случаев откровенно сомнительной) хорошести — им нужно политическое воображение. Возможно, анти-интуитивно — но для разгона этого воображения можно позаимствовать идеи у богатой традиции демократического популизма и его версии конституционализма, направленного против государственных институций.
Идея, возможно, сомнительная. Возможно, нет. Об этом — как-нибудь потом (если я не забуду!!! Ставьте крабиков, чтобы я не забыла).
В целом еще интересно, что песнь о «кризисе воображения» становится все более массовой, и она касается все бОльших областей человеческого опыта — кроме политики она особенно заметна в искусстве и контенте (литературе, кино, телевидении), медиа, образовании. Те же выборы в современных демократиях все больше похожи на «Форсаж 22» — все это одновременно и знакомо, и предсказуемо, и разочаровывает. Но это, разумеется, в теории.
👾48🔥3👍2
Для философского кружка (тм) (это уже постоянная рубрика — я читаю то, что иначе бы читать не стала) перечитывала «Банальность зла» Ханны Арендт. Первый раз я её читала в универе — мы тогда посмотрели фильм про человека в стеклянном ящике с А. Архангельским на журфаке Вышки, и тема работы с исторической памятью и политика памяти надолго меня увлекла (я успела написать курсовую и диплом о репрезентации истории на российском телевидении, а потом еще одну, магистерскую — о том, как менялись версии истории, представленные через архитектуру, на примере проекта по «обновлению» ВДНХ, до сих пор одна из моих любимых тем. Но потом я все же сорвалась и ускакала писать про гендерную репрезентацию в видеоиграх, только меня и видели).
Но мы отвлеклись. Перечитав «Банальность зла» сегодня, я поразилась двум вещам: во-первых, конечно, ироническому тону Арендт, который я раньше не замечала. Она пересказывает сам процесс сухо и, кто-то мог бы даже сказать, «банально», но когда речь заходит о самом Эйхмане, она над ним смеется, практически измывается, как любят иногда «умные люди» посмеяться над «дураками». Арендт презирает Эйхмана не за его сомнительные моральные качества, не за то, что он плохой человек, а за то, что он человек глупый, за то, что он не умеет думать самостоятельно, что у него скучные, банальные мысли. И это удивительное «классицистское» отношение воспитанного человека к человеку с тремя классами образования сквозит во всей книге.
Ну и во-вторых, ирония истории в том, что их имена теперь навечно друг с другом связаны — вплоть до таких, почти бесстыдно литературных, перекличек.
Арендт несколько раз пишет, что Эйхман мыслил клише — в качестве примера она приводит его (смешащие её) громко звучащие, но пустопорожние высказывания, например:
Или:
А вот сама Арендт отвечает на вопрос о критике своей книги — в том числе о «тоне, в котором она была написана»:
Тон — это человек, indeed.
Но мы отвлеклись. Перечитав «Банальность зла» сегодня, я поразилась двум вещам: во-первых, конечно, ироническому тону Арендт, который я раньше не замечала. Она пересказывает сам процесс сухо и, кто-то мог бы даже сказать, «банально», но когда речь заходит о самом Эйхмане, она над ним смеется, практически измывается, как любят иногда «умные люди» посмеяться над «дураками». Арендт презирает Эйхмана не за его сомнительные моральные качества, не за то, что он плохой человек, а за то, что он человек глупый, за то, что он не умеет думать самостоятельно, что у него скучные, банальные мысли. И это удивительное «классицистское» отношение воспитанного человека к человеку с тремя классами образования сквозит во всей книге.
Ну и во-вторых, ирония истории в том, что их имена теперь навечно друг с другом связаны — вплоть до таких, почти бесстыдно литературных, перекличек.
Арендт несколько раз пишет, что Эйхман мыслил клише — в качестве примера она приводит его (смешащие её) громко звучащие, но пустопорожние высказывания, например:
Бахвальство — грех, который всегда вредил Эйхману. Ну разве это не фанфаронство — заявление, которое он сделал своим подчиненным в последние дни войны: «Я сойду в могилу, смеясь, поскольку тот факт, что на моей совести смерть пяти миллионов евреев [то есть «врагов рейха», как он их неоднократно называл], дарит мне необычайное удовлетворение».
Или:
...в распоряжении обвиняемого имеется разнообразнейший набор клише на каждый момент его жизни и на каждый вид деятельности. Для него, для его сознания никаких противоречий между фразой «Я сойду в могилу, смеясь», которую он твердил в конце войны, и фразой, которую он твердил теперь — «Я готов повеситься публично в назидание всем живущим на земле антисемитам», — не было: обе он произносил с одинаковым «подъемом».
А вот сама Арендт отвечает на вопрос о критике своей книги — в том числе о «тоне, в котором она была написана»:
Нет, дело не в этом. Люди упускают одну вещь: я и сейчас могу над этим смеяться, я действительно считаю Эйхмана очень глупым человеком, я прочла 3600 страниц его дела, и бесчисленное количество раз хохотала. Некоторых это обидело. Что я могу поделать? Я вам скажу, что я смеялась бы над этим и за три минуты до своей смерти. Это что касается тона книги. Тон иронический, это правда. Тон это человек.
Тон — это человек, indeed.
1❤21😁5👾3
Но все же само заявление Арендт о глупости стоит объяснить.
Проблему для Арендт представляла аморальность мышления: в рациональной мысли нет никаких причин, почему бы люди должны были бы предпочесть моральное поведение аморальному. Тот же Эйхман — хороший пример: он был законопослушным гражданином своего государства, дисциплинированным и верным, он следовал не только букве, но и духу закона своей страны (о чем он рассказывает, пересказывая моральный императив Канта). Он был разумен.
Вот ключевой вопрос Арендт:
Арендт заметила в Эйхмане безмыслие — противоположность мышлению, «подлинную неспособность мыслить». Нормальнейшее поведение бюрократического аппарата (символа рациональности, механистичности модерна, и, даже больше — необходимого условия для современной жизни) произвело чудовищнейшие из преступлений. Нормальное поведение бюрократа — не думать о смысле правил, которым он следует, отчужденность от реальности, позволяющая поддерживать функционирование общества (неважно, как именно устроенного).
Рассуждение Арендт о «банальности зла» — это не столько рассуждение о феномене, собственно, зла; это исследование взаимосвязи между способностью мыслить, отличать правильное от неправильного, выносить суждения — и их моральными последствиями.
Банальность зла не означает, что оно тривиально и свойственно всем — в этом важное отличие «банальности» от «обыкновенности» («обыденности»). Поэтому Арендт ненавидела пафосное «Эйхман есть в каждом из нас»: как мы уже знаем, она ненавидела клише вообще, но эта фраза демонстрирует, что произносящий её не понял ключевую идею. Банальность — это не количественная характеристика, а качественная: такое зло банально, потому что его источник — пространство негативного, отсутствие способности критически мыслить, думать не-банально.
Зло может быть изобретательным и мотивированным. Но банальное зло бюрократов — в отсутствии источника, у него нет корней в «злых мотивах», «побуждениях» или «искушении».
Арендт так это формулирует в одном из писем:
«Способность мыслить» у Арендт доступна каждому, а не только «профессиональным мыслителям»; она не создает моральный фундамент или моральную заповедь; она относится к невидимому, и, следовательно, ей нет места непосредственно в мире явлений.
Для предотвращения зла нужна философия, использование разума как способности мыслить. Тоталитаризм как исторический и политический опыт вынудил нас «жить в компании самих себя», изучать происходящее посредством мыслительной деятельности, «сократической беседы с самим собой». Сократической в смысле — не имеющей цели произвести концепты или определения, ведущейся для того, чтобы прояснить свои собственные мнения и модели мышления. Беседы с самим собой в смысле — человек становится своим собственным оппонентом, собеседником и другом.
Арендт утверждает, что человек, который использует свою способность мыслить, всегда сам является свидетелем своего поступка:
Проблему для Арендт представляла аморальность мышления: в рациональной мысли нет никаких причин, почему бы люди должны были бы предпочесть моральное поведение аморальному. Тот же Эйхман — хороший пример: он был законопослушным гражданином своего государства, дисциплинированным и верным, он следовал не только букве, но и духу закона своей страны (о чем он рассказывает, пересказывая моральный императив Канта). Он был разумен.
Вот ключевой вопрос Арендт:
Может ли мыслительная деятельность как таковая, привычка рассматривать и осмысливать все, что происходит, независимо от конкретного содержания и совершенно независимо от результатов, может ли эта деятельность иметь такую природу, что она «предохранит» (conditions) людей от злодеяний?
Арендт заметила в Эйхмане безмыслие — противоположность мышлению, «подлинную неспособность мыслить». Нормальнейшее поведение бюрократического аппарата (символа рациональности, механистичности модерна, и, даже больше — необходимого условия для современной жизни) произвело чудовищнейшие из преступлений. Нормальное поведение бюрократа — не думать о смысле правил, которым он следует, отчужденность от реальности, позволяющая поддерживать функционирование общества (неважно, как именно устроенного).
Рассуждение Арендт о «банальности зла» — это не столько рассуждение о феномене, собственно, зла; это исследование взаимосвязи между способностью мыслить, отличать правильное от неправильного, выносить суждения — и их моральными последствиями.
Банальность зла не означает, что оно тривиально и свойственно всем — в этом важное отличие «банальности» от «обыкновенности» («обыденности»). Поэтому Арендт ненавидела пафосное «Эйхман есть в каждом из нас»: как мы уже знаем, она ненавидела клише вообще, но эта фраза демонстрирует, что произносящий её не понял ключевую идею. Банальность — это не количественная характеристика, а качественная: такое зло банально, потому что его источник — пространство негативного, отсутствие способности критически мыслить, думать не-банально.
Зло может быть изобретательным и мотивированным. Но банальное зло бюрократов — в отсутствии источника, у него нет корней в «злых мотивах», «побуждениях» или «искушении».
Арендт так это формулирует в одном из писем:
Я имею в виду, что зло не является радикальным, идущим к корням (radix), то есть не имеет глубины, и что именно по этой причине так ужасно трудно думать о нем, поскольку мышление, по определению, стремится добраться до корней. Зло — это поверхностное явление, и вместо того, чтобы быть радикальным, оно просто экстремально. Мы сопротивляемся злу, не поддаваясь поверхностному взгляду на вещи, останавливаясь и начиная думать, то есть выходя за рамки повседневной жизни. Другими словами, чем более поверхностен человек, тем больше вероятность того, что он поддастся злу. Признаком такой поверхностности является использование клише, и Эйхман...был прекрасным примером. <...> Только добро обладает глубиной и может быть радикальным.
«Способность мыслить» у Арендт доступна каждому, а не только «профессиональным мыслителям»; она не создает моральный фундамент или моральную заповедь; она относится к невидимому, и, следовательно, ей нет места непосредственно в мире явлений.
Для предотвращения зла нужна философия, использование разума как способности мыслить. Тоталитаризм как исторический и политический опыт вынудил нас «жить в компании самих себя», изучать происходящее посредством мыслительной деятельности, «сократической беседы с самим собой». Сократической в смысле — не имеющей цели произвести концепты или определения, ведущейся для того, чтобы прояснить свои собственные мнения и модели мышления. Беседы с самим собой в смысле — человек становится своим собственным оппонентом, собеседником и другом.
Арендт утверждает, что человек, который использует свою способность мыслить, всегда сам является свидетелем своего поступка:
Я сам себе свидетель, когда действую. Я знаю того, кто действует, и обречен жить с ним бок о бок.
❤21🔥2