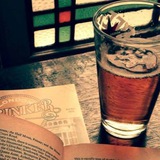О демократическом популизме (2/2,5)
Первая причинааа этооо тыыыы...так вот. Причина первая предполагает более откровенный (может быть даже «реалистический») взгляд на политическую реальность. Да, есть консервативные, правые («привычные») популисты, но есть и демократические популисты — это те политики, которые объявляют себя современными демократами (в США — особенно; среди европейских евробюрократов — тем более; в российской оппозиции — были ли другие?). По сути, демократизм стал своего рода virtue signaling: все заняты демонстрацией добродетели; формулированием правильных мнений в соцсетях; раздачей поддержки не по политическим причинам, а потому что так будет лучше выглядеть для тех, кого я считаю своей аудиторией; и так далее. У этого есть множество проблем: например, демократический популист выступает «за все хорошее и против всего плохого»; заняв позицию носителя публичной добродетели, нельзя проявить моральную серость или оказаться замеченным в политической неоднозначности. Демократический популист пытается занять позицию универсального добра, однозначного цивилизационного блага, поэтому существование в объективной реальности (где у каждого живого человека кроме virtues есть еще и vices) для него опасно — оказавшись реальным человеком, дем-популист всегда теряет очки. В это время консервативный популист (например, тот же Трамп), признавая свои vices, очки только выигрывает. Клинтон в 2016 году назвала сторонников Трампа «корзиной нежелательных вещей» (basket of deplorables); Байден в 2024 году назвал их «мусором» (garbage). Двух этих политиков объединяет то, что они так или иначе проиграли — вероятно, решив, что объявления себя хорошими людьми будет достаточно. Анти-демократическое мышление демократов, их уверенность, что достаточно «стоять на правильной стороне истории», что демократия — это когда у власти демократы, уже стоит демократам выборов по всему миру. Дальше, вероятнее всего, хуже.
Вторая причина косвенно связана с первой, но корни её — в политэкономии, а не только в медийном спектакле имени современной публичной политики. Дело не только в том, что ты не можешь выиграть выборы, если ты ненавидишь людей, которые должны тебя избрать, или считаешь себя лучше них; есть исследования (например, это — голландское), которые показывают: люди, которые голосуют за популистов, не против идеи демократии как таковой; они против тех, кто сейчас, в момент конкретных выборов, называет себя демократом, демократической партией, кто является публичным лицом демократической политики. Структурные корни популизма заложены в политической экономии современного капитализма. То, что сейчас часто называется правым популизмом — это допустимая форма выражения несогласия с текущим либерально-демократическим порядком, основанным на рыночной капиталистической системе. Как писал Карл Поланьи, капитализм подменяет социальную реальность человеческого общения (в том числе в Аристотелиевском смысле — политического общения) на экономическую реальность денежно-статусных взаимоотношений, и политика и социальные связи вырождаются. Современные консервативные популисты бросают вызов (пусть — лишь публично) основам либерального порядка, и это по понятным причинам вызывает массовый интерес. Можно сказать, что во многих случаях популистская риторика — это ответ на деструктивное давление «свободных рынков». Во многих странах популистские партии — единственные, кто утверждает, что существует реальная альтернатива кучкованию вокруг центристских позиций нео-либеральной глобализации. Ответом на все это чисто социально-экономическое отчаяние становится национализм, ксенофобия, протекционизм, традиционализм — единственная версия «альтернативного будущего», которая сейчас присутствует.
«Всплеск популизма — это нелиберальный демократический ответ на десятилетия недемократической либеральной политики» (Cas Mudde, датский политический исследователь и, в общем-то, кто-то может сказать, левак). Но если «популистские» партии лишь заполняют смысловую пустоту — может быть, её могут заполнить не только они? Вот в чем — как минимум — часть вопроса.
Первая причинааа этооо тыыыы...так вот. Причина первая предполагает более откровенный (может быть даже «реалистический») взгляд на политическую реальность. Да, есть консервативные, правые («привычные») популисты, но есть и демократические популисты — это те политики, которые объявляют себя современными демократами (в США — особенно; среди европейских евробюрократов — тем более; в российской оппозиции — были ли другие?). По сути, демократизм стал своего рода virtue signaling: все заняты демонстрацией добродетели; формулированием правильных мнений в соцсетях; раздачей поддержки не по политическим причинам, а потому что так будет лучше выглядеть для тех, кого я считаю своей аудиторией; и так далее. У этого есть множество проблем: например, демократический популист выступает «за все хорошее и против всего плохого»; заняв позицию носителя публичной добродетели, нельзя проявить моральную серость или оказаться замеченным в политической неоднозначности. Демократический популист пытается занять позицию универсального добра, однозначного цивилизационного блага, поэтому существование в объективной реальности (где у каждого живого человека кроме virtues есть еще и vices) для него опасно — оказавшись реальным человеком, дем-популист всегда теряет очки. В это время консервативный популист (например, тот же Трамп), признавая свои vices, очки только выигрывает. Клинтон в 2016 году назвала сторонников Трампа «корзиной нежелательных вещей» (basket of deplorables); Байден в 2024 году назвал их «мусором» (garbage). Двух этих политиков объединяет то, что они так или иначе проиграли — вероятно, решив, что объявления себя хорошими людьми будет достаточно. Анти-демократическое мышление демократов, их уверенность, что достаточно «стоять на правильной стороне истории», что демократия — это когда у власти демократы, уже стоит демократам выборов по всему миру. Дальше, вероятнее всего, хуже.
Вторая причина косвенно связана с первой, но корни её — в политэкономии, а не только в медийном спектакле имени современной публичной политики. Дело не только в том, что ты не можешь выиграть выборы, если ты ненавидишь людей, которые должны тебя избрать, или считаешь себя лучше них; есть исследования (например, это — голландское), которые показывают: люди, которые голосуют за популистов, не против идеи демократии как таковой; они против тех, кто сейчас, в момент конкретных выборов, называет себя демократом, демократической партией, кто является публичным лицом демократической политики. Структурные корни популизма заложены в политической экономии современного капитализма. То, что сейчас часто называется правым популизмом — это допустимая форма выражения несогласия с текущим либерально-демократическим порядком, основанным на рыночной капиталистической системе. Как писал Карл Поланьи, капитализм подменяет социальную реальность человеческого общения (в том числе в Аристотелиевском смысле — политического общения) на экономическую реальность денежно-статусных взаимоотношений, и политика и социальные связи вырождаются. Современные консервативные популисты бросают вызов (пусть — лишь публично) основам либерального порядка, и это по понятным причинам вызывает массовый интерес. Можно сказать, что во многих случаях популистская риторика — это ответ на деструктивное давление «свободных рынков». Во многих странах популистские партии — единственные, кто утверждает, что существует реальная альтернатива кучкованию вокруг центристских позиций нео-либеральной глобализации. Ответом на все это чисто социально-экономическое отчаяние становится национализм, ксенофобия, протекционизм, традиционализм — единственная версия «альтернативного будущего», которая сейчас присутствует.
«Всплеск популизма — это нелиберальный демократический ответ на десятилетия недемократической либеральной политики» (Cas Mudde, датский политический исследователь и, в общем-то, кто-то может сказать, левак). Но если «популистские» партии лишь заполняют смысловую пустоту — может быть, её могут заполнить не только они? Вот в чем — как минимум — часть вопроса.
❤13👍9👾1
О демократическом популизме (2,5/2,5)
Демократам нужна не политическая толкотня, взаимные оскорбления, нескрываемая демофобия и ожидание власти единственно по причине собственной (честно говоря, в большинстве случаев откровенно сомнительной) хорошести — им нужно политическое воображение. Возможно, анти-интуитивно — но для разгона этого воображения можно позаимствовать идеи у богатой традиции демократического популизма и его версии конституционализма, направленного против государственных институций.
Идея, возможно, сомнительная. Возможно, нет. Об этом — как-нибудь потом (если я не забуду!!! Ставьте крабиков, чтобы я не забыла).
В целом еще интересно, что песнь о «кризисе воображения» становится все более массовой, и она касается все бОльших областей человеческого опыта — кроме политики она особенно заметна в искусстве и контенте (литературе, кино, телевидении), медиа, образовании. Те же выборы в современных демократиях все больше похожи на «Форсаж 22» — все это одновременно и знакомо, и предсказуемо, и разочаровывает. Но это, разумеется, в теории.
Демократам нужна не политическая толкотня, взаимные оскорбления, нескрываемая демофобия и ожидание власти единственно по причине собственной (честно говоря, в большинстве случаев откровенно сомнительной) хорошести — им нужно политическое воображение. Возможно, анти-интуитивно — но для разгона этого воображения можно позаимствовать идеи у богатой традиции демократического популизма и его версии конституционализма, направленного против государственных институций.
Идея, возможно, сомнительная. Возможно, нет. Об этом — как-нибудь потом (если я не забуду!!! Ставьте крабиков, чтобы я не забыла).
В целом еще интересно, что песнь о «кризисе воображения» становится все более массовой, и она касается все бОльших областей человеческого опыта — кроме политики она особенно заметна в искусстве и контенте (литературе, кино, телевидении), медиа, образовании. Те же выборы в современных демократиях все больше похожи на «Форсаж 22» — все это одновременно и знакомо, и предсказуемо, и разочаровывает. Но это, разумеется, в теории.
👾48🔥3👍2
Для философского кружка (тм) (это уже постоянная рубрика — я читаю то, что иначе бы читать не стала) перечитывала «Банальность зла» Ханны Арендт. Первый раз я её читала в универе — мы тогда посмотрели фильм про человека в стеклянном ящике с А. Архангельским на журфаке Вышки, и тема работы с исторической памятью и политика памяти надолго меня увлекла (я успела написать курсовую и диплом о репрезентации истории на российском телевидении, а потом еще одну, магистерскую — о том, как менялись версии истории, представленные через архитектуру, на примере проекта по «обновлению» ВДНХ, до сих пор одна из моих любимых тем. Но потом я все же сорвалась и ускакала писать про гендерную репрезентацию в видеоиграх, только меня и видели).
Но мы отвлеклись. Перечитав «Банальность зла» сегодня, я поразилась двум вещам: во-первых, конечно, ироническому тону Арендт, который я раньше не замечала. Она пересказывает сам процесс сухо и, кто-то мог бы даже сказать, «банально», но когда речь заходит о самом Эйхмане, она над ним смеется, практически измывается, как любят иногда «умные люди» посмеяться над «дураками». Арендт презирает Эйхмана не за его сомнительные моральные качества, не за то, что он плохой человек, а за то, что он человек глупый, за то, что он не умеет думать самостоятельно, что у него скучные, банальные мысли. И это удивительное «классицистское» отношение воспитанного человека к человеку с тремя классами образования сквозит во всей книге.
Ну и во-вторых, ирония истории в том, что их имена теперь навечно друг с другом связаны — вплоть до таких, почти бесстыдно литературных, перекличек.
Арендт несколько раз пишет, что Эйхман мыслил клише — в качестве примера она приводит его (смешащие её) громко звучащие, но пустопорожние высказывания, например:
Или:
А вот сама Арендт отвечает на вопрос о критике своей книги — в том числе о «тоне, в котором она была написана»:
Тон — это человек, indeed.
Но мы отвлеклись. Перечитав «Банальность зла» сегодня, я поразилась двум вещам: во-первых, конечно, ироническому тону Арендт, который я раньше не замечала. Она пересказывает сам процесс сухо и, кто-то мог бы даже сказать, «банально», но когда речь заходит о самом Эйхмане, она над ним смеется, практически измывается, как любят иногда «умные люди» посмеяться над «дураками». Арендт презирает Эйхмана не за его сомнительные моральные качества, не за то, что он плохой человек, а за то, что он человек глупый, за то, что он не умеет думать самостоятельно, что у него скучные, банальные мысли. И это удивительное «классицистское» отношение воспитанного человека к человеку с тремя классами образования сквозит во всей книге.
Ну и во-вторых, ирония истории в том, что их имена теперь навечно друг с другом связаны — вплоть до таких, почти бесстыдно литературных, перекличек.
Арендт несколько раз пишет, что Эйхман мыслил клише — в качестве примера она приводит его (смешащие её) громко звучащие, но пустопорожние высказывания, например:
Бахвальство — грех, который всегда вредил Эйхману. Ну разве это не фанфаронство — заявление, которое он сделал своим подчиненным в последние дни войны: «Я сойду в могилу, смеясь, поскольку тот факт, что на моей совести смерть пяти миллионов евреев [то есть «врагов рейха», как он их неоднократно называл], дарит мне необычайное удовлетворение».
Или:
...в распоряжении обвиняемого имеется разнообразнейший набор клише на каждый момент его жизни и на каждый вид деятельности. Для него, для его сознания никаких противоречий между фразой «Я сойду в могилу, смеясь», которую он твердил в конце войны, и фразой, которую он твердил теперь — «Я готов повеситься публично в назидание всем живущим на земле антисемитам», — не было: обе он произносил с одинаковым «подъемом».
А вот сама Арендт отвечает на вопрос о критике своей книги — в том числе о «тоне, в котором она была написана»:
Нет, дело не в этом. Люди упускают одну вещь: я и сейчас могу над этим смеяться, я действительно считаю Эйхмана очень глупым человеком, я прочла 3600 страниц его дела, и бесчисленное количество раз хохотала. Некоторых это обидело. Что я могу поделать? Я вам скажу, что я смеялась бы над этим и за три минуты до своей смерти. Это что касается тона книги. Тон иронический, это правда. Тон это человек.
Тон — это человек, indeed.
1❤21😁5👾3
Но все же само заявление Арендт о глупости стоит объяснить.
Проблему для Арендт представляла аморальность мышления: в рациональной мысли нет никаких причин, почему бы люди должны были бы предпочесть моральное поведение аморальному. Тот же Эйхман — хороший пример: он был законопослушным гражданином своего государства, дисциплинированным и верным, он следовал не только букве, но и духу закона своей страны (о чем он рассказывает, пересказывая моральный императив Канта). Он был разумен.
Вот ключевой вопрос Арендт:
Арендт заметила в Эйхмане безмыслие — противоположность мышлению, «подлинную неспособность мыслить». Нормальнейшее поведение бюрократического аппарата (символа рациональности, механистичности модерна, и, даже больше — необходимого условия для современной жизни) произвело чудовищнейшие из преступлений. Нормальное поведение бюрократа — не думать о смысле правил, которым он следует, отчужденность от реальности, позволяющая поддерживать функционирование общества (неважно, как именно устроенного).
Рассуждение Арендт о «банальности зла» — это не столько рассуждение о феномене, собственно, зла; это исследование взаимосвязи между способностью мыслить, отличать правильное от неправильного, выносить суждения — и их моральными последствиями.
Банальность зла не означает, что оно тривиально и свойственно всем — в этом важное отличие «банальности» от «обыкновенности» («обыденности»). Поэтому Арендт ненавидела пафосное «Эйхман есть в каждом из нас»: как мы уже знаем, она ненавидела клише вообще, но эта фраза демонстрирует, что произносящий её не понял ключевую идею. Банальность — это не количественная характеристика, а качественная: такое зло банально, потому что его источник — пространство негативного, отсутствие способности критически мыслить, думать не-банально.
Зло может быть изобретательным и мотивированным. Но банальное зло бюрократов — в отсутствии источника, у него нет корней в «злых мотивах», «побуждениях» или «искушении».
Арендт так это формулирует в одном из писем:
«Способность мыслить» у Арендт доступна каждому, а не только «профессиональным мыслителям»; она не создает моральный фундамент или моральную заповедь; она относится к невидимому, и, следовательно, ей нет места непосредственно в мире явлений.
Для предотвращения зла нужна философия, использование разума как способности мыслить. Тоталитаризм как исторический и политический опыт вынудил нас «жить в компании самих себя», изучать происходящее посредством мыслительной деятельности, «сократической беседы с самим собой». Сократической в смысле — не имеющей цели произвести концепты или определения, ведущейся для того, чтобы прояснить свои собственные мнения и модели мышления. Беседы с самим собой в смысле — человек становится своим собственным оппонентом, собеседником и другом.
Арендт утверждает, что человек, который использует свою способность мыслить, всегда сам является свидетелем своего поступка:
Проблему для Арендт представляла аморальность мышления: в рациональной мысли нет никаких причин, почему бы люди должны были бы предпочесть моральное поведение аморальному. Тот же Эйхман — хороший пример: он был законопослушным гражданином своего государства, дисциплинированным и верным, он следовал не только букве, но и духу закона своей страны (о чем он рассказывает, пересказывая моральный императив Канта). Он был разумен.
Вот ключевой вопрос Арендт:
Может ли мыслительная деятельность как таковая, привычка рассматривать и осмысливать все, что происходит, независимо от конкретного содержания и совершенно независимо от результатов, может ли эта деятельность иметь такую природу, что она «предохранит» (conditions) людей от злодеяний?
Арендт заметила в Эйхмане безмыслие — противоположность мышлению, «подлинную неспособность мыслить». Нормальнейшее поведение бюрократического аппарата (символа рациональности, механистичности модерна, и, даже больше — необходимого условия для современной жизни) произвело чудовищнейшие из преступлений. Нормальное поведение бюрократа — не думать о смысле правил, которым он следует, отчужденность от реальности, позволяющая поддерживать функционирование общества (неважно, как именно устроенного).
Рассуждение Арендт о «банальности зла» — это не столько рассуждение о феномене, собственно, зла; это исследование взаимосвязи между способностью мыслить, отличать правильное от неправильного, выносить суждения — и их моральными последствиями.
Банальность зла не означает, что оно тривиально и свойственно всем — в этом важное отличие «банальности» от «обыкновенности» («обыденности»). Поэтому Арендт ненавидела пафосное «Эйхман есть в каждом из нас»: как мы уже знаем, она ненавидела клише вообще, но эта фраза демонстрирует, что произносящий её не понял ключевую идею. Банальность — это не количественная характеристика, а качественная: такое зло банально, потому что его источник — пространство негативного, отсутствие способности критически мыслить, думать не-банально.
Зло может быть изобретательным и мотивированным. Но банальное зло бюрократов — в отсутствии источника, у него нет корней в «злых мотивах», «побуждениях» или «искушении».
Арендт так это формулирует в одном из писем:
Я имею в виду, что зло не является радикальным, идущим к корням (radix), то есть не имеет глубины, и что именно по этой причине так ужасно трудно думать о нем, поскольку мышление, по определению, стремится добраться до корней. Зло — это поверхностное явление, и вместо того, чтобы быть радикальным, оно просто экстремально. Мы сопротивляемся злу, не поддаваясь поверхностному взгляду на вещи, останавливаясь и начиная думать, то есть выходя за рамки повседневной жизни. Другими словами, чем более поверхностен человек, тем больше вероятность того, что он поддастся злу. Признаком такой поверхностности является использование клише, и Эйхман...был прекрасным примером. <...> Только добро обладает глубиной и может быть радикальным.
«Способность мыслить» у Арендт доступна каждому, а не только «профессиональным мыслителям»; она не создает моральный фундамент или моральную заповедь; она относится к невидимому, и, следовательно, ей нет места непосредственно в мире явлений.
Для предотвращения зла нужна философия, использование разума как способности мыслить. Тоталитаризм как исторический и политический опыт вынудил нас «жить в компании самих себя», изучать происходящее посредством мыслительной деятельности, «сократической беседы с самим собой». Сократической в смысле — не имеющей цели произвести концепты или определения, ведущейся для того, чтобы прояснить свои собственные мнения и модели мышления. Беседы с самим собой в смысле — человек становится своим собственным оппонентом, собеседником и другом.
Арендт утверждает, что человек, который использует свою способность мыслить, всегда сам является свидетелем своего поступка:
Я сам себе свидетель, когда действую. Я знаю того, кто действует, и обречен жить с ним бок о бок.
❤21🔥2
Это у нас тут коммьюнити, компания друзей, саморазвитие, эффективность, активизм, медиапросвещение и социальное государство-как-сервис — или, может быть, это власть никто?
Ханна Арендт, Vita Activa
Правда, монархический принцип единовластия, которое в античности считалось типической формой организации хозяйства, внутри современного общества — которое, каким мы его сегодня знаем, уже не имеет, как на начальных стадиях своего развития, своей идеальной формой дворцовое хозяйство абсолютной монархии, — изменился в том отношении, что в обществе как раз никто господствует или правит. Однако этот никто, а именно гипотетическое единство экономических общественных интересов, как и гипотетическое единодушие расхожих мнений в салонах хорошего общества, правит не менее деспотично оттого, что не привязан ни к какому конкретному лицу. Феномен господства этого никто нам слишком уж хорошо известен по „социальнейшему“ из всех государственных формирований, бюрократии, которая не случайно на последней стадии национально-государственного развития приходит к господству, а именно в процессе развития, начало которому было положено абсолютной монархией просвещенного деспотизма. Господство обезличенного никто настолько не означает отсутствия господства, что при известных обстоятельствах способно оказаться одной из самых мрачных и тиранических форм правления.
Ханна Арендт, Vita Activa
❤11💯2
Очень люблю этот канал: во-первых, это просто красиво. Во-вторых, вот тут, например, в комментах под постом подписчики выясняют, существуют ли на самом деле морфы тетеревятника такого белоснежного цвета, или это другая птица, или её просто выдумали. (Оказалось, существуют).
❤🔥13
Forwarded from Укиё-э каждый день
«Ястреб преследующий добычу»
Впечатляющая погоня ястреба-тетеревятника, как его называет Косон в подписи оставшейся в стороне, за своей жертвой, по силуэту напоминающей небольшую чайку.
Судя по колосьям риса, эта интенсивная погоня проходит всего в десятке сантиметров над уровнем земли, что еще больше добавляет драматизма происходящему.
Впечатляющий выбор цвета. Судя по всему белый, это именно краска, а не цвет бумаги, тогда как фон полностью выкрашен в темные тона. Косон явно использует тут свои лучшие приёмы с этой детализацией в одних местах и минимализмом во всех остальных.
Ohara #Koson 1910
Впечатляющая погоня ястреба-тетеревятника, как его называет Косон в подписи оставшейся в стороне, за своей жертвой, по силуэту напоминающей небольшую чайку.
Судя по колосьям риса, эта интенсивная погоня проходит всего в десятке сантиметров над уровнем земли, что еще больше добавляет драматизма происходящему.
Впечатляющий выбор цвета. Судя по всему белый, это именно краска, а не цвет бумаги, тогда как фон полностью выкрашен в темные тона. Косон явно использует тут свои лучшие приёмы с этой детализацией в одних местах и минимализмом во всех остальных.
Ohara #Koson 1910
❤🔥18👍2
Нашла под елкой недописанный пост про Ханну Арендт (да, СНОВА). Он вполне подходит для новогодних размышлений о жизни с чистого листа (if you are into stuff like that), так что погнали. В последнее время много думаю о теории действия и свободы Ханны Арендт и повседневной жизни. Будет теоретический пересказ её основных аргументов из книги Vita Acriva, а в практической части — собственно, что мне с этого.
1/3 Теоретическая часть
Итак, Арендт говорит, что деятельная жизнь бывает трех видов: труд, создание и действие (поступок). Труд — это любая деятельность, которая нужна нам для поддержания жизни. Цель труда — только сама жизнь, выживание и комфорт физического тельца. Создание — это производство вещей, обусловленное природным миром, и потому зависимое от него, это ремесло, искусства, науки и прочее. Поступок — единственное деяние, которое не разворачивается в мире вещей; он происходит прямо между людьми, без посредничества какой-либо материи; это проявление нашей сути, общение о сожительстве людей, то есть политическое явление по своей сути.
Свобода — это отсутствие зависимости от жизненной нужды и созданных ею обстоятельств, иными словами — это возможность действовать, не имея никакой цели или причины, кроме самой этой деятельности. Её никто не заказывает, она не нужна ни для какой практической задачи. Добывание необходимого и производство полезного в любых формах, необязательно рабских, не могло являться образом жизни свободного человека. Высшей степенью свободы от обязательств и принуждения для грека была возможность проводить свой досуг в созерцании, vita contemplativa. Несвободный человек привязан к смертным, временным, проходящим вещам. Например, даже философ «подводит» вечность в тот момент, когда садится записать свои ценные мысли, так как начинает заботиться о смертных вещах — о передаче своих идей потомству, о создании артефактов, о материальных объектах, то есть о проходящем. Истинное свободное философствование — выход из Платоновской пещеры, разрыв с человеческим обществом, отсутствие внимания к вопросу собственного выживания. Такое мышление, по сути — смерть.
Но, говорит Арендт, возвышая vita contemplativa (которая в современной жизни вообще практически недостижима), мы проглядели потенциал поступка в vita activa. У Аристотеля свободный человек (богатый гражданин полиса) выходил из дома, где трудом занимались женщины и рабы, а созданием — мастера и ученые, и шел совершать политические поступки: разговаривать и действовать в публичной сфере ради самого этого разговора и действия и без какой-либо иной обусловленной внешним миром цели, без внешней необходимости. Действие требует взаимодействия с другими людьми. В поступке человек проявляет самого себя как принципиально уникальное существо, и поэтому поступок всегда связан с началом нового. Поступок основан на свободе и способности к инициативе. Иными словами, прочитать речь с табуретки, чтобы тебя куда-нибудь избрали — не поступок, не политическая речь. Это работа, осуществляемая в пределах социальных ожиданий (как мне надо себя вести, чтобы этих люди отреагировали определенным образом). Сказать или повести себя так, как тебе уникально свойственно ради самого этого действия, ради собственной явленности в мире, не ожидая определенной реакции или последствий — речь или поступок, из которых и состоит ткань политического.
Однако, в современной жизни такое, античное понятие политического больше не существует — оно было заменено социальным, экономическим, культурным. Частное хозяйство, то, что раньше было сугубо приватным делом, становится интересом и частью государства — уже нельзя просто жить внутри своей семьи/ойкоса, теперь все государство — одна большая семья, и все — её члены, и у всех вроде как есть ставки в общественных интересах. Единство интересов внутри семьи превратилось в единство интересов внутри общества/государства. Раньше семья, домашнее хозяйство означало выживание рода; теперь государство и общество означает выживание рода.
1/3 Теоретическая часть
Итак, Арендт говорит, что деятельная жизнь бывает трех видов: труд, создание и действие (поступок). Труд — это любая деятельность, которая нужна нам для поддержания жизни. Цель труда — только сама жизнь, выживание и комфорт физического тельца. Создание — это производство вещей, обусловленное природным миром, и потому зависимое от него, это ремесло, искусства, науки и прочее. Поступок — единственное деяние, которое не разворачивается в мире вещей; он происходит прямо между людьми, без посредничества какой-либо материи; это проявление нашей сути, общение о сожительстве людей, то есть политическое явление по своей сути.
Свобода — это отсутствие зависимости от жизненной нужды и созданных ею обстоятельств, иными словами — это возможность действовать, не имея никакой цели или причины, кроме самой этой деятельности. Её никто не заказывает, она не нужна ни для какой практической задачи. Добывание необходимого и производство полезного в любых формах, необязательно рабских, не могло являться образом жизни свободного человека. Высшей степенью свободы от обязательств и принуждения для грека была возможность проводить свой досуг в созерцании, vita contemplativa. Несвободный человек привязан к смертным, временным, проходящим вещам. Например, даже философ «подводит» вечность в тот момент, когда садится записать свои ценные мысли, так как начинает заботиться о смертных вещах — о передаче своих идей потомству, о создании артефактов, о материальных объектах, то есть о проходящем. Истинное свободное философствование — выход из Платоновской пещеры, разрыв с человеческим обществом, отсутствие внимания к вопросу собственного выживания. Такое мышление, по сути — смерть.
Но, говорит Арендт, возвышая vita contemplativa (которая в современной жизни вообще практически недостижима), мы проглядели потенциал поступка в vita activa. У Аристотеля свободный человек (богатый гражданин полиса) выходил из дома, где трудом занимались женщины и рабы, а созданием — мастера и ученые, и шел совершать политические поступки: разговаривать и действовать в публичной сфере ради самого этого разговора и действия и без какой-либо иной обусловленной внешним миром цели, без внешней необходимости. Действие требует взаимодействия с другими людьми. В поступке человек проявляет самого себя как принципиально уникальное существо, и поэтому поступок всегда связан с началом нового. Поступок основан на свободе и способности к инициативе. Иными словами, прочитать речь с табуретки, чтобы тебя куда-нибудь избрали — не поступок, не политическая речь. Это работа, осуществляемая в пределах социальных ожиданий (как мне надо себя вести, чтобы этих люди отреагировали определенным образом). Сказать или повести себя так, как тебе уникально свойственно ради самого этого действия, ради собственной явленности в мире, не ожидая определенной реакции или последствий — речь или поступок, из которых и состоит ткань политического.
Однако, в современной жизни такое, античное понятие политического больше не существует — оно было заменено социальным, экономическим, культурным. Частное хозяйство, то, что раньше было сугубо приватным делом, становится интересом и частью государства — уже нельзя просто жить внутри своей семьи/ойкоса, теперь все государство — одна большая семья, и все — её члены, и у всех вроде как есть ставки в общественных интересах. Единство интересов внутри семьи превратилось в единство интересов внутри общества/государства. Раньше семья, домашнее хозяйство означало выживание рода; теперь государство и общество означает выживание рода.
Telegram
Вроде культурный человек
3/3 Практическая часть
Удивительно, как вся человеческая жизнь стала посвящена, собственно, этому самому чисто природному/животному существованию, поддержанию жизни.
Это вроде как очевиднейшая мысль, но почему-то здесь она для меня раскрылась именно в…
Удивительно, как вся человеческая жизнь стала посвящена, собственно, этому самому чисто природному/животному существованию, поддержанию жизни.
Это вроде как очевиднейшая мысль, но почему-то здесь она для меня раскрылась именно в…
🔥16❤4👍3
2/3 Теоретическая часть
Получается, человек живет в социуме, который он не просто политически не учреждал и в котором он лишен возможности действовать политически — намного хуже, само устройство этого общества обусловлено некоторой иллюзией общности социально-экономических интересов, против которой выступать будет только очень неблагоразумный человек. Вместо поступка — поведение, которое всегда так или иначе соотносится и зависит от социума — оно контролируется либо напрямую (через власть, насилие и иные формы воздействия), либо опосредованно, через власть никто. Общество — это уже не просто сожительство, это способ организации, нормативная структура, которая исключает пространство для совершения свободного поступка. Появляется статистика, экономика, политэкономия — инструменты, которые позволяют сделать общественную и политическую жизнь конформной, предсказуемой, рассчитываемой. В этой структуре каждый анонимен и заменим — даже если человек делает, скажем, столы или снимает фильмы, он делает материальные объекты на заказ (явный или неявный), а не являет самого себя в мир. Даже создание не отвечает на вопрос «кто-ты-есть», что уж говорить о труде.
Одна из форм бунта против этой вечной социальной обусловленности, против как такового изчезновения пространства приватного — идея романтической индивидуальности, стремление жить вне социума — как вне структуры, диктующей определенное поведение.
Vita activa, деятельная жизнь вся свелась к труду — то есть поддержанию «голой жизни» (своей и своей семьи/государства). Труд из пространства приватного вышел в публичную сферу — и стал разделенным, стал источником прогресса и вечного разрастания природного. Работа стала главным человеческим делом — но это не работа как-то особенно возвысилась по сравнению с античным рабским трудом, напротив, работа осталась той тоже — это человек окончательно перестал быть хоть сколько-нибудь свободным. У человека не осталось других способов проявить себя деятельно — только через экономические сделки.
Получается, человек живет в социуме, который он не просто политически не учреждал и в котором он лишен возможности действовать политически — намного хуже, само устройство этого общества обусловлено некоторой иллюзией общности социально-экономических интересов, против которой выступать будет только очень неблагоразумный человек. Вместо поступка — поведение, которое всегда так или иначе соотносится и зависит от социума — оно контролируется либо напрямую (через власть, насилие и иные формы воздействия), либо опосредованно, через власть никто. Общество — это уже не просто сожительство, это способ организации, нормативная структура, которая исключает пространство для совершения свободного поступка. Появляется статистика, экономика, политэкономия — инструменты, которые позволяют сделать общественную и политическую жизнь конформной, предсказуемой, рассчитываемой. В этой структуре каждый анонимен и заменим — даже если человек делает, скажем, столы или снимает фильмы, он делает материальные объекты на заказ (явный или неявный), а не являет самого себя в мир. Даже создание не отвечает на вопрос «кто-ты-есть», что уж говорить о труде.
Одна из форм бунта против этой вечной социальной обусловленности, против как такового изчезновения пространства приватного — идея романтической индивидуальности, стремление жить вне социума — как вне структуры, диктующей определенное поведение.
Vita activa, деятельная жизнь вся свелась к труду — то есть поддержанию «голой жизни» (своей и своей семьи/государства). Труд из пространства приватного вышел в публичную сферу — и стал разделенным, стал источником прогресса и вечного разрастания природного. Работа стала главным человеческим делом — но это не работа как-то особенно возвысилась по сравнению с античным рабским трудом, напротив, работа осталась той тоже — это человек окончательно перестал быть хоть сколько-нибудь свободным. У человека не осталось других способов проявить себя деятельно — только через экономические сделки.
🔥15❤3
3/3 Практическая часть
Удивительно, как вся человеческая жизнь стала посвящена, собственно, этому самому чисто природному/животному существованию, поддержанию жизни.
Это вроде как очевиднейшая мысль, но почему-то здесь она для меня раскрылась именно в практическом смысле — не только на уровне, собственно, деятельности практической (мы вынуждены постоянно что-то делать для зарабатывания денег и обеспечения жизни — это заменило и исключило все остальные формы активной жизни, не говоря уж о жизни созерцательной), но и на уровне мыслей, целей, своей внутренней мыслительной и эмоциональной деятельности.
Ну то есть, рефлексируя о себе самой, я почти всегда так или иначе мыслю себя как существо полезное, или эффективное, или успешное, или реализованное, или включенное в социум, или кем-то одобренное или неодобренное, чем-то или кем-то обусловленное — но все эти вещи определены внешней необходимостью мне таковой являться (или не являться). А есть ли вообще что-то другое? Есть ли вещи, которые могу делать только я (например, вместо меня может работать кто угодно, если моя «голая жизнь» обеспечивается иначе — нет никакой разницы); могу делать без необходимости и обусловленности (как активное вступание-в-явленность именно меня); которые не превращаются сразу в зарабатывание денег или социального/медийного капитала или создание материальных предметов; ради них самих? Вряд ли на этот вопрос существует «чистый» ответ — но само это рассуждение открыло в моем мышлении какую-то новую локацию, в которой можно думать, держать речь и может быть даже совершать какой-либо поступок ради него самого, и который сообщает что-то обо мне самой.
Например, я часто думаю: вот, мне же нравится делать эту вещь. Может, превратить это в карьеру/начать этим зарабатывать/сделать из этого материал для контента? Это автоматизм, который за секунду превращает любую мысль или зародыш мысли в начало экономической сделки, превращает идею в продукт. Он упрощает все до состояния «как мне превратить эту вещь в поддержание жизни». Все мое символическое воображение «заражено» этой моментальной экономизацией, как будто в мире нет ничего другого, кроме рынка (хм)
Например-2, саморазвитие и прочая «работа над собой» — это тоже в лучшем случае создание/ремесло, потому что вообще идея, что «из себя можно что-то сделать», по сути, превращает меня в материал, в объект в мире объектов, что звучит как минимум сомнительно. (В политическом смысле тоже: когда мы думаем, что какой-то закон, медиа или сообщество может с людьми «что-то сделать», как-то их «переделать» в что-то более подходящее, «правильное»).
Еще меня увлекла идея исчезновения приватного, домашнего, истинно «своего» — человек так или иначе всегда «на виду», всегда подвержен социуму и социальным ожиданиям. И даже в одиночество всегда кто-то приглашен — например, насколько безумно выглядит, когда блогеры ставят камеру, чтобы записать, как они «проводят время с самими собой», «уходят в лес», «перезагружаются наедине с природой»? Считается ли, что ты начал новую жизнь, если люди в интернете про это не в курсе? Сколько вообще у меня осталось вещей, которые могут быть только моими — и, более того, насколько я вообще сама умею, собственно, вести эту самую приватную жизнь?
Наконец, важные вопросы смерти. Арендт, конечно, в этом смысле довольно романтично настроена: например, говорит она, человека от животного отличает сознательная готовность пострадать от собственного поступка. Человек может выбрать умереть в результате своих действий. Жизнь ради продления жизни, то есть мысли и действия только о необходимом и должном, стремление к успеху, комфорту и своей полезности — есть лишь затянувшееся на всю длину жизни умирание. Ибо если нет ничего другого, и смерть неизбежна, то это изначально провальное мероприятие. Как и все размышления о смерти, это — немного раздражает, but it def has merit.
Удивительно, как вся человеческая жизнь стала посвящена, собственно, этому самому чисто природному/животному существованию, поддержанию жизни.
Это вроде как очевиднейшая мысль, но почему-то здесь она для меня раскрылась именно в практическом смысле — не только на уровне, собственно, деятельности практической (мы вынуждены постоянно что-то делать для зарабатывания денег и обеспечения жизни — это заменило и исключило все остальные формы активной жизни, не говоря уж о жизни созерцательной), но и на уровне мыслей, целей, своей внутренней мыслительной и эмоциональной деятельности.
Ну то есть, рефлексируя о себе самой, я почти всегда так или иначе мыслю себя как существо полезное, или эффективное, или успешное, или реализованное, или включенное в социум, или кем-то одобренное или неодобренное, чем-то или кем-то обусловленное — но все эти вещи определены внешней необходимостью мне таковой являться (или не являться). А есть ли вообще что-то другое? Есть ли вещи, которые могу делать только я (например, вместо меня может работать кто угодно, если моя «голая жизнь» обеспечивается иначе — нет никакой разницы); могу делать без необходимости и обусловленности (как активное вступание-в-явленность именно меня); которые не превращаются сразу в зарабатывание денег или социального/медийного капитала или создание материальных предметов; ради них самих? Вряд ли на этот вопрос существует «чистый» ответ — но само это рассуждение открыло в моем мышлении какую-то новую локацию, в которой можно думать, держать речь и может быть даже совершать какой-либо поступок ради него самого, и который сообщает что-то обо мне самой.
Например, я часто думаю: вот, мне же нравится делать эту вещь. Может, превратить это в карьеру/начать этим зарабатывать/сделать из этого материал для контента? Это автоматизм, который за секунду превращает любую мысль или зародыш мысли в начало экономической сделки, превращает идею в продукт. Он упрощает все до состояния «как мне превратить эту вещь в поддержание жизни». Все мое символическое воображение «заражено» этой моментальной экономизацией, как будто в мире нет ничего другого, кроме рынка (хм)
Например-2, саморазвитие и прочая «работа над собой» — это тоже в лучшем случае создание/ремесло, потому что вообще идея, что «из себя можно что-то сделать», по сути, превращает меня в материал, в объект в мире объектов, что звучит как минимум сомнительно. (В политическом смысле тоже: когда мы думаем, что какой-то закон, медиа или сообщество может с людьми «что-то сделать», как-то их «переделать» в что-то более подходящее, «правильное»).
Еще меня увлекла идея исчезновения приватного, домашнего, истинно «своего» — человек так или иначе всегда «на виду», всегда подвержен социуму и социальным ожиданиям. И даже в одиночество всегда кто-то приглашен — например, насколько безумно выглядит, когда блогеры ставят камеру, чтобы записать, как они «проводят время с самими собой», «уходят в лес», «перезагружаются наедине с природой»? Считается ли, что ты начал новую жизнь, если люди в интернете про это не в курсе? Сколько вообще у меня осталось вещей, которые могут быть только моими — и, более того, насколько я вообще сама умею, собственно, вести эту самую приватную жизнь?
Наконец, важные вопросы смерти. Арендт, конечно, в этом смысле довольно романтично настроена: например, говорит она, человека от животного отличает сознательная готовность пострадать от собственного поступка. Человек может выбрать умереть в результате своих действий. Жизнь ради продления жизни, то есть мысли и действия только о необходимом и должном, стремление к успеху, комфорту и своей полезности — есть лишь затянувшееся на всю длину жизни умирание. Ибо если нет ничего другого, и смерть неизбежна, то это изначально провальное мероприятие. Как и все размышления о смерти, это — немного раздражает, but it def has merit.
🔥28❤2👍2
Смотрите, какая стилевая дореволюционная обложка «Автобиографии» Джона Стюарта Милля. (Идея, которую не стоит реализовывать: собрать читательский клуб и прочитать «Книги, написанные философами после нервного срыва». Там уже есть Вебер и Милль, и Юма возьмем, собирается хорошая компания для разговоров о том, «эдак как его кроет»).
🔥19
Сначала читала No Kidding, потом работала в No Kidding, сейчас снова читаю, а скоро и читать будет нечего. Мне кажется, it's only fair — завершать такую историю книгой Моры О’Халлоран. «Слова мудреные, но на самом деле все кристально ясно».
(Перевод цитаты мой, в книжке получше будет).
(Перевод цитаты мой, в книжке получше будет).
Я много работала над своим коаном и обнаружила несколько хороших установок. Я была деревянным Буддой и пламенем. Все должно измениться, но на самом деле ничего не меняется, потому что все постоянно меняется. Поскольку на самом деле ничего не существует, как оно может перестать существовать? Пламя не более постоянно и не более мощно, чем Будда. Все они — муджи [коан му]. Изменения происходят всегда — те, которые мы воспринимаем, и те, которые мы не воспринимаем. Мы воспринимаем перемены в связи с зафиксированными идеями, но на самом деле они не зафиксированы, а значит, и не являются переменами. Слова мудреные, но на самом деле все кристально ясно. Легкий ветерок превратился в бушующий шторм; все изменилось, но не совсем.; и то, и другое — всего лишь частицы воздуха, находящиеся в движении.
❤14🔥5
Forwarded from издательство без шуток
Вышла книга «Чистое сердце, просветленный ум» Моры О’Халлоран в переводе Софьи Абашевой под редакцией Анастасии Каркачевой.
В свои двадцать лет Мора О’Халлоран участвует в университетских демонстрациях, подговаривает официанток учредить профсоюз и как волонтерка работает с детьми с аутизмом. Мора берет пример с католической святой Матери Терезы, но дома медитирует в позе лотоса, удивляя родных, — в Ирландии 1970-х годов буддийские практики еще не пользуются популярностью. В двадцать четыре она отправляется в Японию без особых планов и три года проводит в буддийском монастыре. В книге собраны дневники и письма Моры О’Халлоран за эти три года: с начала путешествия в Японию до окончания ученичества в монастыре Тосёдзи. Она стала первой западной женщиной, удостоенной передачи дхармы, и получила право преподавать учение дзэн. Однако на пути из Токио в Дублин Мора погибла в автомобильной аварии — ей было двадцать семь лет. В память о «великой просветленной» в храме Каннондзи установлена статуя Моры в образе бодхисаттвы сострадания. При всей серьезности духовных исканий интонация О’Халлоран далека от благочестивой отстраненности: в письмах она подшучивает над чванством гавайских кришнаитов, критикует гендерное неравенство и набрасывает план диссертации. Ее дневники свидетельствуют о монашеской жизни, посвященной труду и познанию: «пустота» и другие понятия философии дзэн едва ли поддаются словесному выражению, но варка риса и совместная трапеза день ото дня становятся медитацией.
Сейчас книга есть на Озоне и в книжных магазинах, в том числе ее много в «Подписных изданиях», и мы готовим небольшую допечатку. Также мы постепенно подвозим остатки старых книг на Озон, где все закончилось перед Новым годом.
Спасибо вам огромное за все слова поддержки и пожертвования. Это неоценимо.
В свои двадцать лет Мора О’Халлоран участвует в университетских демонстрациях, подговаривает официанток учредить профсоюз и как волонтерка работает с детьми с аутизмом. Мора берет пример с католической святой Матери Терезы, но дома медитирует в позе лотоса, удивляя родных, — в Ирландии 1970-х годов буддийские практики еще не пользуются популярностью. В двадцать четыре она отправляется в Японию без особых планов и три года проводит в буддийском монастыре. В книге собраны дневники и письма Моры О’Халлоран за эти три года: с начала путешествия в Японию до окончания ученичества в монастыре Тосёдзи. Она стала первой западной женщиной, удостоенной передачи дхармы, и получила право преподавать учение дзэн. Однако на пути из Токио в Дублин Мора погибла в автомобильной аварии — ей было двадцать семь лет. В память о «великой просветленной» в храме Каннондзи установлена статуя Моры в образе бодхисаттвы сострадания. При всей серьезности духовных исканий интонация О’Халлоран далека от благочестивой отстраненности: в письмах она подшучивает над чванством гавайских кришнаитов, критикует гендерное неравенство и набрасывает план диссертации. Ее дневники свидетельствуют о монашеской жизни, посвященной труду и познанию: «пустота» и другие понятия философии дзэн едва ли поддаются словесному выражению, но варка риса и совместная трапеза день ото дня становятся медитацией.
Сейчас книга есть на Озоне и в книжных магазинах, в том числе ее много в «Подписных изданиях», и мы готовим небольшую допечатку. Также мы постепенно подвозим остатки старых книг на Озон, где все закончилось перед Новым годом.
Спасибо вам огромное за все слова поддержки и пожертвования. Это неоценимо.
❤23👍3