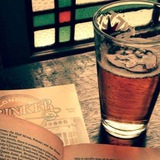Ницше презирал Сократа. Он превратил диалектику в оружие: заставлял своих собеседников доказывать, что они не верблюды, что они не неправы. Сократ уничтожил дионисийский дух, лишил мир музыки, а человека — величия. Возвеличил разум, рацио, принизил страсти: gateway drug to christianity. Но не всю античность Ницше ненавидел одинаково. Как и стоики, Ницше пишет об отношении к вещам, amor fati и тд. Но он все же склонен считать стоицизм болезнью (или её симптомом), а не лекарством.
Вот почему, — или три причины быть ницшеанцем.
Пассивность vs will to power. Стоики известны дихотомией контроля: отличите то, что вы можете контролировать, от того, что контролировать не можете, и сосредоточьтесь на первом. В пределе контроля стоика три вещи: то, как я себя веду; то, как я обращаюсь с людьми; то, какие мысли и эмоции у меня возникают. Внешний мир мне неподвластен — и следует избегать связанных с ним неприятных ощущений. Причина — в радикальном детерминизме: мир стоика предопределен, как и его судьба, и роптать на неё — только портить себе настроение. Это приводит к проблеме пассивности — нет причин заниматься внешними проблемами (политическими, социальными). В мире стоика нет места случаю и риску — исход заранее предопределен.
Это противоречит Ницшеанскому взгляду big time. По Ницше, естественная потребность и стремление человека (да и кого угодно) в мире — проявить свою агентность, волю к власти. Мы пытаемся оказать воздействие, выиграть в столкновении воль — эта попытка может быть успешной, а может и провалиться, может принести удовольствие или боль. Любой исход естественен, главное — иметь волю проявлять себя. Путь к счастью стоика — не давать страстям себя контролировать; путь Ницше — иметь волю к жизни и быть готовым к тому, что следование своим страстям может принести радость, а может — страдание. В стоической пассивности (и, шире — в античном спокойствии) невозможно прожить жизнь наполненную, дикую, возможно, неудачливую — но это, по Ницше, достойная цена за то, чтобы прожить жизнь, пытаясь стать собой, воспользоваться тем потенциалом (источником жизненной энергии), который заложен в каждом. Шанс, удача, риск.
Негативные эмоции — плохо. Отсутствие негативных эмоций — хорошо. Стоическая идея — желание и удовольствие, а, тем более, желание удовольствия — путь к страданию и боли (ведь от нас не зависит, получим мы желаемое или нет). Ницше не спорит с этой конструкцией, он, однако, не считает это аргументом от желаний и удовольствий отказаться — напротив, нужно больше хотеть, больше стремиться, и да, быть готовым испытать боль. Различие в эмоциях — не хороши эти эмоции или плохи, беспокоят они нас или нет; различение — полезны эти эмоции для нас или вредны? делают они нас сильнее или слабее? происходит ли творческий характер от голода или переизбытка? Это — путь к более полной, страстной жизни, а не скучное и безжизненное стоическое спокойствие, безразличие к безразличным вещам.
(Не) быть потревоженным. Стоицизм говорит: если у тебя украли лампу, не тревожься, ведь она никогда тебе не принадлежала. Купи дешевую лампу. Мы потревожены не самими вещами — а своими суждениями о вещах. Измените свои суждения — и вы не будете потревожены. Принимайте все, что вам дает жизнь, принимайте и все, что она отбирает — но свои чувства по этому поводу отвергайте. Вам кажется, что вам нанесли вред? Вам кажется.
Принятие Ницше не такое выборочное — оно радикально: принимайте все, в том числе самого себя. Бесит бабка в метро? Да, это мелочно, да, это по-детски, да, не хочется быть человеком, который бесится от таких мелочей — но я уже этот человек, и мне хочется реагировать. Украли лампу? Суровая правда в том, что мне действительно нанесли вред, это не только видимость в моей голове. Принимайте свое раздражение, злость и гнев.
Стоицизм, по Ницше, воспитывает людей слабых и боящихся своих страстей — и потому пытающихся их устранить. Не надо так. Живите не против этого — с этим.
Вот почему, — или три причины быть ницшеанцем.
Пассивность vs will to power. Стоики известны дихотомией контроля: отличите то, что вы можете контролировать, от того, что контролировать не можете, и сосредоточьтесь на первом. В пределе контроля стоика три вещи: то, как я себя веду; то, как я обращаюсь с людьми; то, какие мысли и эмоции у меня возникают. Внешний мир мне неподвластен — и следует избегать связанных с ним неприятных ощущений. Причина — в радикальном детерминизме: мир стоика предопределен, как и его судьба, и роптать на неё — только портить себе настроение. Это приводит к проблеме пассивности — нет причин заниматься внешними проблемами (политическими, социальными). В мире стоика нет места случаю и риску — исход заранее предопределен.
Это противоречит Ницшеанскому взгляду big time. По Ницше, естественная потребность и стремление человека (да и кого угодно) в мире — проявить свою агентность, волю к власти. Мы пытаемся оказать воздействие, выиграть в столкновении воль — эта попытка может быть успешной, а может и провалиться, может принести удовольствие или боль. Любой исход естественен, главное — иметь волю проявлять себя. Путь к счастью стоика — не давать страстям себя контролировать; путь Ницше — иметь волю к жизни и быть готовым к тому, что следование своим страстям может принести радость, а может — страдание. В стоической пассивности (и, шире — в античном спокойствии) невозможно прожить жизнь наполненную, дикую, возможно, неудачливую — но это, по Ницше, достойная цена за то, чтобы прожить жизнь, пытаясь стать собой, воспользоваться тем потенциалом (источником жизненной энергии), который заложен в каждом. Шанс, удача, риск.
Негативные эмоции — плохо. Отсутствие негативных эмоций — хорошо. Стоическая идея — желание и удовольствие, а, тем более, желание удовольствия — путь к страданию и боли (ведь от нас не зависит, получим мы желаемое или нет). Ницше не спорит с этой конструкцией, он, однако, не считает это аргументом от желаний и удовольствий отказаться — напротив, нужно больше хотеть, больше стремиться, и да, быть готовым испытать боль. Различие в эмоциях — не хороши эти эмоции или плохи, беспокоят они нас или нет; различение — полезны эти эмоции для нас или вредны? делают они нас сильнее или слабее? происходит ли творческий характер от голода или переизбытка? Это — путь к более полной, страстной жизни, а не скучное и безжизненное стоическое спокойствие, безразличие к безразличным вещам.
(Не) быть потревоженным. Стоицизм говорит: если у тебя украли лампу, не тревожься, ведь она никогда тебе не принадлежала. Купи дешевую лампу. Мы потревожены не самими вещами — а своими суждениями о вещах. Измените свои суждения — и вы не будете потревожены. Принимайте все, что вам дает жизнь, принимайте и все, что она отбирает — но свои чувства по этому поводу отвергайте. Вам кажется, что вам нанесли вред? Вам кажется.
Принятие Ницше не такое выборочное — оно радикально: принимайте все, в том числе самого себя. Бесит бабка в метро? Да, это мелочно, да, это по-детски, да, не хочется быть человеком, который бесится от таких мелочей — но я уже этот человек, и мне хочется реагировать. Украли лампу? Суровая правда в том, что мне действительно нанесли вред, это не только видимость в моей голове. Принимайте свое раздражение, злость и гнев.
Стоицизм, по Ницше, воспитывает людей слабых и боящихся своих страстей — и потому пытающихся их устранить. Не надо так. Живите не против этого — с этим.
🔥28❤11✍6
Доисторический человек и иллюзия Руссо
(1/2) Как мы представляем себе доисторических людей? Микро-сообщества добрых собирателей и охотников, решения принимаются сообща, никто никем не управляет, имущество не копится и никому не принадлежит, все едят органический мед, эко-овощи и grass-fed bison, живут минималистично и не забывают трогать траву. Нет государств, власти человека над человеком, бесчестия и, разумеется, социального неравенства. Этот праздник заканчивается с появлением сельского хозяйства: людям больше не нужно бродить за стадами бизонов, появляется переизбыток еды, ресурсы начинают распределяться неравномерно, всему обществу больше не нужно только искать еду — кто-то начинает заниматься ремеслами, культурой, письмом, культом, наукой, правом. Собственность начинает не только принадлежать, но и наследоваться. Сообщества разрастаются, появляются города — и необходимость ими управлять. Вырисовывается то самое промышленное общество, которое нам знакомо. Бюрократия, монополия на насилие, правящий класс, принуждение, социальное неравенство, — плата за цивилизованную жизнь. Да, наивный естественный человек из сообщества собирателей был куда более свободен и равен — но, чтобы поддерживать текущий уровень жизни, мы должны смириться с недостатками цивилизации, которая сделала его возможным. Эгалитарность — признак небольших сообществ, чтобы туда попасть, нужно избавиться от бОльшей части населения планеты и ночной доставки одного пакетика чипсов. Мы же этого не хотим, верно? Верно.
Таков привычный исторический нарратив — он доказывает, почему современные общества не могут стать более свободными, эгалитарными, хоть какими-нибудь другими. Социальное развитие — направленная стрела прогресса, и мы живем в единственной из возможных форм общества. В сложной социальной структуре неизбежно будут элиты, захватывающие власть над ресурсами, и управляющие всеми остальными. Альтернатива — только возврат в прошлое.
Проблема в том, что все это не слишком…соответствует реальности. Идея естественного человека и её исторические аргументы — это иллюзия Руссо. Его естественный человек — мыслительный эксперимент философа, а не исторический факт. Дикарь, впечатливший Руссо (тогда в Европе было модно рассуждать об индейцах Нового света) — в первую очередь этический идеал. Он самодостаточен и не склонен к стяжательству, жажда власти ему неведома; он абсолютно добр, ведь только в обществе у людей могут возникнуть злые мысли; он ни с кем себя не сравнивает и не испытывает зависти; и так далее. Мы, отдаляясь от своего благородного первобытного состояния, все больше отдаляемся от себя настоящих — и начинаем жить социально, а социальная жизнь неизбежно приводит к неравенству и дисбалансу власти. Похожий нарратив потом воспроизвел Фукуяма: стабильное, стадийное развитие общества от небольших групп к племенам, к вождествам, к сложноустроенным стратифицированным государствам, в которых мы живем сегодня, что определяется их монополией на «законное применение принудительной силы».
В реальности же наши давние предки были далеки от этой идиллической картинки эгалилатрных групп охотников и собирателей, и у нас есть основания считать, что неравенство и социальная иерархия существовали уже тогда. Например, богатое захоронение детей в Сунгири под Владимиром (если давно не падали в дыру гиперфокуса на рандомном историческом сюжете — погуглите Сунгирь) показывает, что традиция наследования имущества, власти и положения в обществе существовала до начала оседлого периода — что противоречит иллюзии Руссо. Монументальные постройки, в том числе культовые, тоже существовали задолго до общепринятого «начала цивилизации», неолитической революции — например, Гёбекли-Тепе (тоже советую), чье строительство началось в мезолите. У наивных дикарей уже существовала социальная иерархия (возможно, рабовладельческая) и структура власти, которая могла заставить пятьсот человек собраться и тащить куда-то колонну весом в десятки тонн, а потом вырезать на них сложно-устроенные сюжеты — не ради выживания, а ради культа.
(1/2) Как мы представляем себе доисторических людей? Микро-сообщества добрых собирателей и охотников, решения принимаются сообща, никто никем не управляет, имущество не копится и никому не принадлежит, все едят органический мед, эко-овощи и grass-fed bison, живут минималистично и не забывают трогать траву. Нет государств, власти человека над человеком, бесчестия и, разумеется, социального неравенства. Этот праздник заканчивается с появлением сельского хозяйства: людям больше не нужно бродить за стадами бизонов, появляется переизбыток еды, ресурсы начинают распределяться неравномерно, всему обществу больше не нужно только искать еду — кто-то начинает заниматься ремеслами, культурой, письмом, культом, наукой, правом. Собственность начинает не только принадлежать, но и наследоваться. Сообщества разрастаются, появляются города — и необходимость ими управлять. Вырисовывается то самое промышленное общество, которое нам знакомо. Бюрократия, монополия на насилие, правящий класс, принуждение, социальное неравенство, — плата за цивилизованную жизнь. Да, наивный естественный человек из сообщества собирателей был куда более свободен и равен — но, чтобы поддерживать текущий уровень жизни, мы должны смириться с недостатками цивилизации, которая сделала его возможным. Эгалитарность — признак небольших сообществ, чтобы туда попасть, нужно избавиться от бОльшей части населения планеты и ночной доставки одного пакетика чипсов. Мы же этого не хотим, верно? Верно.
Таков привычный исторический нарратив — он доказывает, почему современные общества не могут стать более свободными, эгалитарными, хоть какими-нибудь другими. Социальное развитие — направленная стрела прогресса, и мы живем в единственной из возможных форм общества. В сложной социальной структуре неизбежно будут элиты, захватывающие власть над ресурсами, и управляющие всеми остальными. Альтернатива — только возврат в прошлое.
Проблема в том, что все это не слишком…соответствует реальности. Идея естественного человека и её исторические аргументы — это иллюзия Руссо. Его естественный человек — мыслительный эксперимент философа, а не исторический факт. Дикарь, впечатливший Руссо (тогда в Европе было модно рассуждать об индейцах Нового света) — в первую очередь этический идеал. Он самодостаточен и не склонен к стяжательству, жажда власти ему неведома; он абсолютно добр, ведь только в обществе у людей могут возникнуть злые мысли; он ни с кем себя не сравнивает и не испытывает зависти; и так далее. Мы, отдаляясь от своего благородного первобытного состояния, все больше отдаляемся от себя настоящих — и начинаем жить социально, а социальная жизнь неизбежно приводит к неравенству и дисбалансу власти. Похожий нарратив потом воспроизвел Фукуяма: стабильное, стадийное развитие общества от небольших групп к племенам, к вождествам, к сложноустроенным стратифицированным государствам, в которых мы живем сегодня, что определяется их монополией на «законное применение принудительной силы».
В реальности же наши давние предки были далеки от этой идиллической картинки эгалилатрных групп охотников и собирателей, и у нас есть основания считать, что неравенство и социальная иерархия существовали уже тогда. Например, богатое захоронение детей в Сунгири под Владимиром (если давно не падали в дыру гиперфокуса на рандомном историческом сюжете — погуглите Сунгирь) показывает, что традиция наследования имущества, власти и положения в обществе существовала до начала оседлого периода — что противоречит иллюзии Руссо. Монументальные постройки, в том числе культовые, тоже существовали задолго до общепринятого «начала цивилизации», неолитической революции — например, Гёбекли-Тепе (тоже советую), чье строительство началось в мезолите. У наивных дикарей уже существовала социальная иерархия (возможно, рабовладельческая) и структура власти, которая могла заставить пятьсот человек собраться и тащить куда-то колонну весом в десятки тонн, а потом вырезать на них сложно-устроенные сюжеты — не ради выживания, а ради культа.
❤17👍4
(2/2) Дэвид Гребер (это была одна из его любимых тем) описывает прекраснейшую гипотезу: представлять, что общество всегда устроено абсолютно одинаково — это наша современная привычка, появившаяся благодаря капитализму, электричеству, Генри Форду и всему тому, что отделило человека от окружающего его мира, сделало его всегда работающим при свете лампы восемь часов в день на дядю, каждый день, в вакууме, и отделило его работу от собственно того, что обеспечивает его выживание. Вполне вероятно, что первобытные сообщества перестраивались вслед за годовыми или двухлетними циклами миграций животных и урожаев. Какую-то часть времени они действительно проводили в небольших группах охотников и собирателей, но в «жирное время» собирались вместе, формировали микро-города и участвовали в сложных ритуалах, масштабных художественных проектах и торговле. Тот самый Стоунхендж был, вероятно, одним из примеров таких масштабных проектов — они собирались в определенное время года и в разных местах, а потом, через одно или два поколения, разбирались. Переход к земледелию тоже не был резким, революционным, изменившим все, как принято думать — столетиями существовали племена, которые занимались и тем, и другим, а порой забрасывали земледелие, потом снова к нему возвращались.
Наши предки не жили в какой-то одной социальной структуре — напротив, сама идея социальной структуры была подвижной и могла зависеть, например, от времен года.
Такая институциональная гибкость не производит истину, но открывает дорогу воображению — которое из социальной науки сознательно вымарывалось иллюзией нарратива последовательного развития. Напротив: история показывает, что у нас есть опыт социальной подвижности, переходов от одного устройства общества к другому. Например, опыт строительства авторитарных структур в определенный момент и для определенных нужд — при условии, что они не могут и не будут длиться вечно, что ни один конкретный социальный порядок не будет зафиксированным или неизменным. Или, например, еще одна удивительная идея — своеобразное контейнирование неравенства внутри ритуальных костюмированных драм, сотворение богов и царств так же, как и памятников — на время, только затем, чтобы потом их разобрать. Отдельно, конечно, увлекает идея социального устройства (устройств), синхронизированных с ритмом окружающего мира и природы.
Это не решает наши проблемы (что же, оказывается, человек всегда жил в том или ином неравенстве?!) — но закладывает основания для альтернативных историй, новых взглядов на историю: а новое настоящее, как известно, всегда требует нового прошлого. Мы задаемся вопросами типа «откуда берется неравенство», но куда интереснее спросить себя — «как так получилось, что мы настолько застряли», либо, еще один шаг — «почему мы чувствуем себя настолько застрявшими в текущей форме жизни»? Вот это реально интересный вопрос.
Наши предки не жили в какой-то одной социальной структуре — напротив, сама идея социальной структуры была подвижной и могла зависеть, например, от времен года.
Другим примером могут служить коренные охотники-собиратели Северо–Западного побережья Канады, для которых зима была временем, когда общество принимало свою наиболее неравную форму. Вдоль побережья Британской Колумбии возникали построенные из досок дворцы, где потомственные дворяне вершили суд над простолюдинами и рабами и устраивали грандиозные банкеты (потлак). Но эти аристократические дворы распадались на время летней рыбалки, превращаясь в более мелкие клановые образования с иной и менее формальной структурой. Люди даже носили разные имена летом и зимой — человек буквально становился кем-то другим в зависимости от времени года.
Такая институциональная гибкость не производит истину, но открывает дорогу воображению — которое из социальной науки сознательно вымарывалось иллюзией нарратива последовательного развития. Напротив: история показывает, что у нас есть опыт социальной подвижности, переходов от одного устройства общества к другому. Например, опыт строительства авторитарных структур в определенный момент и для определенных нужд — при условии, что они не могут и не будут длиться вечно, что ни один конкретный социальный порядок не будет зафиксированным или неизменным. Или, например, еще одна удивительная идея — своеобразное контейнирование неравенства внутри ритуальных костюмированных драм, сотворение богов и царств так же, как и памятников — на время, только затем, чтобы потом их разобрать. Отдельно, конечно, увлекает идея социального устройства (устройств), синхронизированных с ритмом окружающего мира и природы.
Это не решает наши проблемы (что же, оказывается, человек всегда жил в том или ином неравенстве?!) — но закладывает основания для альтернативных историй, новых взглядов на историю: а новое настоящее, как известно, всегда требует нового прошлого. Мы задаемся вопросами типа «откуда берется неравенство», но куда интереснее спросить себя — «как так получилось, что мы настолько застряли», либо, еще один шаг — «почему мы чувствуем себя настолько застрявшими в текущей форме жизни»? Вот это реально интересный вопрос.
❤24
Главный враг демократии — она сама, или об аутоимунном ответе демократии
Когда где-то в мире «неправильный народ» выбирает «неправильного кандидата», «неправильную партию» пытаются не допустить до выборов, или предполагается, что есть какой-то «правильный выбор», я думаю — удивительно, как мало мы продвинулись в политическом воображении за две с гаком тысячи лет.
Демократия уничтожит саму себя. Еще у Платона, для которого политическая история была плоским кругом, демократия неизбежно приводила к тирании: хаос, низкий уровень познаний в государственном управлении и выбор большинства позволяют честолюбивым политикам и демагогам воспользоваться демократическими инструментами, чтобы прийти к власти и захватить её. «Государство»:
Свобода — то, что демократия объявляет как свое главное благо и ценность, её и разрушает. Бедняки выберут недостойных — тут и политии конец.
Это «подозрение к демократии» можно увидеть у Гоббса, Руссо, Шумпетера, Шмитта и десятков политических мыслителей на протяжении веков: они видели в ней потенциал к саморазрушению. Будь-то по естественным причинам (война всех против всех Гоббса), или по причинам процессуальным и легалистским (в том числе благодаря Шумпетеру мы считаем, что демократия может быть только представительной, где народное участие де-политизируется и минимизируется до голосования в определенное время за ту или иную партию, представляющую агрегированные группы интересов). Все, что мы знаем о демократии, написано людьми, которые ей не доверяли и пытались её ограничить.
Эти врожденные проблемы приводят к аутоимунному ответу. Следите за руками: ключевое качество демократии — безусловная свобода, и эта свобода распространяется, в том числе, и на право принимать антидемократические решения, потому что если этой свободы нет, у нас нет, на деле, и демократии. Она должна давать право публично критиковать саму себя, и быть абсолютно гостеприимной — то есть приглашать к участию всех, в том числе несогласных.
Но что, если она этого делать не будет? Что, если демократия захочет себя защитить? Такую «воинствующую демократию» описал в 30-х годах сбежавший из Германии юрист Карл Левенштайн. Демократия должна защитить себя от фашизма (сейчас — еще терроризма и популизма). Это — технологии захвата власти, они лишены идеологического содержания: за ними не стоит настоящей идеи и народной поддержки, это способ антидемократических сил захватить власть, манипулируя народом. (Насколько эта оценка валидна — отдельный вопрос).
Как защищает себя воинствующая демократия? Она борется с фашизмом (популизмом, терроризмом) их методами — не рассчитывая на победу духа и демократического фундаментализма, она передавливает технологию захвата власти…захватом власти. В воинствующей демократии допускается временно (разумеется :)) поставить на паузу конституциональные принципы: разрешается нарушение гражданских прав людей и партий, их исключение из политики, консолидация власти в руках определенных людей и институтов, и так далее. Люди голосуют неправильно? Нужно минимизировать влияние народа. Антидемократическая партия слишком популярна? Нужно запретить ей участие в политике. Опасный для демократии кандидат? Нужно посадить его в тюрьму. Нельзя не заметить, что это звучит подозрительно — подозрительно похоже на авторитаризм. Так и есть: стремясь защитить себя от авторитарных лидеров и других врожденных рисков, демократия ограничивает свои изначальные предпосылки и, в конечном итоге, вырождается в ту или иную форму авторитаризма.
И воинствующая демократия, и другие такие идеи — привычный исключающий, элитистский подход к демократическому правительству. Его фундамент — принципиальное неверие в то, что люди могут управлять сами собой. Ничего нового.
Когда где-то в мире «неправильный народ» выбирает «неправильного кандидата», «неправильную партию» пытаются не допустить до выборов, или предполагается, что есть какой-то «правильный выбор», я думаю — удивительно, как мало мы продвинулись в политическом воображении за две с гаком тысячи лет.
Демократия уничтожит саму себя. Еще у Платона, для которого политическая история была плоским кругом, демократия неизбежно приводила к тирании: хаос, низкий уровень познаний в государственном управлении и выбор большинства позволяют честолюбивым политикам и демагогам воспользоваться демократическими инструментами, чтобы прийти к власти и захватить её. «Государство»:
Демократия осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию.
Свобода — то, что демократия объявляет как свое главное благо и ценность, её и разрушает. Бедняки выберут недостойных — тут и политии конец.
Это «подозрение к демократии» можно увидеть у Гоббса, Руссо, Шумпетера, Шмитта и десятков политических мыслителей на протяжении веков: они видели в ней потенциал к саморазрушению. Будь-то по естественным причинам (война всех против всех Гоббса), или по причинам процессуальным и легалистским (в том числе благодаря Шумпетеру мы считаем, что демократия может быть только представительной, где народное участие де-политизируется и минимизируется до голосования в определенное время за ту или иную партию, представляющую агрегированные группы интересов). Все, что мы знаем о демократии, написано людьми, которые ей не доверяли и пытались её ограничить.
Эти врожденные проблемы приводят к аутоимунному ответу. Следите за руками: ключевое качество демократии — безусловная свобода, и эта свобода распространяется, в том числе, и на право принимать антидемократические решения, потому что если этой свободы нет, у нас нет, на деле, и демократии. Она должна давать право публично критиковать саму себя, и быть абсолютно гостеприимной — то есть приглашать к участию всех, в том числе несогласных.
Но что, если она этого делать не будет? Что, если демократия захочет себя защитить? Такую «воинствующую демократию» описал в 30-х годах сбежавший из Германии юрист Карл Левенштайн. Демократия должна защитить себя от фашизма (сейчас — еще терроризма и популизма). Это — технологии захвата власти, они лишены идеологического содержания: за ними не стоит настоящей идеи и народной поддержки, это способ антидемократических сил захватить власть, манипулируя народом. (Насколько эта оценка валидна — отдельный вопрос).
Как защищает себя воинствующая демократия? Она борется с фашизмом (популизмом, терроризмом) их методами — не рассчитывая на победу духа и демократического фундаментализма, она передавливает технологию захвата власти…захватом власти. В воинствующей демократии допускается временно (разумеется :)) поставить на паузу конституциональные принципы: разрешается нарушение гражданских прав людей и партий, их исключение из политики, консолидация власти в руках определенных людей и институтов, и так далее. Люди голосуют неправильно? Нужно минимизировать влияние народа. Антидемократическая партия слишком популярна? Нужно запретить ей участие в политике. Опасный для демократии кандидат? Нужно посадить его в тюрьму. Нельзя не заметить, что это звучит подозрительно — подозрительно похоже на авторитаризм. Так и есть: стремясь защитить себя от авторитарных лидеров и других врожденных рисков, демократия ограничивает свои изначальные предпосылки и, в конечном итоге, вырождается в ту или иную форму авторитаризма.
И воинствующая демократия, и другие такие идеи — привычный исключающий, элитистский подход к демократическому правительству. Его фундамент — принципиальное неверие в то, что люди могут управлять сами собой. Ничего нового.
❤16👍6
Мы, конечно, устали от аргумента то европоцентрично, это европоцентрично. Но что поделать, если многое до сих пор европоцентрично.
Даже популизм.
В европейской традиции принято ставить знак равенства между популизмом и фашизмом. Либеральная демократия и популизм находятся в антагонистической связи: либерализм отвечает за индивидуальные права, защиту прав меньшинств и верховенство закона (понимаемого в легалистском, процедурном смысле: закон, по сути, просто структура для обеспечения работы либерализма). Популизм представляет волю народа (will of the people), общественное благо — которое вполне может оказываться выше (или реализовываться за счет) либеральных ценностей. Популистские движения бросают вызов устоявшимся институтам власти и элитам, что угрожает «системе сдержек и противовесов», которая и обеспечивает стабильное существование либеральной демократии. Когда народные массы добираются до власти — ничего хорошего не жди. Старейшая идея в западной политической традиции.
Проблема возникает, когда популизм — по сути, лишь форма для политизации массового участия, — обретает идеологическое содержание. Без него популизм производит нейтральные утверждения: устоявшиеся институты (суды, медиа, закон) мешают волеизъявлению народа; rule of the people конфликтует с minority rights; налицо эррозия доверия народа институтам; очевиден и конфликт между «народом» и «элитой», чьи политические интересы по своей сути несовместимы. Все так, кто же сейчас будет с этим спорить? Но когда между популизмом и каким-то еще -измом ставится знак равенства, популизм превращается в кризис и универсальное пугало «что пошло не так в западной политике».
В другой (тм) части мира все несколько иначе. Во многих латиноамериканских странах — подобно забытой или, скажем так, репрессированной истории популистской партии США — популизм воспринимается как освободительный феномен, антиолигархический, эгалитарный проект, который интегрирует обедневшие масс в политическую систему. (Правительства четы Киршнер в Аргентине, популистские правительства Уго Чавеса в Венесуэле, Лулы да Силвы в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Рафаэля Корреа в Эквадоре или Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике — разные проекты, но они пытались реализовывать политические требования, сформулированные на народном уровне, через государственные институты).
У этих популизмов (имевших разные исторические результаты) есть нечто общее. Рост популярности популистских взглядов чаще всего не означает разочарование в идее демократии (в конце концов, популизм и есть демократия), и даже не всегда означает разочарование в идее либеральной демократии — но он показывает недовольство тем, как текущая форма (либеральной, или, чаще всего, уже откровенно олигархической) демократии работает прямо сейчас. Мы не против партий вообще, мы против этих партий и их работы; мы не против демократического государства вообще, мы против этого государства и его работы.
Популизм не стремится отменить индивидуальные права per se — скорее, согласно логике некоторых современных политических авторов, он приносит антагонизм в государство, используя завоеванные институты для удовлетворения народных требований и подавления олигархического господства.
Самые большие проблемы у демократии начинаются, когда «просвещенные элиты» пытаются игнорировать или отвергать популизм как националистическую идеологию невежественных масс. Это скрывает истинную суть уже существующего социально-политического конфликта «народ-элиты», уже происходящую реакцию на системное разложение либеральной демократии: если «народ» един в своих интересах, то нет и необходимости в дискуссиях и согласовании различных интересов, а если такие практики необходимы, значит, есть те, чьи интересы не соблюдаются. Современная (буквально — последних лет) политическая мысль толкает нас в сторону популистского проекта — не запрета, а институализации конфликта между народом и элитами.
Если я не буду отвлекаться, следующий пост будет про плебейский республиканизм.
Даже популизм.
В европейской традиции принято ставить знак равенства между популизмом и фашизмом. Либеральная демократия и популизм находятся в антагонистической связи: либерализм отвечает за индивидуальные права, защиту прав меньшинств и верховенство закона (понимаемого в легалистском, процедурном смысле: закон, по сути, просто структура для обеспечения работы либерализма). Популизм представляет волю народа (will of the people), общественное благо — которое вполне может оказываться выше (или реализовываться за счет) либеральных ценностей. Популистские движения бросают вызов устоявшимся институтам власти и элитам, что угрожает «системе сдержек и противовесов», которая и обеспечивает стабильное существование либеральной демократии. Когда народные массы добираются до власти — ничего хорошего не жди. Старейшая идея в западной политической традиции.
Проблема возникает, когда популизм — по сути, лишь форма для политизации массового участия, — обретает идеологическое содержание. Без него популизм производит нейтральные утверждения: устоявшиеся институты (суды, медиа, закон) мешают волеизъявлению народа; rule of the people конфликтует с minority rights; налицо эррозия доверия народа институтам; очевиден и конфликт между «народом» и «элитой», чьи политические интересы по своей сути несовместимы. Все так, кто же сейчас будет с этим спорить? Но когда между популизмом и каким-то еще -измом ставится знак равенства, популизм превращается в кризис и универсальное пугало «что пошло не так в западной политике».
В другой (тм) части мира все несколько иначе. Во многих латиноамериканских странах — подобно забытой или, скажем так, репрессированной истории популистской партии США — популизм воспринимается как освободительный феномен, антиолигархический, эгалитарный проект, который интегрирует обедневшие масс в политическую систему. (Правительства четы Киршнер в Аргентине, популистские правительства Уго Чавеса в Венесуэле, Лулы да Силвы в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Рафаэля Корреа в Эквадоре или Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике — разные проекты, но они пытались реализовывать политические требования, сформулированные на народном уровне, через государственные институты).
У этих популизмов (имевших разные исторические результаты) есть нечто общее. Рост популярности популистских взглядов чаще всего не означает разочарование в идее демократии (в конце концов, популизм и есть демократия), и даже не всегда означает разочарование в идее либеральной демократии — но он показывает недовольство тем, как текущая форма (либеральной, или, чаще всего, уже откровенно олигархической) демократии работает прямо сейчас. Мы не против партий вообще, мы против этих партий и их работы; мы не против демократического государства вообще, мы против этого государства и его работы.
Популизм не стремится отменить индивидуальные права per se — скорее, согласно логике некоторых современных политических авторов, он приносит антагонизм в государство, используя завоеванные институты для удовлетворения народных требований и подавления олигархического господства.
Самые большие проблемы у демократии начинаются, когда «просвещенные элиты» пытаются игнорировать или отвергать популизм как националистическую идеологию невежественных масс. Это скрывает истинную суть уже существующего социально-политического конфликта «народ-элиты», уже происходящую реакцию на системное разложение либеральной демократии: если «народ» един в своих интересах, то нет и необходимости в дискуссиях и согласовании различных интересов, а если такие практики необходимы, значит, есть те, чьи интересы не соблюдаются. Современная (буквально — последних лет) политическая мысль толкает нас в сторону популистского проекта — не запрета, а институализации конфликта между народом и элитами.
Если я не буду отвлекаться, следующий пост будет про плебейский республиканизм.
❤8🔥3👾3