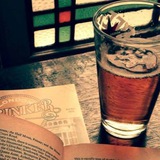Forwarded from ЛАМПА
Встречайте выпуск №11 рубрики #лучшепочитаю. Сегодня с авторами культурных каналов, мы подготовили особенную подборку книг– ими нужно обладать обязательно в бумаге. Важно их присутствие! Они должны стоять на полке, лежать на тумбочке. И оказываться рядом в самую нужную минуту.
Приятного чтения ❤️
Выпуск для вас готовили:
🗞Геннадий, «Красная собака» о путешествиях в тексты.
🗞 Катя Кудрявцева, «Вроде культурный человек», такая разная и увлекающаяся. О литературе, политфилософии и буддизме.
🗞Хелена Побяржина , «Ветхий завет», писатель, автор романа «Валсарб»
🗞 Александра Бекренева, «Независимый книжный блог» , рассказывает об интеллектуальной и англоязычной литературе
🗞 Екатерина Аксенова, «Prometa.pro книжки» , про нонфикшн, который делает жизнь лучше и книжный клуб.
🗞 Лена, «Литературный нытик» ,рассказывает о травме в литературе и о том, как написать собственный нонфикшн
🗞 Анастасия, «Tg booksandlarry» о книжных и библиотеках Петербурга, бессмертной классике и новинках современной прозы.
🗞Лена, «Читать немедЛена», про книги и кино, заботливо и с юмором.
🗞 Олеся, «Bookinessa” заряжает на позитив своим примером, рассказывает про книжки, кино и даже немножко про машинки.
📰 Вёрстка и оформление Виктория
✍🏻 Главный редактор, автор канала «Своя комната», которая каждую неделю собирает рекомендации от жемчужин культурного телеграмм сообщества– Света Рыбакова
Приятного чтения ❤️
Выпуск для вас готовили:
🗞Геннадий, «Красная собака» о путешествиях в тексты.
🗞 Катя Кудрявцева, «Вроде культурный человек», такая разная и увлекающаяся. О литературе, политфилософии и буддизме.
🗞Хелена Побяржина , «Ветхий завет», писатель, автор романа «Валсарб»
🗞 Александра Бекренева, «Независимый книжный блог» , рассказывает об интеллектуальной и англоязычной литературе
🗞 Екатерина Аксенова, «Prometa.pro книжки» , про нонфикшн, который делает жизнь лучше и книжный клуб.
🗞 Лена, «Литературный нытик» ,рассказывает о травме в литературе и о том, как написать собственный нонфикшн
🗞 Анастасия, «Tg booksandlarry» о книжных и библиотеках Петербурга, бессмертной классике и новинках современной прозы.
🗞Лена, «Читать немедЛена», про книги и кино, заботливо и с юмором.
🗞 Олеся, «Bookinessa” заряжает на позитив своим примером, рассказывает про книжки, кино и даже немножко про машинки.
📰 Вёрстка и оформление Виктория
✍🏻 Главный редактор, автор канала «Своя комната», которая каждую неделю собирает рекомендации от жемчужин культурного телеграмм сообщества– Света Рыбакова
❤16👍1
Есть риск превратить этот канал в доску репостов Надежды Плунгян, но ЧТО ПОДЕЛАТЬ, тема важная и тоже меня живо интересует.
Там по ссылкам можно почитать транскрипцию всего разговора, но я в последнее время много думаю (ретроспективно и с грустью) вот об этом «производстве нормкора» и о том, что последние годы мы (я в том числе — в среде условного «квир-просвещения») были заняты имитационным каким-то развитием общества в целом и отдельных его кусков. Мы пытались импортировать сюда идеи и схемы, они неплохо ложились в капиталистическую логику, и поэтому нам казалось, что они работают. И большая часть текущей болезненности — в том, что перед лицом реальности имитации не выдержали напора, развалились, а ничего другого-то, своего, мы так и не придумали, и не поняли. Мы стояли на самой слабой позиции из возможных и думали, что у нас что-то получается. Привет. И это — правда провал, но он совсем не такой глобальный, как рисуют нам некоторые. Это провал довольно частного проекта — и важно понять, что он провалился, и почему это случилось, а не пытаться остановить время или наращивать ресентимент. Но претендовать на тотальность, и, уж тем более, на какое-то формирование «нации» на фоне этих процессов — точно лишнее.
И меня жутко цепляет вообще вся эта тема оригинального высказывания. Сейчас почти никто (по разные стороны всего) не пишет, не говорит ничего...нового. Все отрабатывают какие-то свои методички (по своим причинам), а те, кто ни за одну методичку вписаться не готов, чаще молчит — потому что закидают «свои же». Страх критики, конфликта, отмены, какого-то социального «неприятия», моральной ямы — одна из причин, почему «мы находимся здесь». Ошибаться — окей, конфликтовать, не уничтожая другого — супер. Надо чаще выебываться, короче, расширять, углублять все, что есть, без какого-либо уважения к статусу, иерархии, моральной позиции, представлениям о том, что «правильно». Больше ничего не остается.
«И, кроме того, Россия сама по себе маргинальна. Самое время для мистики, для крупных таинственных сообщений, которые никак нельзя оформить, нельзя обработать в форме "карточек"». Indeed.
Там по ссылкам можно почитать транскрипцию всего разговора, но я в последнее время много думаю (ретроспективно и с грустью) вот об этом «производстве нормкора» и о том, что последние годы мы (я в том числе — в среде условного «квир-просвещения») были заняты имитационным каким-то развитием общества в целом и отдельных его кусков. Мы пытались импортировать сюда идеи и схемы, они неплохо ложились в капиталистическую логику, и поэтому нам казалось, что они работают. И большая часть текущей болезненности — в том, что перед лицом реальности имитации не выдержали напора, развалились, а ничего другого-то, своего, мы так и не придумали, и не поняли. Мы стояли на самой слабой позиции из возможных и думали, что у нас что-то получается. Привет. И это — правда провал, но он совсем не такой глобальный, как рисуют нам некоторые. Это провал довольно частного проекта — и важно понять, что он провалился, и почему это случилось, а не пытаться остановить время или наращивать ресентимент. Но претендовать на тотальность, и, уж тем более, на какое-то формирование «нации» на фоне этих процессов — точно лишнее.
И меня жутко цепляет вообще вся эта тема оригинального высказывания. Сейчас почти никто (по разные стороны всего) не пишет, не говорит ничего...нового. Все отрабатывают какие-то свои методички (по своим причинам), а те, кто ни за одну методичку вписаться не готов, чаще молчит — потому что закидают «свои же». Страх критики, конфликта, отмены, какого-то социального «неприятия», моральной ямы — одна из причин, почему «мы находимся здесь». Ошибаться — окей, конфликтовать, не уничтожая другого — супер. Надо чаще выебываться, короче, расширять, углублять все, что есть, без какого-либо уважения к статусу, иерархии, моральной позиции, представлениям о том, что «правильно». Больше ничего не остается.
«И, кроме того, Россия сама по себе маргинальна. Самое время для мистики, для крупных таинственных сообщений, которые никак нельзя оформить, нельзя обработать в форме "карточек"». Indeed.
🔥19❤7
Forwarded from СветоЭлектроМатерия
В конце зимы я оказалась на круглом столе со странным составом: Ю. Сапрыкин, Е. Ковальская, М. Ратгауз, А. Иванов и я. Можно сказать, я была вызвана в общество руководителей главных "институций" 2000-2010-х, крайне мне не близких (Афиша, ЦИМ, Ад Маргинем). Обсуждали, нужно ли оставаться в России и «как жить дальше».
Поскольку терять нечего, сказала, что думаю. Нулевые\десятые были в целом временем культурной цензуры и кризиса гуманитарного знания, когда любой медиаменеджер считался бесконечно выше художника и ученого. Сейчас все былые медиа переместились на Запад, превратившись в субкультуру хороших русских. Они по-прежнему ничего нового не производят, учат всех жить и считают себя элитой. Но влияние на реальные процессы в России утратили. Значит, здесь ненадолго появилась реальная возможность работать. Я использую это время для 1) написания книг, 2) осмысления перелома истории, в котором мы оказались, 3) проектирования новых мировоззренческих систем. Одну книгу я уже выпустила.
Встреча длилась пять (!) часов и опубликована в двух частях на Кольте (нужен VPN).
ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2.
Публикую снова, тк на канале уже больше 700 подписчиков и мне продолжают приходить отклики на материал - значит, он кому-то нужен.
Поскольку терять нечего, сказала, что думаю. Нулевые\десятые были в целом временем культурной цензуры и кризиса гуманитарного знания, когда любой медиаменеджер считался бесконечно выше художника и ученого. Сейчас все былые медиа переместились на Запад, превратившись в субкультуру хороших русских. Они по-прежнему ничего нового не производят, учат всех жить и считают себя элитой. Но влияние на реальные процессы в России утратили. Значит, здесь ненадолго появилась реальная возможность работать. Я использую это время для 1) написания книг, 2) осмысления перелома истории, в котором мы оказались, 3) проектирования новых мировоззренческих систем. Одну книгу я уже выпустила.
Встреча длилась пять (!) часов и опубликована в двух частях на Кольте (нужен VPN).
ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2.
Публикую снова, тк на канале уже больше 700 подписчиков и мне продолжают приходить отклики на материал - значит, он кому-то нужен.
❤17👍1😱1
В прошлом году поставила себе цель «чувствовать чувства», в этом году хочу продолжить взятый темп и должна заметить, что это прямо-таки НЕПРОСТОЕ начинание. Очень поддерживает в этом книжка «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной» Джанет Уинтерсон: тот самый автофикшен, который залетает, как к себе домой, потому что описывает очень близкий опыт. И, кстати, ровно поэтому же автофикшен и «не для всех» — ведь у нас и правда бывает разный опыт (иу).
«В марте 2008 года я лежала в постели, выздоравливала и читала «Собачьи годы» Марка Доути.
Это мемуары о жизни с собаками — или скорее даже о том, как жить со своей жизнью. Это, кстати, очень трудно. Обычно мы делаем всё, чтобы заглушить в себе жизнь, — повинуемся или бунтуем. Подавляем чувства или беснуемся. Крайности дают тот же эффект: ограждают от глубины жизни.
А еще крайности, будь то скука или ярость, успешно защищают нас от необходимости чувствовать. Чувства наши могут быть настолько невыносимыми, что мы разрабатываем хитроумные стратегии — бессознательно, конечно, — чтобы держать их на расстоянии. Мы подменяем одно чувство другим, избегаем грусти, одиночества, страха или ущербности, и вместо них злимся. Бывает и наоборот: иногда нужно разозлиться, а не чувствовать свою ущербность, иногда действительно нужно принять любовь и одобрение, а не переживать трагические события прошлого.
Чтобы осмелиться и почувствовать, нужна отвага — и при этом важно не заменять одно чувство на другое, не переносить их скопом на другого человека. Знаете, так бывает в парах: один всегда то хнычет, то злится, тогда как второй кажется оплотом спокойствия и рассудительности.
Я поняла, что мне трудно испытывать эмоции, хоть они меня и переполняют».
«В марте 2008 года я лежала в постели, выздоравливала и читала «Собачьи годы» Марка Доути.
Это мемуары о жизни с собаками — или скорее даже о том, как жить со своей жизнью. Это, кстати, очень трудно. Обычно мы делаем всё, чтобы заглушить в себе жизнь, — повинуемся или бунтуем. Подавляем чувства или беснуемся. Крайности дают тот же эффект: ограждают от глубины жизни.
А еще крайности, будь то скука или ярость, успешно защищают нас от необходимости чувствовать. Чувства наши могут быть настолько невыносимыми, что мы разрабатываем хитроумные стратегии — бессознательно, конечно, — чтобы держать их на расстоянии. Мы подменяем одно чувство другим, избегаем грусти, одиночества, страха или ущербности, и вместо них злимся. Бывает и наоборот: иногда нужно разозлиться, а не чувствовать свою ущербность, иногда действительно нужно принять любовь и одобрение, а не переживать трагические события прошлого.
Чтобы осмелиться и почувствовать, нужна отвага — и при этом важно не заменять одно чувство на другое, не переносить их скопом на другого человека. Знаете, так бывает в парах: один всегда то хнычет, то злится, тогда как второй кажется оплотом спокойствия и рассудительности.
Я поняла, что мне трудно испытывать эмоции, хоть они меня и переполняют».
❤37
В канале у Оксаны (Васякиной) все рубрики любимые (разве что я считаю, что фоток собаки могло бы быть и побольше......), но новости книгоиздания радуют каждый раз. Здесь меня отдельно очень вдохновили аж две книги Бланшо — сильно, по моим ощущениям, редко выпускаемый в России автор. Кароч, ура
❤14
Forwarded from из сердца тьмы
Новости книгоиздания:
Сразу два издательства анонсировали выход книг писателя и теоретика литературы Мориса Бланшо. Курсе на третьем Морис Бланшо кардинально изменил мое понимание письма и работы литературы вообще. Мне даже пришлось украсть его «Пространство литературы», чтобы у меня была своя личная книга.
Новое Литературное Обозрение открыло предзаказ на последнюю прижизненную книгу Бланшо «Голос, пришедший извне», книгу эссе о Луи-Рене Дефоре, Рене Шаре, Пауле Целане и Мишеле Фуко.
Издательство Ивана Лимбаха объявило, что в печать ушел роман Бланшо «Всевышний».
Полифем продолжает сбор на издание двух книг американских поэтесс Лин Хеджинян и Рейчел ДеПлюсси. В качестве лота они так же предлагают пакет из пдф всех изданных Полифемом книг. Для тех, кто не покупает бумагу — отличный способ поддержать издательство.
Ad Marginem Press анонсировали предзаказ сборника эссе «Вниз по Волге». Среди авторов — посетивший СССР Брюс Чатвин. Я не знала, что Чатвин бывал в СССР. Я была поражена его романом-репортажем «Тропы песен», в котором он рассказывал о том, как австралийские аборигены борются со строительством дорог на территориях маршрутов богов во времена создания мира. Обязательно буду читать о Волге.
Так же Ad Marginem Press анонсировали выпуск сборника эссе искусствоведки Изобель Грав. В своих текстах Грав обращается к интимным переживаниям утраты и предчувствия катастрофы. С помощью письма авторка выводит частное переживания в социальный контекст.
Новое Литературное Обозрение анонсировали предзаказ книги Светланы Смагиной «Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов». О ней я писала чуть выше.
Так же Новое Литературное Обозрение открыло предзаказ на новую книгу исследовательницы советских дневников, Ирины Паперно. На этот раз она пишет о записках античницы Ольги Фрейденберг. С нетерпением жду эту книгу. Предзаказ.
Поляндрия No Age до 6 июня дает скидку 25% на все книги.
В No Kidding Press до 6 июня идет акция 1+1. Кладешь в корзину две книги, платишь за одну.
Сразу два издательства анонсировали выход книг писателя и теоретика литературы Мориса Бланшо. Курсе на третьем Морис Бланшо кардинально изменил мое понимание письма и работы литературы вообще. Мне даже пришлось украсть его «Пространство литературы», чтобы у меня была своя личная книга.
Новое Литературное Обозрение открыло предзаказ на последнюю прижизненную книгу Бланшо «Голос, пришедший извне», книгу эссе о Луи-Рене Дефоре, Рене Шаре, Пауле Целане и Мишеле Фуко.
Издательство Ивана Лимбаха объявило, что в печать ушел роман Бланшо «Всевышний».
Полифем продолжает сбор на издание двух книг американских поэтесс Лин Хеджинян и Рейчел ДеПлюсси. В качестве лота они так же предлагают пакет из пдф всех изданных Полифемом книг. Для тех, кто не покупает бумагу — отличный способ поддержать издательство.
Ad Marginem Press анонсировали предзаказ сборника эссе «Вниз по Волге». Среди авторов — посетивший СССР Брюс Чатвин. Я не знала, что Чатвин бывал в СССР. Я была поражена его романом-репортажем «Тропы песен», в котором он рассказывал о том, как австралийские аборигены борются со строительством дорог на территориях маршрутов богов во времена создания мира. Обязательно буду читать о Волге.
Так же Ad Marginem Press анонсировали выпуск сборника эссе искусствоведки Изобель Грав. В своих текстах Грав обращается к интимным переживаниям утраты и предчувствия катастрофы. С помощью письма авторка выводит частное переживания в социальный контекст.
Новое Литературное Обозрение анонсировали предзаказ книги Светланы Смагиной «Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов». О ней я писала чуть выше.
Так же Новое Литературное Обозрение открыло предзаказ на новую книгу исследовательницы советских дневников, Ирины Паперно. На этот раз она пишет о записках античницы Ольги Фрейденберг. С нетерпением жду эту книгу. Предзаказ.
Поляндрия No Age до 6 июня дает скидку 25% на все книги.
В No Kidding Press до 6 июня идет акция 1+1. Кладешь в корзину две книги, платишь за одну.
🔥5
Хотела поныть про «Момент» Эми Липтрот подружкам, но решила поныть на более широкую аудиторию (простите).
В общем: в предыдущей своей книге, «Выгон», Эми Липтрот бросает пить и окукливается на островах Шотландии. Купается в ледяном море и следит за птицами. Звучит это все замечательно, читается — не слишком. Ну да ладно. В «Моменте» Эми Липтрот все еще не пьет, но теперь она приезжает в Берлин — тестировать на себе городскую жизнь, жизнь в эмиграции, бог знает что еще, в общем, она в буквальном смысле хочет понять, кто она такая без алкоголя, какая её истинная личность, не замутненная веществами. Опять же, звучит неплохо: проблема только в том, что истинная личность у неё оказалась отменной душнилы.
Её путешествие — путешествие категорической одиночки, пытающейся, однако, вылепить из себя какого-то персонажа, пытающегося быть или казаться (что для неё, кажется, одно и то же) интересным: она ищет в Берлине енотов, следит за лунными циклами, скачивает приложение NASA, высматривает в бинокль ястребов, путешествует по своему острову на Google Maps. Вся история тонет в болоте закоренелого солипсизма: ни у кого из окружающих её людей нет имен (в духе Энди Уорхола — блин, я правда с трудом представляю себе, что пишу все это на полном серьезе, — она называет любых своих знакомцев Б, подразумевая, конечно, что она — А), она путешествует по миру, как герметично закупоренная банка с записочкой, на которой давно иссохли все чернила.
Проза жизни её утомляет. Она живет по квартирам друзей, за полдня получает разрешение на работу в Германии, то и дело упоминает о своей бедности и жизни на минимальную оплату труда на низкооплачиваемых работах. В какой-то момент она на месяц едет в Грецию работать в книжном магазине — и вот там становится совсем сложно прорваться сквозь бедность, помноженную на «море, каждый день вытряхиваемое из волос». Изредка она пишет, что это, конечно, большая привилегия — у неё британский паспорт и явно не нуждающиеся родители, и вообще весь этот западный образ жизни возможен только благодаря усугубляющейся бедности остального мира, но все это слишком скучно, рефлексии достойна только внутрянка куска песчаника, вывезенного с её островов, на котором она учится древнему искусству резьбы по дереву, чтобы запечатлеть слова в вечности (dear god).
И ничего из этого не является по определению плохой вещью, более того — лично я вообще первая в очереди на истории про алкоголь, птиц и камни. Проблема лишь в том, что я ничему из этого по-настоящему не верю: все эти поиски себя утонули в витиеватом языке и бесконечном переборе довольно-таки поверхностных метафор Луны, енотов и особенностей цифровой жизни. Липтрот ни на секунду не перестает быть self indulgent privileged white heterosexual woman, чья единственная интересная черта — это преодоленный юношеский тусовочный алкоголизм. Весь этот «Момент» выглядит как книга, сформированная нейросетью по запросу «высокопарные страдания» — все формальные элементы на месте, но это просто игра в интересного человека с глубоким внутренним миром. Претендуя на какое-то особое чувствование, особое понимание мира вокруг, она остается полностью замкнутой в себе: она не видит Берлина и вообще сложностей окружающих её городов, стран, контекстов, к которым она так отчаянно, так псевдо-патриотично пытается принадлежать, она бесцельно болтается среди вроде как интересных штук, но ничего из этого не делает интересной, собственно, её или её книгу.
И от этого даже как-то немного грустно.
В общем: в предыдущей своей книге, «Выгон», Эми Липтрот бросает пить и окукливается на островах Шотландии. Купается в ледяном море и следит за птицами. Звучит это все замечательно, читается — не слишком. Ну да ладно. В «Моменте» Эми Липтрот все еще не пьет, но теперь она приезжает в Берлин — тестировать на себе городскую жизнь, жизнь в эмиграции, бог знает что еще, в общем, она в буквальном смысле хочет понять, кто она такая без алкоголя, какая её истинная личность, не замутненная веществами. Опять же, звучит неплохо: проблема только в том, что истинная личность у неё оказалась отменной душнилы.
Её путешествие — путешествие категорической одиночки, пытающейся, однако, вылепить из себя какого-то персонажа, пытающегося быть или казаться (что для неё, кажется, одно и то же) интересным: она ищет в Берлине енотов, следит за лунными циклами, скачивает приложение NASA, высматривает в бинокль ястребов, путешествует по своему острову на Google Maps. Вся история тонет в болоте закоренелого солипсизма: ни у кого из окружающих её людей нет имен (в духе Энди Уорхола — блин, я правда с трудом представляю себе, что пишу все это на полном серьезе, — она называет любых своих знакомцев Б, подразумевая, конечно, что она — А), она путешествует по миру, как герметично закупоренная банка с записочкой, на которой давно иссохли все чернила.
Проза жизни её утомляет. Она живет по квартирам друзей, за полдня получает разрешение на работу в Германии, то и дело упоминает о своей бедности и жизни на минимальную оплату труда на низкооплачиваемых работах. В какой-то момент она на месяц едет в Грецию работать в книжном магазине — и вот там становится совсем сложно прорваться сквозь бедность, помноженную на «море, каждый день вытряхиваемое из волос». Изредка она пишет, что это, конечно, большая привилегия — у неё британский паспорт и явно не нуждающиеся родители, и вообще весь этот западный образ жизни возможен только благодаря усугубляющейся бедности остального мира, но все это слишком скучно, рефлексии достойна только внутрянка куска песчаника, вывезенного с её островов, на котором она учится древнему искусству резьбы по дереву, чтобы запечатлеть слова в вечности (dear god).
И ничего из этого не является по определению плохой вещью, более того — лично я вообще первая в очереди на истории про алкоголь, птиц и камни. Проблема лишь в том, что я ничему из этого по-настоящему не верю: все эти поиски себя утонули в витиеватом языке и бесконечном переборе довольно-таки поверхностных метафор Луны, енотов и особенностей цифровой жизни. Липтрот ни на секунду не перестает быть self indulgent privileged white heterosexual woman, чья единственная интересная черта — это преодоленный юношеский тусовочный алкоголизм. Весь этот «Момент» выглядит как книга, сформированная нейросетью по запросу «высокопарные страдания» — все формальные элементы на месте, но это просто игра в интересного человека с глубоким внутренним миром. Претендуя на какое-то особое чувствование, особое понимание мира вокруг, она остается полностью замкнутой в себе: она не видит Берлина и вообще сложностей окружающих её городов, стран, контекстов, к которым она так отчаянно, так псевдо-патриотично пытается принадлежать, она бесцельно болтается среди вроде как интересных штук, но ничего из этого не делает интересной, собственно, её или её книгу.
И от этого даже как-то немного грустно.
❤37
Зато! Пока гуглила — встретила рецензию, где есть прикольное рассуждение о популярности жанра «квази-натуралистический роман».
«Второй вид письма о природе появился совсем недавно. Предпосылка проста: пишите, чтобы избавиться от боли, и природа может помочь. Этот жанр создает хорошие условия — уединение, неторопливость, самоанализ — для отдыха, восстановления и роста. Но природа здесь редко является приоритетом, чаще всего это бальзам, облегчающий страдания автора. Хотя этот жанр значительно отличается от первой категории (настоящее натуралистическое письмо, где природа является главным интересом повествования), он претендует на ту же основу. Такие книги по-прежнему продаются как «книги о природе», но с таким же успехом их можно было бы поместить на полку в разделе «Мемуары о горе», «Воспоминания о выздоровлении», «Книги для утешения и размышлений», «О потере и обретении себя». Внезапно жанр письма о природе стал наводнен книгами нового типа, интересующимися природой лишь частично, рассеянно.
Не все так плохо: "Я — значит Ястреб" Хелен Макдональд, Nature Cure Ричарда Мэйби и тот же "Выгон" — три издательских хита, проницательные, откровенные и уязвимые книги. Тем не менее, по мере развития жанра поражают не столько эти случайные успехи, сколько количество новых названий. Как выразился Марк Кокер в своей статье "The new nature writing": "Возникает вопрос, не говорит ли то, что "Я —значит Ястреб" является образцом жанра, мало о книге и вообще ничего о ее литературных достоинствах, но сообщает что-то об этой стране и ее своеобразных отношениях с природой’. Это говорит о том, что литература о природе теперь предназначена для городских читателей, это литература, с которой можно соотнестись, только если она отфильтровывает природу сквозь города и людскую психику.
В целом, это справедливо. Реалистично ли ожидать появления книг о настоящей природе, когда ландшафт, безвозвратно изменившийся за десятилетия, отрицает её существование? Разве такое письмо не было бы чистой ностальгией? И можно ли это вообще назвать ностальгией, если автора не было в живых, чтобы вспомнить крик горлицы или жужжание насекомых летним вечером? Что ж, возможно. Но это упускает суть. Потому что в этом действительно есть смысл. Письмо о природе — это способ обратить внимание на окружающий нас мир, заметить, как он меняется, и признать его ценность. "Внимание — это то, что мы предлагаем, — говорит Кэтрин Ранделл, — чем мы больше всего обязаны миру, в котором живем... Я имею в виду внимание как телесный и политический акт, а не просто интеллектуальную дисциплину". То, что эти новые книги о природе угрожают привить, — это отношение наивного удивления, облегчающее жизнь для смотрящего, но разрушительное для созерцаемого».
Целиком (и на английском) — тут.
«Второй вид письма о природе появился совсем недавно. Предпосылка проста: пишите, чтобы избавиться от боли, и природа может помочь. Этот жанр создает хорошие условия — уединение, неторопливость, самоанализ — для отдыха, восстановления и роста. Но природа здесь редко является приоритетом, чаще всего это бальзам, облегчающий страдания автора. Хотя этот жанр значительно отличается от первой категории (настоящее натуралистическое письмо, где природа является главным интересом повествования), он претендует на ту же основу. Такие книги по-прежнему продаются как «книги о природе», но с таким же успехом их можно было бы поместить на полку в разделе «Мемуары о горе», «Воспоминания о выздоровлении», «Книги для утешения и размышлений», «О потере и обретении себя». Внезапно жанр письма о природе стал наводнен книгами нового типа, интересующимися природой лишь частично, рассеянно.
Не все так плохо: "Я — значит Ястреб" Хелен Макдональд, Nature Cure Ричарда Мэйби и тот же "Выгон" — три издательских хита, проницательные, откровенные и уязвимые книги. Тем не менее, по мере развития жанра поражают не столько эти случайные успехи, сколько количество новых названий. Как выразился Марк Кокер в своей статье "The new nature writing": "Возникает вопрос, не говорит ли то, что "Я —значит Ястреб" является образцом жанра, мало о книге и вообще ничего о ее литературных достоинствах, но сообщает что-то об этой стране и ее своеобразных отношениях с природой’. Это говорит о том, что литература о природе теперь предназначена для городских читателей, это литература, с которой можно соотнестись, только если она отфильтровывает природу сквозь города и людскую психику.
В целом, это справедливо. Реалистично ли ожидать появления книг о настоящей природе, когда ландшафт, безвозвратно изменившийся за десятилетия, отрицает её существование? Разве такое письмо не было бы чистой ностальгией? И можно ли это вообще назвать ностальгией, если автора не было в живых, чтобы вспомнить крик горлицы или жужжание насекомых летним вечером? Что ж, возможно. Но это упускает суть. Потому что в этом действительно есть смысл. Письмо о природе — это способ обратить внимание на окружающий нас мир, заметить, как он меняется, и признать его ценность. "Внимание — это то, что мы предлагаем, — говорит Кэтрин Ранделл, — чем мы больше всего обязаны миру, в котором живем... Я имею в виду внимание как телесный и политический акт, а не просто интеллектуальную дисциплину". То, что эти новые книги о природе угрожают привить, — это отношение наивного удивления, облегчающее жизнь для смотрящего, но разрушительное для созерцаемого».
Целиком (и на английском) — тут.
Review 31
Instant Regret
Review 31 is an online literary review.
❤13
Читаю Сейлу Бенхабиб (Strange Multiplicities: The Politics of Identity and Difference in a Global Context, 1997), держите кривенький полуночный перевод цитаты о том, что ты можешь выбрать любого питомца, которого ты захочешь (только этот питомец — твоя социо-культурная обусловленность):
«Хотя мы не выбираем сети, в которые изначально попадаем, и не выбираем тех, с кем хотим общаться, наша свобода воли заключается в нашей способности сплетать из этих нарративов и фрагментов нарративов историю своей жизни, которая имеет смысл для нас, как для уникального индивидуального "я". Безусловно, коды устоявшихся нарративов в культуре определяют нашу способность рассказывать историю по разному; они ограничивают нашу свободу варьировать код. Но точно так же, как в разговоре, всегда можно обронить последнюю реплику и позволить ей упасть на пол в тишине, или продолжить говорить и сохранить живой и продолжающийся диалог, или стать странным, ироничным и критичным и перевести разговор на себя — точно так же, рассказывая историю жизни, которая имеет для нас смысл, у нас всегда есть варианты. Эти варианты не являются внеисторическими; они культурно и исторически специфичны; более того, для каждого индивида существует общее представление о структуре семьи и гендерных ролях, в которые он или она вовлечен. Тем не менее, точно так же, как грамматические правила языка, однажды усвоенные, не исчерпывают нашу способность создавать бесконечное количество хорошо сформированных предложений, точно так же процессы социализации и аккультурации не определяют историю жизни этого уникального человека и его или ее способность инициировать новые действия и новые предложения в разговоре».
«Хотя мы не выбираем сети, в которые изначально попадаем, и не выбираем тех, с кем хотим общаться, наша свобода воли заключается в нашей способности сплетать из этих нарративов и фрагментов нарративов историю своей жизни, которая имеет смысл для нас, как для уникального индивидуального "я". Безусловно, коды устоявшихся нарративов в культуре определяют нашу способность рассказывать историю по разному; они ограничивают нашу свободу варьировать код. Но точно так же, как в разговоре, всегда можно обронить последнюю реплику и позволить ей упасть на пол в тишине, или продолжить говорить и сохранить живой и продолжающийся диалог, или стать странным, ироничным и критичным и перевести разговор на себя — точно так же, рассказывая историю жизни, которая имеет для нас смысл, у нас всегда есть варианты. Эти варианты не являются внеисторическими; они культурно и исторически специфичны; более того, для каждого индивида существует общее представление о структуре семьи и гендерных ролях, в которые он или она вовлечен. Тем не менее, точно так же, как грамматические правила языка, однажды усвоенные, не исчерпывают нашу способность создавать бесконечное количество хорошо сформированных предложений, точно так же процессы социализации и аккультурации не определяют историю жизни этого уникального человека и его или ее способность инициировать новые действия и новые предложения в разговоре».
❤16🤔3😁1
Я тут в последнее время много езжу одна на машине (Яндекс Карты уже считают, что столярная мастерская это «работа») — и, конечно, слушаю что? Подкасты. Столько лет я уворачивалась от потребления этого жанра (хотя сама делала подкасты и участвовала в них), и вот, наконец, рулю и параллельно изучаю сферу русскоязычных подкастов про книжки.
Послушала вот, например, «Листай вправо» — подкаст Букмейта, который ведут Валерий Печейкин и Ксения Грициенко. Я в какой-то момент почувствовала себя немного в прошлом, слушающей какую-то прямо-таки радиопередачу сквозь легкий шелест белого шума: там читают стихи, разыгрывают целые сценки и у ведущих есть роли. Это круто — и в целом хорошо разбавляет жанр «друзья собрались затереть за литературу». Я человек простой и люблю драматизм. И еще развлекает выбранный формат — вроде как спора, вроде как всегда немного заложенного в разговор несогласия: Печейкин читает нон-фикшен, Грициенко читает художку, и в каждом выпуске они читают свое — но на общую тему, и потом выясняют, чей якодзун победит. Побеждает, конечно, обычно любовь и дружба — ну а я, как водится, болею за книги No Kidding Press, которые благо там часто встречаются.
Например, в одном выпуске встретились комиксы «Расцветает самая красная из роз» и «Сегодня последний день остатка твоей жизни», а в другом «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной» поборолась с нон-фикшеном о (ну да) счастье «Спотыкаясь о счастье».
Короче, зашло, он есть везде, например, на Яндекс Музыке.
Послушала вот, например, «Листай вправо» — подкаст Букмейта, который ведут Валерий Печейкин и Ксения Грициенко. Я в какой-то момент почувствовала себя немного в прошлом, слушающей какую-то прямо-таки радиопередачу сквозь легкий шелест белого шума: там читают стихи, разыгрывают целые сценки и у ведущих есть роли. Это круто — и в целом хорошо разбавляет жанр «друзья собрались затереть за литературу». Я человек простой и люблю драматизм. И еще развлекает выбранный формат — вроде как спора, вроде как всегда немного заложенного в разговор несогласия: Печейкин читает нон-фикшен, Грициенко читает художку, и в каждом выпуске они читают свое — но на общую тему, и потом выясняют, чей якодзун победит. Побеждает, конечно, обычно любовь и дружба — ну а я, как водится, болею за книги No Kidding Press, которые благо там часто встречаются.
Например, в одном выпуске встретились комиксы «Расцветает самая красная из роз» и «Сегодня последний день остатка твоей жизни», а в другом «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной» поборолась с нон-фикшеном о (ну да) счастье «Спотыкаясь о счастье».
Короче, зашло, он есть везде, например, на Яндекс Музыке.
Яндекс Музыка
Кебабное мясо и панк-автофикшн. «Расцветает сама...
Листай вправо • Подкаст • 8694 подписчика • Сезон 2
❤18🤔1
«Это прозрение полностью изменило мою жизнь. В этом новом видении нет ничего конкретного, но суть его можно приблизительно описать так: "Человечество не знает совсем ничего. Ничто не имеет внутренней ценности и всякое действие — это тщетное, бессмысленное усилие". Это может показаться абсурдным, но это единственный способ выразить словами мою мысль.
<...>
Без участия моего разума слова сами пришли ко мне: "В этом мире совсем ничего нет". Я чувствовал, что ничего не понял (прим: в смысле, осознал незначительность интеллектуального знания).
Я мог видеть, что все концепции, которые я разделял, все представления о самом существовании, были пустыми выдумками. Мой дух стал светлым и ясным. Я дико плясал от радости. Я мог слышать щебетание маленьких птичек на деревьях и видеть далекие волны с бликами восходящего солнца. Листва деревьев колыхалась надо мной зеленая и блестящая. Я чувствовал, что это был настоящий рай на земле. Все, что владело мной, все смятение испарилось как сон, и что-то одно, что можно назвать "истинной природой" открылось мне».
Очень затягивающая книжечка Масанобу Фукуока, изобретателя метода земледелия «ничего-не-делания» (вопреки традиционному японскому земледелию и капиталистическому химическому — это земледелие вместе с природой, а не в борьбе с ней, построенное на взаимосвязях естественных экосистем) — «Революция одной соломинки».
<...>
Без участия моего разума слова сами пришли ко мне: "В этом мире совсем ничего нет". Я чувствовал, что ничего не понял (прим: в смысле, осознал незначительность интеллектуального знания).
Я мог видеть, что все концепции, которые я разделял, все представления о самом существовании, были пустыми выдумками. Мой дух стал светлым и ясным. Я дико плясал от радости. Я мог слышать щебетание маленьких птичек на деревьях и видеть далекие волны с бликами восходящего солнца. Листва деревьев колыхалась надо мной зеленая и блестящая. Я чувствовал, что это был настоящий рай на земле. Все, что владело мной, все смятение испарилось как сон, и что-то одно, что можно назвать "истинной природой" открылось мне».
Очень затягивающая книжечка Масанобу Фукуока, изобретателя метода земледелия «ничего-не-делания» (вопреки традиционному японскому земледелию и капиталистическому химическому — это земледелие вместе с природой, а не в борьбе с ней, построенное на взаимосвязях естественных экосистем) — «Революция одной соломинки».
❤21
В субботу все то время, что не сканировала новости со всех сторон, пересаживала огурцы и читала «Уход в Лес» Юнгера. Удивительно подходящее чтиво (особенно — учитывая его своеобразную судьбу и то положение, в котором он эту книгу писал: офицер, проигравший две кровавые войны, сидящий под домашним арестом и не знающий, сможет ли он когда-нибудь еще что-нибудь опубликовать; и не знающий также, что он проживет до 102 лет и жизнь его сделает еще не один кульбит). Книжка вроде политфилософа, но скорее — манифест или ковка какого-то нового взгляда на жизнь внутри безумных условий, желание уйти от модерного, технологического течения времени, перемалывающего людей в пыль. Самое время для мистики.
«Следует принять во внимание и следующее возражение: нужно ли вообще фиксироваться на катастрофе? Нужно ли, хотя бы и в духовной области, подходить к краю вод, водопадов, водоворотов, глубоких пропастей?
Это возражение не стоит недооценивать. Здравый смысл настоятельно предписывает намечать себе безопасный маршрут и придерживаться его. Эта дилемма на практике подобна процессу вооружения. Вооружение создается на случай войны, в первую очередь как средство защиты. Затем оно возрастает до того предела, после которого кажется, что оно само по себе войну подгоняет и притягивает. Это та степень инвестирования, которая в любом случае приводит к банкротству. Так можно вполне дойти до мысли, что совершенные системы громоотводов в конечном счете будут вызывать грозы.
Это же правило справедливо и в духовной области. Когда слишком много размышляют об обходных путях, о проезжих дорогах забывают. Так и в нашем случае одно не исключает другого. Наоборот, здравый смысл требует учитывать все возможные случаи в их совокупности и на каждый случай готовить свою серию шахматных ходов.
В нашем положении мы обязаны считаться с катастрофой, засыпать с мыслями о ней, чтобы ночью она не застала нас врасплох. Только благодаря этому мы получим тот запас безопасности, который дарует возможность осмысленных действий. В условиях полной безопасности мышление заигрывает с катастрофой; оно включает катастрофу в свои планы как величину маловероятную и покрываемую мелкой страховкой. В наши дни все наоборот. Мы должны вложить в катастрофу весь наш капитал — для того, чтобы сохранить золотую середину и пройти по лезвию ножа.
Знакомство со срединными путями, предписываемыми здравым смыслом, по-прежнему необходимо: они подобны стрелке компаса, определяющей каждое движение и каждое отклонение. Только так и можно прийти к норме, одобряемой всеми без того, чтобы их принуждали к этому насилием. Тогда же и границы прав будут соблюдаться; только это и приводит к долгосрочному триумфу».
«Следует принять во внимание и следующее возражение: нужно ли вообще фиксироваться на катастрофе? Нужно ли, хотя бы и в духовной области, подходить к краю вод, водопадов, водоворотов, глубоких пропастей?
Это возражение не стоит недооценивать. Здравый смысл настоятельно предписывает намечать себе безопасный маршрут и придерживаться его. Эта дилемма на практике подобна процессу вооружения. Вооружение создается на случай войны, в первую очередь как средство защиты. Затем оно возрастает до того предела, после которого кажется, что оно само по себе войну подгоняет и притягивает. Это та степень инвестирования, которая в любом случае приводит к банкротству. Так можно вполне дойти до мысли, что совершенные системы громоотводов в конечном счете будут вызывать грозы.
Это же правило справедливо и в духовной области. Когда слишком много размышляют об обходных путях, о проезжих дорогах забывают. Так и в нашем случае одно не исключает другого. Наоборот, здравый смысл требует учитывать все возможные случаи в их совокупности и на каждый случай готовить свою серию шахматных ходов.
В нашем положении мы обязаны считаться с катастрофой, засыпать с мыслями о ней, чтобы ночью она не застала нас врасплох. Только благодаря этому мы получим тот запас безопасности, который дарует возможность осмысленных действий. В условиях полной безопасности мышление заигрывает с катастрофой; оно включает катастрофу в свои планы как величину маловероятную и покрываемую мелкой страховкой. В наши дни все наоборот. Мы должны вложить в катастрофу весь наш капитал — для того, чтобы сохранить золотую середину и пройти по лезвию ножа.
Знакомство со срединными путями, предписываемыми здравым смыслом, по-прежнему необходимо: они подобны стрелке компаса, определяющей каждое движение и каждое отклонение. Только так и можно прийти к норме, одобряемой всеми без того, чтобы их принуждали к этому насилием. Тогда же и границы прав будут соблюдаться; только это и приводит к долгосрочному триумфу».
❤20