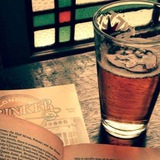Ууу, хот тейк от Делёза и Гваттари о бессмысленности дискуссий для занятий философией из книги «Что такое философия?»:
Коллеги, мнения?
И кто лучший последователь великих философов — тот, кто повторяет то, что они говорили, или же тот, кто делает то, что они делали, то есть создает концепты для необходимо меняющихся проблем?
Поэтому у философа очень мало вкуса к дискуссиям. Услышав фразу "давайте подискутируем", любой философ убегает со всех ног. Спорить хорошо за круглым столом, но философия бросает свои шифрованные кости на совсем иной стол. Самое малое, что можно сказать о дискуссиях, это что они не продвигают дело вперед, так как собеседники никогда не говорят об одном и том же. Какое дело философии до того, что некто имеет такие-то взгляды, думает так, а не иначе, коль скоро остаются невысказанными замешанные в этом споре проблемы? А когда эти проблемы высказаны, то туг уж надо не спорить, а создавать для назначенной себе проблемы бесспорные концепты. Коммуникация всегда наступает слишком рано или слишком поздно, и беседа всегда является лишней по отношению к творчеству. Иногда философию представляют себе как вечную дискуссию, в духе "коммуникационной рациональности" или "мирового демократического диалога". Нет ничего более неточного; когда один философ критикует другого, то делает это исходя из чуждых ему проблем и в чуждом ему плане, переплавляя его концепты, подобно тому как можно переплавить пушку, отлив из нее новое оружие. Спорящие всегда оказываются в разных планах. Критиковать -- значит просто констатировать, что старый концепт, погруженный в новую среду, исчезает, теряет свои составляющие или же приобретает другие, которые его преображают. А те, кто занимается нетворческой критикой, кто ограничивается защитой исчезающего концепта, не умея придать ему сил к возрождению, — для философии такие суть истинное бедствие. Все эти специалисты по дискуссиям и коммуникации движимы обидой. Сталкивая друг с другом пустые общие словеса, они говорят лишь сами о себе. Философия же не выносит дискуссий. Ей всегда не до них. Спор для нее нестерпим не потому, чтобы она была так уж уверена в себе; напротив, именно неуверенность влечет ее на новые, более одинокие пути. Но разве Сократ не превратил философию в вольную дружескую дискуссию? Разве это не вершина греческой общительности — беседы свободных людей? На самом деле Сократ постоянно занимался тем, что делал невозможной всякую дискуссию — будь то в краткой форме агона (вопросов и ответов) или в длинной форме соперничающих между собой речей. Из друга он сделал исключительно друга концепта, а из самого концепта — безжалостный монолог, устраняющий одного соперника за другим.
Коллеги, мнения?
❤13😁1
Итак, пассивный консерватизм представляет всякое реально существующее государство не результатом сознательного проекта, не произведением разума, но произведением искусства, в котором консерватор обнаруживает объект вдохновения. Скепсис в отношении просвещенческого Разума, таким образом, оборачивался подозрением в отношении любого политического действия. Для Карла Шмитта такая вторичность содержания государства «является следствием окказиональной позиции и глубоко обоснована в сути романтического, ядром которого является пассивность». Конечно, для романтического представления о единстве природы и искусства, данного и прекрасного, было «соблазнительно признать отличительным признаком всех контрреволюционных теорий общий отказ от сознательного «делания», однако «традиционализм в своем последовательном отвержении каждого разума в отдельности не обязательно пассивен». Романтический субъект находит себя в «окказиональной позиции», так как ставит себя вне естественного развития событий и рассматривает «мир как повод и возможность своей романтической продуктивности». Подобный «политический романтизм» для Шмитта неизбежно приводил к закономерному отвержению самого ядра политики как иерархии морального и социального порядка. Более того, пассивный романтический консерватизм своим моральным релятивизмом и безостановочной эстетизацией лишь развивает логику Модерна, изгоняющего из мира политические и духовные смыслы — ведь «только в распавшемся на индивиды обществе эстетически творящий субъект мог поместить духовный центр в самого себя».
Илья Будрайтскис в коротенькой книжке «Мир, который построил Хантингтон, и в котором живем все мы», цитирует «Политический романтизм» Карла Шмитта. Шмитт пишет эту книжку в 1919 году, когда, условно говоря, «ранний» Шмитт постепенно становится Шмиттом «поздним». Он разрывает со свойственным ему ранее романтизмом (где жизнь разумная — это жизнь механическая и изживающая себя, а подлинное постижение жизни доступно лишь художнику, который отказывается от оков рассудка) и свойственным тому времени представлением об активизме (как об, опять же, деятельности, которая не должна сковываться рассудком — это деятельность пророков и мессий, а не теоретиков или деятельных людей). Иными словами, удивительно современно звучащий текст.
Более того, после этого текста Шмитт начинает развивать свою идею политики как «вражды», а вовсе не пространства для пассивной эстетизации собственной внутренней жизни. С этой позиции интересно посмотреть, например, как «американская либеральная демократия становится знаменем неоконсерватизма не в качестве рационального механизма, преимущества которого очевидны каждому, а как добродетель, укорененная в традиции» (это снова Будрайтскис). И, развивая эту мысль — как, например, некоторые формы современного активизма это лишь способ «поместить духовный (хочется продолжить — и политический) центр в самого себя». И, в конечном счете, подменить предмет борьбы: вместо некоторого общественного блага или общественного же столкновения интересов обнаружится россыпь индивидуальных Я, увлеченных собственным романтизированным самовыражением.
❤12👍5🤔1
Завела отдельный канальчик про all things related to ADHD, а именно: туда я планирую писать и лонгриды типа таких, если они вдруг придут ко мне, а еще собирать мемы (которые одновременно смешные и нет 🥲), расписывать практики/навыки, которые кажутся полезными, делать заметки к видео и статьям/иным текстам на тему и так далее. В закрепленном посте написано, почему так — в целом мне кажется, что в этом канале философия отвлекает от СДВГ, и наоборот. Это все очень увлекательно — для меня и внутри моей головы, но, вполне вероятно, навыки эмоциональной регуляции странно смотрятся рядом с рассуждениями о демократии и теориями общественного сожительства. Вероятно, как и обычно, разложить на коробочки может помочь. (А может и нет — тоже как и обычно).
Короче, у меня сдвг, поэтому.
Короче, у меня сдвг, поэтому.
Telegram
у меня сдвг, поэтому
СДВГ и «стена отвращения»
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой…
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой…
❤10
Впервые за, наверное, всю историю моих взаимоотношений с контентом на ютубе, посмотрела 2+ часовое видеоинтервью, где два мужика просто сидят, трещат, с уровнем вовлечения в происходящее 146%.
Название, конечно, слегка кликбейтное — аюрведа это просто вывеска, точнее, просто повод поговорить о том, насколько совместимы системы западной и восточной медицины. Доктор Майк выступает за сугубо западный подход: рандомизированные контролируемые исследования, представление о медицине как о системе лечения статистически заметных групп населения (а не отдельных индивидов) и «искусство медицины», то есть плохо (или вообще не) стандартизируемая практика приземления способов лечения, проверенных на массах, на индивидуальные тела и умы конкретных людей. С другой стороны — доктор Кей, который находится между восточным и западным мирами (готовился стать буддистским монахом, но стал западным врачом, который, однако, активно использует восточные практики в своей работе), и предполагает, что каждая из этих систем заметным образом игнорирует огромные куски человеческого опыта, а потому по определению они обе не полны. Но, если у них появится общая цель, они обе могут выиграть от взаимного обогащения друг друга (друг другом). И, кажется, если в той же философии или теории международных отношений эта общая для западной и восточной системы мысли цель может быть не очевидна, то у медицины (самой в себе) она как-то будто бы есть: помогать людям (вы)жить.
Но интересен, на мой взгляд, даже не только контент разговора (хотя он и крутой), но и то, как вообще этот разговор развивался: насколько очевидным становится сопротивление Майка и то, как Кей с этим сопротивлением работает (заметно, в какой момент Кей на секунду заскакивает в мета-позицию коуча и смотрит на их разговор со стороны, пытаясь понять, что именно сейчас происходит) — и как разговор выруливает именно туда, во взаимопонимание и обогащение позиций, изначально друг с другом не согласных.
Вот все бы споры о ценностях и экзистенциальных позициях в интернете такими были, конечно.
Название, конечно, слегка кликбейтное — аюрведа это просто вывеска, точнее, просто повод поговорить о том, насколько совместимы системы западной и восточной медицины. Доктор Майк выступает за сугубо западный подход: рандомизированные контролируемые исследования, представление о медицине как о системе лечения статистически заметных групп населения (а не отдельных индивидов) и «искусство медицины», то есть плохо (или вообще не) стандартизируемая практика приземления способов лечения, проверенных на массах, на индивидуальные тела и умы конкретных людей. С другой стороны — доктор Кей, который находится между восточным и западным мирами (готовился стать буддистским монахом, но стал западным врачом, который, однако, активно использует восточные практики в своей работе), и предполагает, что каждая из этих систем заметным образом игнорирует огромные куски человеческого опыта, а потому по определению они обе не полны. Но, если у них появится общая цель, они обе могут выиграть от взаимного обогащения друг друга (друг другом). И, кажется, если в той же философии или теории международных отношений эта общая для западной и восточной системы мысли цель может быть не очевидна, то у медицины (самой в себе) она как-то будто бы есть: помогать людям (вы)жить.
Но интересен, на мой взгляд, даже не только контент разговора (хотя он и крутой), но и то, как вообще этот разговор развивался: насколько очевидным становится сопротивление Майка и то, как Кей с этим сопротивлением работает (заметно, в какой момент Кей на секунду заскакивает в мета-позицию коуча и смотрит на их разговор со стороны, пытаясь понять, что именно сейчас происходит) — и как разговор выруливает именно туда, во взаимопонимание и обогащение позиций, изначально друг с другом не согласных.
Вот все бы споры о ценностях и экзистенциальных позициях в интернете такими были, конечно.
YouTube
Debating The Value Of Eastern Medicine (Ayurveda) | Healthy Gamer Dr. K
I'll teach you how to become the media's go-to expert in your field. Enroll in The Professional's Media Academy now: https://www.professionalsmediaacademy.com/
Listen to my podcast, @DoctorMikeCheckup, here:
Spotify: https://go.doctormikemedia.com/spoti…
Listen to my podcast, @DoctorMikeCheckup, here:
Spotify: https://go.doctormikemedia.com/spoti…
❤12💯3✍1
Однажды вам придется нарушить важный закон во имя справедливости и рациональности. От этого будет зависеть все. Вы должны быть готовы. Как вы собираетесь подготовиться к этому дню, когда это действительно будет иметь значение? Когда наступит этот день, вы должны быть "в форме". Вам нужна "анархистская калистеника". Каждый день или около того нарушайте какой-нибудь тривиальный закон, который не имеет смысла, даже если это всего лишь переход улицы. Используйте свой разум, чтобы судить о том, справедлив ли закон. Так вы будете поддерживать себя в форме, и, когда наступит важный день, вы будете готовы.
— Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity and Meaningful Work and Play
В общем, для тех, кто прочитал всего Дэвида Гребера — книги Скотта на английском есть в The Anarchist Library.
❤19
Forwarded from ЭГАЛИТÉ
19 июля умер человек, посвятивший практические все свое творчество опровержению марксистской концепции гегемонии, подразумевающей, что существует безраздельное господство правящих классов над интеллектуальной и социальной жизнью угнетенных.
Изучая нравственную экономику, культуру и социальную структуру крестьянских общин Юго-Восточной Азии, антрополог и специалист по сравнительной политологии Джеймс Скотт пришел к выводу, что внутри каждой политико-экономической системы существует множество социальных групп, для которых то, что преподносится официальным дискурсом как очевидное, базовое, необходимое вовсе таковым не является. Фундаментальный раскол, связанный со множеством внутренних социальных историй, скрепляющих сообщества, делает возможным две формы коммуникации между властью и подчиненными: внешнюю, предполагающую соблюдение установленных формальностей, и скрытую, которая основана на пренебрежении и нарушении большинства установок правящих групп.
Скрытые формы коммуникации угнетенных с системой власти являются ни чем иным, как формами повседневного сопротивления, которые Скотт назвал «инфраполитикой». Инфраполитика была охарактеризована им как анархична per se, поскольку зачастую игнорирует «здравый смысл» больших управленческих проектов, а основывается на социальном опыте индивидов, личных отношениях, принципах комфортного общежития и безопасности.
По Скотту, основным «оружием слабых» становится побег от государства. В своей книге «Против зерна», на основании многочисленных современных археологических исследований, он утверждает, что большинство первых городов-государств погибали из-за того, что податное население массово покидало их. Крестьянские общины, изученные Скоттом, например, народы Зомии, ради ускользания от государства вновь выбирали кочевой образ жизни, отказывались от письменности как формы когнитивного угнетения (становясь постписьменными), а также переходили к охоте, собирательству и подсечно-огневому земледелию. Таким образом, благодаря его полевым исследованиям, многие интуиции первого анархиста-антрополога Пьера Кластра нашли свое подтверждение. А что касается ближайших для нас контекстов, то в истории народов постсоветских стран тоже найдется немало примеров инфраполитики, ставшей ответом на насильственную коллективизацию, ликвидацию легального рынка и полное огосударствление всех сфер жизни.
Уникальность наследия Джеймса Скотта заключается в том, что ко многим вопросам современной политологии он подошел с «анархической наблюдательностью», проявив удивительное умение видеть за фасадом структур и систем неупорядоченные, спонтанные действия, медленно разрушающие принудительный порядок изнутри. Пока для многих левых наука остается полем философских дебатов вокруг больших идей, Скотт придал значимость хаосу, приключениям, эскапизму и анархии, найдя их среди тех, кому большинство категорий западной политической мысли были не знакомы.
Изучая нравственную экономику, культуру и социальную структуру крестьянских общин Юго-Восточной Азии, антрополог и специалист по сравнительной политологии Джеймс Скотт пришел к выводу, что внутри каждой политико-экономической системы существует множество социальных групп, для которых то, что преподносится официальным дискурсом как очевидное, базовое, необходимое вовсе таковым не является. Фундаментальный раскол, связанный со множеством внутренних социальных историй, скрепляющих сообщества, делает возможным две формы коммуникации между властью и подчиненными: внешнюю, предполагающую соблюдение установленных формальностей, и скрытую, которая основана на пренебрежении и нарушении большинства установок правящих групп.
Скрытые формы коммуникации угнетенных с системой власти являются ни чем иным, как формами повседневного сопротивления, которые Скотт назвал «инфраполитикой». Инфраполитика была охарактеризована им как анархична per se, поскольку зачастую игнорирует «здравый смысл» больших управленческих проектов, а основывается на социальном опыте индивидов, личных отношениях, принципах комфортного общежития и безопасности.
По Скотту, основным «оружием слабых» становится побег от государства. В своей книге «Против зерна», на основании многочисленных современных археологических исследований, он утверждает, что большинство первых городов-государств погибали из-за того, что податное население массово покидало их. Крестьянские общины, изученные Скоттом, например, народы Зомии, ради ускользания от государства вновь выбирали кочевой образ жизни, отказывались от письменности как формы когнитивного угнетения (становясь постписьменными), а также переходили к охоте, собирательству и подсечно-огневому земледелию. Таким образом, благодаря его полевым исследованиям, многие интуиции первого анархиста-антрополога Пьера Кластра нашли свое подтверждение. А что касается ближайших для нас контекстов, то в истории народов постсоветских стран тоже найдется немало примеров инфраполитики, ставшей ответом на насильственную коллективизацию, ликвидацию легального рынка и полное огосударствление всех сфер жизни.
Уникальность наследия Джеймса Скотта заключается в том, что ко многим вопросам современной политологии он подошел с «анархической наблюдательностью», проявив удивительное умение видеть за фасадом структур и систем неупорядоченные, спонтанные действия, медленно разрушающие принудительный порядок изнутри. Пока для многих левых наука остается полем философских дебатов вокруг больших идей, Скотт придал значимость хаосу, приключениям, эскапизму и анархии, найдя их среди тех, кому большинство категорий западной политической мысли были не знакомы.
❤29
О том, чего мы можем не делать
Некогда Жиль Делёз определил действие власти как отделение людей от того, что они могут, а именно — от их способностей. Действующие силы сталкиваются с препятствием либо из–за отсутствия материальных условий для их реализации, либо из–за какого–либо запрета, который делает их применение категорически невозможным. В обоих случаях власть — и в этом проявляется её высший деспотизм и жестокость — отделяет людей от их способностей и тем самым обуславливает их бессилие. Но существует и другое, более коварное действие власти, распространяющееся не непосредственно на то, что люди могут делать — на их силы, а на их бессилие, то есть на то, чего они не могут делать или, скорее, на то, чего они могут не делать.
Сила в основе своей есть то же бессилие, каждая способность делать что–либо по определению подразумевает способность не делать чего–либо, и это — ключевое достижение теории способности, которую Аристотель развивает в IX книге «Метафизики». «Неспособность [adynamia], — пишет он, — это лишённость, противоположная такого рода способности [dynamis], так что способность всегда бывает к тому же и в том же отношении, что и неспособность»[60] (Met. 1046а, 29–31). «Неспособность» означает здесь не только отсутствие способности, невозможность делать что–либо, но также и прежде всего «возможность не делать чего–либо», возможность не задействовать собственную способность. <...> В то время как огонь может лишь гореть, а другие живые существа могут действовать лишь в меру свойственной им способности, иными словами, они могут вести себя только так или иначе, в соответствии с их биологическим предназначением, то человек — это животное, которое способно на собственную неспособность.
Как раз на эту, менее очевидную, сторону способности и опирается сегодня власть, не без иронии именующая себя «демократической». Она отделяет людей не только и не столько от того, что они могут делать, сколько от того, чего они могут не делать.
Сегодняшнего человека отделили от собственной неспособности, лишили представления о том, чего он может не делать, и в итоге он верит в своё всемогущество и повторяет радостное «Проще простого!» или безответственное «Будет сделано!», когда на самом деле он должен понять, что он каким–то непостижимым образом оказался во власти сил и процессов, контролировать которые он совершенно не в состоянии. Он слеп не к своим способностям, а к своим неспособностям, не к тому, что он может делать, а к тому, чего он не может делать или же чего он может не делать.
Отсюда и вся путаница нашего времени, неумение отделять ремесло от призвания, профессиональную принадлежность — от социальных ролей, каждую из которых играют статисты, чья наглость обратно пропорциональна непостоянству и неуверенности в качестве исполнения. Мысль о том, что каждый может делать что угодно или быть кем угодно, или же предположение, что не только осматривающий меня врач завтра может стать видеохудожником, но и убивающий меня палач уже действительно стал — как в «Процессе» Кафки — певцом, лишь отражает понимание того, что все просто–напросто прогибаются, пытаясь соответствовать тому уровню гибкости, которого на сегодняшний день больше всего требует от каждого из нас рынок.
Ничто не превращает нас в нищих и не лишает свободы так, как это отчуждение неспособности. Человек, отделённый от того, что он может делать, способен ещё сопротивляться, он ещё может не делать чего–либо. Но тот, кого оторвали от собственной неспособности, прежде всего лишается возможности противостоять. Лишь острое осознание того, чем мы не можем быть, гарантирует нам истинное понимание того, чем мы являемся, — точно так же ясное представление о том, чего мы не можем делать или чего мы можем не делать, наполняет наши действия реальным содержанием.
Джорджо Агамбен, «Нагота»
❤11💯4🔥2
Вроде культурный человек
О том, чего мы можем не делать Некогда Жиль Делёз определил действие власти как отделение людей от того, что они могут, а именно — от их способностей. Действующие силы сталкиваются с препятствием либо из–за отсутствия материальных условий для их реализации…
Философией не-делания сейчас мало кого удивишь, и тем не менее кажется, что она реже, чем хотелось бы, перерастает в какую-то более приближенную к жизни практику.
Например, на уровне политики (о чем и пишет Агамбен): что, если жители современных демократий столкнутся с реальностью, в которой они на самом деле не обладают возможностью ничего, в политическом смысле, решить? Что, если нарратив славы, силы и всемогущества сменится чем-то куда более человеческим — бессилием, неспособностью, терпением? Что, если жители современных либеральных капитализмов столкнутся с тем, что не каждый может быть кем угодно, и, более того, что это требование в значительной степени безумно? И, конечно — что не-делание может привести к насилию со стороны системы куда бОльшему, чем делание? Или, на более частном уровне: что, если я столкнусь с осознанием, что мою жизнь в значительной степени оформляет не то, что я могу делать, а то, чего я не могу не делать (будь то по внешним или внутренним причинам)? В конце концов, возможности не делать что я могу быть в данный момент лишен(а)?
Иными словами, именно не-делание в конечном итоге и может высвободить наш ментальный и эмоциональный потенциал из удушающих привычек и увлеченности циклом потребления и производства, в котором не должно оставаться пустых, незаполненных мест. Так, по крайней мере, дает основания считать Агамбен.
Например, на уровне политики (о чем и пишет Агамбен): что, если жители современных демократий столкнутся с реальностью, в которой они на самом деле не обладают возможностью ничего, в политическом смысле, решить? Что, если нарратив славы, силы и всемогущества сменится чем-то куда более человеческим — бессилием, неспособностью, терпением? Что, если жители современных либеральных капитализмов столкнутся с тем, что не каждый может быть кем угодно, и, более того, что это требование в значительной степени безумно? И, конечно — что не-делание может привести к насилию со стороны системы куда бОльшему, чем делание? Или, на более частном уровне: что, если я столкнусь с осознанием, что мою жизнь в значительной степени оформляет не то, что я могу делать, а то, чего я не могу не делать (будь то по внешним или внутренним причинам)? В конце концов, возможности не делать что я могу быть в данный момент лишен(а)?
Иными словами, именно не-делание в конечном итоге и может высвободить наш ментальный и эмоциональный потенциал из удушающих привычек и увлеченности циклом потребления и производства, в котором не должно оставаться пустых, незаполненных мест. Так, по крайней мере, дает основания считать Агамбен.
❤13✍6
Мне чем дальше, тем больше кажется, что античных философов надо читать, высматривая, в каком именно кармане тоги у него фига. Фига, понятное дело, скорее для современного читателя со всей нашей привычкой читать классические философские тексты прямолинейно, as is.
Например, платоновский диалог (или, иначе — сократический диалог, так как в большинстве текстов этого жанра присутствует Сократ, но это необязательное условие) — особый философско-литературный жанр, который, в общем, развивается в соответствии с определенными принципами. Это не философский диалог, и даже не дискуссия о философии, как иногда принято считать — это дидактический жанр, то есть текст, который призван чему-то научить читателя. В платоновском диалоге есть носитель представления об истине — например, Сократ, который заранее защищается от каких-либо обвинений в неправоте, так как он играет роль человека, носителем знания не являющегося. Предпосылка платонического диалога — ирония: «расскажи мне про Австралию, мне ужасно интересно».
Итак: если под диалогом мы понимаем столкновение разных точек зрения, разных истин и представлений о философии и культуре, и в этом его отличие от монолога (или серии монологов), то платоновский диалог не является в прямом смысле диалогом: в нем всегда есть герой, который не прав, и герой, который прав (например, Сократ). Иными словами, «нет ничего более монологичного, чем платоновский диалог»: в таких текстах у автора есть точка зрения и есть герой, эту точку зрения выражающий, и (это важно) она никогда не изменится в процессе спора. Его партнеры по диалогу (другие персонажи текста) — это слушатели, производители мнений, которые будут опровергнуты (обязательно), ученики или самовлюбленные уверенные в себе ребята, которых, как злодеев в боевиках, в конце обязательно победят, да еще и с позором (в некоторых текстах это «разбиение» позиции носит почти юмористический характер, от читателя ожидается, что в конце он похихикает над глупостью побежденного).
Это не диалог, в котором столкновение умов порождает истину — истина заведомо известна, она лишь упаковывается в форму диалога для увлекательности чтения.
В таком прочтении Платон предстает догматиком, который через искусную литературную работу «упаковал» свое учение (скорее даже — небольшую его часть) в форму увлекательных с чисто драматической точки зрения диалогов (многие из них построены по принципу сценического агона). И в этом смысле платоновский диалог — это проза, целью которой является не торжество свободной дискуссии, а передача знаний, совершенная форма которой есть устная беседа (переданная, за неимением лучшего медиума, в форме написанного текста). И это знание, если его непростительно упростить, в том, что любое наше убеждение мы должны иметь возможность логически вывести и обсновать, и что природа знания — не в убежденности и пассивно полученном знании (будь то через верования или через образование), а в активном понимании сути вещей и способности мыслить на уровне идей.
Вот неплохая, в целом, простоязычная статья об этом — и о том, как еще можно читать Платона. В результате, конечно, мы все равно сделаем круг — и придем к идее, что истинная философия содержится не в письменном слове (ибо письменное слово, по Платону, мертво — его собственное в том числе), а в устной беседе.
А вот еще гайд по героям диалогов Платона — все они были не риторическими персонажами, а вполне конкретными людьми, и это тоже важно для понимания текста: Сократ опровергает не абстрактные убеждения, а доводы вполне конкретных людей. Короче, весело это все.
Например, платоновский диалог (или, иначе — сократический диалог, так как в большинстве текстов этого жанра присутствует Сократ, но это необязательное условие) — особый философско-литературный жанр, который, в общем, развивается в соответствии с определенными принципами. Это не философский диалог, и даже не дискуссия о философии, как иногда принято считать — это дидактический жанр, то есть текст, который призван чему-то научить читателя. В платоновском диалоге есть носитель представления об истине — например, Сократ, который заранее защищается от каких-либо обвинений в неправоте, так как он играет роль человека, носителем знания не являющегося. Предпосылка платонического диалога — ирония: «расскажи мне про Австралию, мне ужасно интересно».
Итак: если под диалогом мы понимаем столкновение разных точек зрения, разных истин и представлений о философии и культуре, и в этом его отличие от монолога (или серии монологов), то платоновский диалог не является в прямом смысле диалогом: в нем всегда есть герой, который не прав, и герой, который прав (например, Сократ). Иными словами, «нет ничего более монологичного, чем платоновский диалог»: в таких текстах у автора есть точка зрения и есть герой, эту точку зрения выражающий, и (это важно) она никогда не изменится в процессе спора. Его партнеры по диалогу (другие персонажи текста) — это слушатели, производители мнений, которые будут опровергнуты (обязательно), ученики или самовлюбленные уверенные в себе ребята, которых, как злодеев в боевиках, в конце обязательно победят, да еще и с позором (в некоторых текстах это «разбиение» позиции носит почти юмористический характер, от читателя ожидается, что в конце он похихикает над глупостью побежденного).
Это не диалог, в котором столкновение умов порождает истину — истина заведомо известна, она лишь упаковывается в форму диалога для увлекательности чтения.
В таком прочтении Платон предстает догматиком, который через искусную литературную работу «упаковал» свое учение (скорее даже — небольшую его часть) в форму увлекательных с чисто драматической точки зрения диалогов (многие из них построены по принципу сценического агона). И в этом смысле платоновский диалог — это проза, целью которой является не торжество свободной дискуссии, а передача знаний, совершенная форма которой есть устная беседа (переданная, за неимением лучшего медиума, в форме написанного текста). И это знание, если его непростительно упростить, в том, что любое наше убеждение мы должны иметь возможность логически вывести и обсновать, и что природа знания — не в убежденности и пассивно полученном знании (будь то через верования или через образование), а в активном понимании сути вещей и способности мыслить на уровне идей.
Вот неплохая, в целом, простоязычная статья об этом — и о том, как еще можно читать Платона. В результате, конечно, мы все равно сделаем круг — и придем к идее, что истинная философия содержится не в письменном слове (ибо письменное слово, по Платону, мертво — его собственное в том числе), а в устной беседе.
Конечная цель любых его бесед, независимо от их формы, — обратить человека в философию, заставить его жить в согласии с разумом. И как сказал Томас Слезак, «кто начинает философствовать с Платоном, может быть уверен, что находится на правильном пути».
А вот еще гайд по героям диалогов Платона — все они были не риторическими персонажами, а вполне конкретными людьми, и это тоже важно для понимания текста: Сократ опровергает не абстрактные убеждения, а доводы вполне конкретных людей. Короче, весело это все.
❤10👍1
Forwarded from Тезис 11
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАТВЕЕВЫМ ИЛЬЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАТВЕЕВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Если сейчас Телеграм прекратит работу, начнет сбоить или не сможет преодолеть новую попытку блокировки со стороны российский властей - что останется от независимой публичной сферы в России?
Для меня этим исчерпывается вопрос об аресте Дурова.
Если сейчас Телеграм прекратит работу, начнет сбоить или не сможет преодолеть новую попытку блокировки со стороны российский властей - что останется от независимой публичной сферы в России?
Для меня этим исчерпывается вопрос об аресте Дурова.
Тезис 11
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАТВЕЕВЫМ ИЛЬЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАТВЕЕВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА Если сейчас Телеграм прекратит работу, начнет сбоить…
Интересная тема, конечно. Получается, в современном мире любая «публичная сфера» кому-то принадлежит — и, более того, её основополагающая цель и задача совсем не связана с реализацией тех вещей, которым служит публичная сфера.
Ну то есть: Юрген Хабермас, автор понятия в его современном смысле, определил публичную сферу (Öffentlichkeit) так: она «состоит из частных лиц, собравшихся вместе как общественность (публика) и выражающих потребности общества совместно/перед государством». Извините за корявую цитату. У публичной сферы, по Хабермасу, есть набор характерных ей черт: открытая дискуссия, критика действий власти, полная подотчетность, гласность и независимость действующих лиц от экономических интересов и контроля государства.
Но то, что привело к расцвету публичной сферы (капитализм как процесс накопления капитала и социального веса людьми, не включенными в традиционные режимы власти —двор и церковь) привело и к её конечному упадку: политика спонсируется бизнесом, «свободные» медиа тоже стали зависеть от кликов, лайков, трафика (то есть рекламных денег) или грантов/внешнего финансирования (то есть, опять же, капитала).
Телеграмы, Фейсбуки, Инстаграмы и прочие площадки — это, конечно, места, где частные лица формируют определенную общественную группу/публику, имеют дискуссии и тд. Но они не формулируют, в конечном итоге, никаких общественных требований — такие дискуссии не предполагают ничего, кроме дискуссии (или каких-то идентификационных игр — я с этими, я такой), это проведение времени. И, что еще важнее, цель самого существования такой площадки (а они, как мы давеча были заново проинформированы, принадлежат конкретным людям, находящимся в определенной системе отношений с государством и иными элитарными группами) — вовсе не в том, чтобы поддерживать те самые ценности публичной сферы. Они, как было сказано выше, нужны, чтобы их собственники, сотрудники и иные держатели коммерческих интересов (скажем, ребята, которые играют на курсе TON) могли заработать денег. Короче, можно сколько угодно создавать публичную сферу в телеграме, но какой в этом толк, если в любой момент Дурова могут повязать в аэропорту [вставьте название города].
Но на самом деле эту идею легко радикализировать: публичная сфера в интернете вообще не принадлежит, собственно, участникам публичной сферы. Сама суть и содержание публичных отношений между индивидами взята в аренду на рынке, управляемом арендодателями. Все доменные имена и хостинги мы арендуем. Интернет-провайдеры зависят от государственных институтов. В конце концов, интернет можно перерубить, заглушить, нормировать и так далее. Мы не управляем поисковой выдачей, алгоритмами соцсетей, тем, какие сайты у нас открываются, какие — нет. Аргументы технооптимистов и сингулярность Курцвела начинают казаться искаженной версией ночного кошмара.
Неспроста Хабермас возвращается к салонам, публичным библиотекам и прочим кофейням (местам, где публичная сфера в 17-18 веках и начала появляться). Это места человеческого интереса и привязанности, но их главное качество — что суть публичного разговора не является их производной, их в любой момент можно сменить. В России к ним можно добавить те самые гаражи Кордонского (уже, конечно, много где снесенные и закатанные под парковки), дачные поселки и кооперативы, домовые советы, публичные бани, клубы по интересам и тд — любые пространства, где полная индивидуализация по определению невозможна, где формируемая общность вполне может быть случайной. Если думать о каком-то политически значимом действии сегодня — то это не медиа, не какая-либо игра по правилам медиа, а немедийная публичная сфера — пожалуй, это оно и есть.
Но это, опять же, радикальная версия. Истина, как водится, где-то посередине.
(Написала этот пост днем, сейчас еще актуальнее).
Ну то есть: Юрген Хабермас, автор понятия в его современном смысле, определил публичную сферу (Öffentlichkeit) так: она «состоит из частных лиц, собравшихся вместе как общественность (публика) и выражающих потребности общества совместно/перед государством». Извините за корявую цитату. У публичной сферы, по Хабермасу, есть набор характерных ей черт: открытая дискуссия, критика действий власти, полная подотчетность, гласность и независимость действующих лиц от экономических интересов и контроля государства.
Но то, что привело к расцвету публичной сферы (капитализм как процесс накопления капитала и социального веса людьми, не включенными в традиционные режимы власти —двор и церковь) привело и к её конечному упадку: политика спонсируется бизнесом, «свободные» медиа тоже стали зависеть от кликов, лайков, трафика (то есть рекламных денег) или грантов/внешнего финансирования (то есть, опять же, капитала).
Телеграмы, Фейсбуки, Инстаграмы и прочие площадки — это, конечно, места, где частные лица формируют определенную общественную группу/публику, имеют дискуссии и тд. Но они не формулируют, в конечном итоге, никаких общественных требований — такие дискуссии не предполагают ничего, кроме дискуссии (или каких-то идентификационных игр — я с этими, я такой), это проведение времени. И, что еще важнее, цель самого существования такой площадки (а они, как мы давеча были заново проинформированы, принадлежат конкретным людям, находящимся в определенной системе отношений с государством и иными элитарными группами) — вовсе не в том, чтобы поддерживать те самые ценности публичной сферы. Они, как было сказано выше, нужны, чтобы их собственники, сотрудники и иные держатели коммерческих интересов (скажем, ребята, которые играют на курсе TON) могли заработать денег. Короче, можно сколько угодно создавать публичную сферу в телеграме, но какой в этом толк, если в любой момент Дурова могут повязать в аэропорту [вставьте название города].
Но на самом деле эту идею легко радикализировать: публичная сфера в интернете вообще не принадлежит, собственно, участникам публичной сферы. Сама суть и содержание публичных отношений между индивидами взята в аренду на рынке, управляемом арендодателями. Все доменные имена и хостинги мы арендуем. Интернет-провайдеры зависят от государственных институтов. В конце концов, интернет можно перерубить, заглушить, нормировать и так далее. Мы не управляем поисковой выдачей, алгоритмами соцсетей, тем, какие сайты у нас открываются, какие — нет. Аргументы технооптимистов и сингулярность Курцвела начинают казаться искаженной версией ночного кошмара.
Неспроста Хабермас возвращается к салонам, публичным библиотекам и прочим кофейням (местам, где публичная сфера в 17-18 веках и начала появляться). Это места человеческого интереса и привязанности, но их главное качество — что суть публичного разговора не является их производной, их в любой момент можно сменить. В России к ним можно добавить те самые гаражи Кордонского (уже, конечно, много где снесенные и закатанные под парковки), дачные поселки и кооперативы, домовые советы, публичные бани, клубы по интересам и тд — любые пространства, где полная индивидуализация по определению невозможна, где формируемая общность вполне может быть случайной. Если думать о каком-то политически значимом действии сегодня — то это не медиа, не какая-либо игра по правилам медиа, а немедийная публичная сфера — пожалуй, это оно и есть.
Но это, опять же, радикальная версия. Истина, как водится, где-то посередине.
(Написала этот пост днем, сейчас еще актуальнее).
❤20👍6🤩2
Forwarded from soloveev: жизнь на марсе 👩🎤
Следующим трендом после психологов будут философы
Вчера в рассылке у Миши Калашникова (одна из лучших рассылок, что я читаю) прочитал его ответ на вопрос, какие темы будут популярны через несколько лет. Миша среди прочего пишет:
Я согласен и думаю, что одним из инструментом по работе со смыслами будет старая добрая философия. Только переупакованная из академии в более доступную форму.
Моя мечта создать способ преподавания и обсуждения философии, доступный сегменту «айтишников» и «предпринимателей», изголодавшихся по работе со смыслами.
Я верю, что в ближайшем будущем к личному философу будет так же популярно ходить, как сейчас люди ходят к психологам. Каждую неделю ходишь обсуждать смыслы жизни или философские тексты.
В Форбсе недавно вышла статья о будущем философии с исследованием этого тренда: «В поиске новых смыслов: почему на фоне мирового кризиса философия становится «модной».
Напр. там упоминается такое:
В России все популярнее становятся подкасты на философские темы. Философ Александр Ветушинский размышляет о роли философа вне академии. Илья Ляшко предлагает взрослым людям индивидуальные занятия философией. Диана Гаспарян на Страдариуме начинает второй поток курса «Введение в практику философствования». Олег Пащенко уже лет десять преподает ядерную смесь из дизайна и философии. Многие мои друзья ходят на философские ридинги или создают свои.
У философии большой порог вхождения, но те проблемы, которые она поднимает, актуальны многим. Хотите понять ИИ и технологическую повестку — курите Ника Ланда, e/acc, АСТ, объектно-ориентированные онтологии, отношение к прогрессу и технологиям.
Эта востребованная дисциплина будет сплавом из философии, социологии, истории человеческой мысли, теории о человеке и обществе и, конечно, о вещах.
Ее будут называть по разному: практические философия, смыслология, экзистенциальная навигация, смысловой дизайн, онтологический коучинг, метафизика современности. Другие будут говорить, что это важный мета-навык, столь же необходимый как и софт скиллы.
Все это будет плюс минус про одно — про умение работать со смыслами. Не только создание их, а именно работа с ними, которая подразумевает много — от понимания и чтения в посведневности до экранирования и присвоения.
Будет интересно. И предстоит большая работа.
Вчера в рассылке у Миши Калашникова (одна из лучших рассылок, что я читаю) прочитал его ответ на вопрос, какие темы будут популярны через несколько лет. Миша среди прочего пишет:
• в мире очень не хватает смысла, и будет востребовано все, что помогает увидеть цели и ориентиры;
Я согласен и думаю, что одним из инструментом по работе со смыслами будет старая добрая философия. Только переупакованная из академии в более доступную форму.
Моя мечта создать способ преподавания и обсуждения философии, доступный сегменту «айтишников» и «предпринимателей», изголодавшихся по работе со смыслами.
Я верю, что в ближайшем будущем к личному философу будет так же популярно ходить, как сейчас люди ходят к психологам. Каждую неделю ходишь обсуждать смыслы жизни или философские тексты.
В Форбсе недавно вышла статья о будущем философии с исследованием этого тренда: «В поиске новых смыслов: почему на фоне мирового кризиса философия становится «модной».
Напр. там упоминается такое:
В Европе и США развито такое понятие, как «философское консультирование», есть профессиональные ассоциации, которые подразумевают сертифицирование участников. В Германии и Франции работают фило-кафе (café-philo), где проходят регулярные встречи под руководством модераторов-философов, есть отдельные «философские кабинеты», куда ты можешь ходить поговорить о жизни, как мы сегодня ходим к психологам.
В России все популярнее становятся подкасты на философские темы. Философ Александр Ветушинский размышляет о роли философа вне академии. Илья Ляшко предлагает взрослым людям индивидуальные занятия философией. Диана Гаспарян на Страдариуме начинает второй поток курса «Введение в практику философствования». Олег Пащенко уже лет десять преподает ядерную смесь из дизайна и философии. Многие мои друзья ходят на философские ридинги или создают свои.
У философии большой порог вхождения, но те проблемы, которые она поднимает, актуальны многим. Хотите понять ИИ и технологическую повестку — курите Ника Ланда, e/acc, АСТ, объектно-ориентированные онтологии, отношение к прогрессу и технологиям.
Эта востребованная дисциплина будет сплавом из философии, социологии, истории человеческой мысли, теории о человеке и обществе и, конечно, о вещах.
Ее будут называть по разному: практические философия, смыслология, экзистенциальная навигация, смысловой дизайн, онтологический коучинг, метафизика современности. Другие будут говорить, что это важный мета-навык, столь же необходимый как и софт скиллы.
Все это будет плюс минус про одно — про умение работать со смыслами. Не только создание их, а именно работа с ними, которая подразумевает много — от понимания и чтения в посведневности до экранирования и присвоения.
Будет интересно. И предстоит большая работа.
❤13👍1
soloveev: жизнь на марсе 👩🎤
Следующим трендом после психологов будут философы Вчера в рассылке у Миши Калашникова (одна из лучших рассылок, что я читаю) прочитал его ответ на вопрос, какие темы будут популярны через несколько лет. Миша среди прочего пишет: • в мире очень не хватает…
Есть у меня похожее наблюдение. Возможно, это как раз-таки эффект пузыря — я стала философом, и вокруг меня зароилась философия.
Но есть и вполне сильный аргумент о том, что сейчас людям в жизни (особенно после определенного её предела, и в определенных её условиях, конечно) не хватает смысла — того самого «большего, чем я» ответа на вопрос «зачем все это». Пространство и язык для разговора о не-сиюминутном, не-проходящем, не-связанном с бытовыми, повседневными, рабочими или семейными делами, раньше предоставляла религия. Скажем, каждое воскресенье, по доброй воле или из-за социальной конвенции, но многие люди шли в церковь — в их расписании было буквально выделено «время для размышлений о вечности/смерти/любви/боге/трансцендентном». И было, конечно, совершенно необязательно знать слово трансценденция, чтобы о ней думать.
Но духовность из общества модерна постепенно вымывается — она заменяется технократическим мышлением, на место смысла жизни ставится бесконечный прогресс, направленный в неопределенное будущее, история то заканчивается, то вдруг начинается снова, человек обнаруживает себя на вершине мира, куда он сам себя поставил, и он там космически, невероятно одинок. После смерти бога и автора ему оказывается совсем не с кем поговорить. Как говорится, протестант работал, потому что рассчитывал оказаться в раю, а мы работаем, просто потому что должны. И в какой-то момент такое положение вещей начинает вызывать понятные вопросы.
Причем запрос этот на «большее, чем я» на самом деле неоднороден — кто-то хочет, чтобы этот смысл ему/ей просто сообщили, как раньше сообщали в церкви; кто-то же хочет его для себя создать (найти, придумать, вывести, утвердиться). И кажется, в обоих случаях философия — хорошее место, чтобы начать.
Но у неё есть довольно значительное слабое место. Западная философия со временем превратилась в сферу профессиональной деятельности — это довольно сложная академическая сфера с высоким порогом вхождения, собственным языком и прочими прелестями институционализированной науки. Восточная философия для западного человека порой оказывается еще сложнее, потому что она-то как раз нарочито проста — и нам сложно отбросить выученный годами критического взгляда скептицизм.
Во всю эту философию очень тяжело войти — и я думаю, в значительной степени потому, что эта связка между запросом на смысл и философией до сих пор не такая явная для большинства людей. Психотерапия существовала десятки лет, но настоящий бум у неё случился тогда, когда понимание связи между «что-то мне хреново» и психотерапией стало общим местом — благодаря популяризации терапии, её языка и инструментов (у этого есть обратный эффект — поп-психология и падение среднего уровня этой сферы вообще, но сейчас не об этом). Связь философии и создания собственного смысла или интереса к жизни пока что общим местом не является. Мало кто, как мне кажется, думает: блин, что-то мне бессмысленно. Пойду-ка я почитаю Платона или схожу на философский кружок или поговорю с философом. И вот здесь лежит, на мой взгляд, самая большая сложность: человеческая (в плане ресурсов), коммуникационная (в плане как про это рассказать, сделать понятным), и даже «продуктовая» в широком смысле (как это вообще упаковать, как это должно работать).
Возможно, философии стоит вернуться к призванию, от которого ей, вероятно, никогда и не следовало отказываться, и снова стать «областью, которая с незапамятных времен считалась истинной областью философии, но которая <...> впала в интеллектуальное запустение, нравоучительность и, наконец, в забвение: учение о хорошей жизни (the teaching of the good life)» (с) Теодор Адорно.
И вот как сделать это — тут, действительно, придется хорошенько поработать.
Но есть и вполне сильный аргумент о том, что сейчас людям в жизни (особенно после определенного её предела, и в определенных её условиях, конечно) не хватает смысла — того самого «большего, чем я» ответа на вопрос «зачем все это». Пространство и язык для разговора о не-сиюминутном, не-проходящем, не-связанном с бытовыми, повседневными, рабочими или семейными делами, раньше предоставляла религия. Скажем, каждое воскресенье, по доброй воле или из-за социальной конвенции, но многие люди шли в церковь — в их расписании было буквально выделено «время для размышлений о вечности/смерти/любви/боге/трансцендентном». И было, конечно, совершенно необязательно знать слово трансценденция, чтобы о ней думать.
Но духовность из общества модерна постепенно вымывается — она заменяется технократическим мышлением, на место смысла жизни ставится бесконечный прогресс, направленный в неопределенное будущее, история то заканчивается, то вдруг начинается снова, человек обнаруживает себя на вершине мира, куда он сам себя поставил, и он там космически, невероятно одинок. После смерти бога и автора ему оказывается совсем не с кем поговорить. Как говорится, протестант работал, потому что рассчитывал оказаться в раю, а мы работаем, просто потому что должны. И в какой-то момент такое положение вещей начинает вызывать понятные вопросы.
Причем запрос этот на «большее, чем я» на самом деле неоднороден — кто-то хочет, чтобы этот смысл ему/ей просто сообщили, как раньше сообщали в церкви; кто-то же хочет его для себя создать (найти, придумать, вывести, утвердиться). И кажется, в обоих случаях философия — хорошее место, чтобы начать.
Но у неё есть довольно значительное слабое место. Западная философия со временем превратилась в сферу профессиональной деятельности — это довольно сложная академическая сфера с высоким порогом вхождения, собственным языком и прочими прелестями институционализированной науки. Восточная философия для западного человека порой оказывается еще сложнее, потому что она-то как раз нарочито проста — и нам сложно отбросить выученный годами критического взгляда скептицизм.
Во всю эту философию очень тяжело войти — и я думаю, в значительной степени потому, что эта связка между запросом на смысл и философией до сих пор не такая явная для большинства людей. Психотерапия существовала десятки лет, но настоящий бум у неё случился тогда, когда понимание связи между «что-то мне хреново» и психотерапией стало общим местом — благодаря популяризации терапии, её языка и инструментов (у этого есть обратный эффект — поп-психология и падение среднего уровня этой сферы вообще, но сейчас не об этом). Связь философии и создания собственного смысла или интереса к жизни пока что общим местом не является. Мало кто, как мне кажется, думает: блин, что-то мне бессмысленно. Пойду-ка я почитаю Платона или схожу на философский кружок или поговорю с философом. И вот здесь лежит, на мой взгляд, самая большая сложность: человеческая (в плане ресурсов), коммуникационная (в плане как про это рассказать, сделать понятным), и даже «продуктовая» в широком смысле (как это вообще упаковать, как это должно работать).
Возможно, философии стоит вернуться к призванию, от которого ей, вероятно, никогда и не следовало отказываться, и снова стать «областью, которая с незапамятных времен считалась истинной областью философии, но которая <...> впала в интеллектуальное запустение, нравоучительность и, наконец, в забвение: учение о хорошей жизни (the teaching of the good life)» (с) Теодор Адорно.
И вот как сделать это — тут, действительно, придется хорошенько поработать.
❤21✍1🗿1
(Кажется, это хорошая возможность между делом напомнить, что практической философией (или философским консультированием) я как раз-таки и люблю заниматься — поэтому если вдруг вам что-то бессмысленно, или зацепило что-то вышесказанное, или давно хотелось почитать Платона (или Канта, или Маркса, или Еву Иллуз, или «что-нибудь про буддизм/счастье/смысл жизни/смерть/связь тела и сознания», или вообще любой другой запрос, прямо или косвенно связанный с какими-то сложными концепциями или вопросами) — то это можно сделать, например, со мной. Just saying!)
Telegram
Вроде культурный человек
Быстрый анонс номер два: на ближайшие месяцы есть несколько мест для философских консультаций / совместных ридингов, индивидуальных или групповых.
Я дипломированный политфилософ (мда) и за последнее время провела некоторое количество разных чтений с последующим…
Я дипломированный политфилософ (мда) и за последнее время провела некоторое количество разных чтений с последующим…
❤11🔥4
Предложила коллегам по философскому кружку прочитать Парменида — одного из досократических философов, который в метафорической поэме «О природе» заложил начала метафизики as we know it, разделил истину и мнение, сообщил нам, что «мыслить и быть — одно и то же». Иными словами, текста там страниц на двадцать, а комментариев к этому тексту — на миллионы страниц и сотни лет (ради этого мы занимаемся западной философией? видимо, да). Например, свой подход к чтению Парменида сделал и Мартин Хайдеггер, значительно интересовавшийся вопросами бытия и истины.
Читать к кружку Хайдеггера я, конечно, не стала — дай, думаю, посмотрю какую-нибудь лекцию, и быстренько все пойму.
Лекция:
Читать к кружку Хайдеггера я, конечно, не стала — дай, думаю, посмотрю какую-нибудь лекцию, и быстренько все пойму.
Лекция:
💯9👍2
Forwarded from Ekaterina Kudryavtseva
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😁10❤8