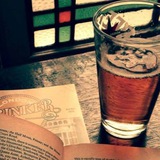Так собственно про Форсаж 9-то написать я и забыла.
Сначала должна сказать, что я ОБОЖАЮ бессмысленные боевики, и среди них первое место — у серии фильмов про машинки. Я сама не заметила, как так случилось, но первая часть Форсажа, та самая, где Вин Дизель еще совсем молодой, стала моим универсальным комфортящим фильмом — то есть я готова смотреть его всегда, смотреть его везде, и испытывать по этому поводу теплые и светлые чувства. Несмотря на все очевидные минусы этого фильма и на то, что он вообще не проходит ни через один мой современный фильтр. Я люблю этот фильм с самого детства и недавно я об этом вспомнила — но это, в общем, их категории тем «обсудить с терапевтом», а не «написать пост в бложик».
А вот про девятый фильм я прямо-таки готова написать пост в бложик.
Фильм, ясное дело, говно. Непонятные родственники главного героя: вылезают из полного несуществования на протяжении предыдущих восьми (ВОСЬМИ) фильмов. Шарлиз Терон: у меня есть окошко с восьми до восьми пятнадцати на съемки в вашем кине, уложимся? Ну и отлично. Все персонажи: у нас была возможность не быть ходячими болванками, но мы ей не воспользовались. Персонаж, который умер еще в третьем фильме: просто здравствуй, просто как дела. Все: кстати, мы еще в космосе не гоняли на азоте, кажется, ПОРА. Тбилиси: господи ну почему вам не хватило денег на Белград, как обычно.
Все происходящее сценарно бессмысленно и оскорбительно по отношению к законам физики. Но подкупают две вещи: а) они не стараются. Серьезно, все прекрасно понимают, что занимаются неправдоподобной фигней, которая вообще ни на что не претендует б) они готовы над этим шутить.
Пожалуй, персонаж-долбоеб, который генерит мета-контент (а вы заметили, что мы постоянно делаем Безумные Трюки, и на нас не остается ни одной царапины? А вдруг мы…БЕССМЕРТНЫ?), сделал этот фильм, потому что мне-зрителю не осталось ничего другого, кроме как хихикать над самой собой и особенностями моего восприятия: ну то есть, я ведь не переживаю реально за то, что происходит? Я ведь знаю, что сюжетно эти персонажи бессмертны? Что никакие правила жизни и смерти над ними не властны? Я осознаю, что победа будет одержана, что никто не погибнет в мучениях, что конец света будет предотвращен? Конечно, да! Но весело-то мне все равно!
В Форсажах больше всего и удивляет этот странный коктейль из абсурдных CGI-трюков, плоского, как доска, сценария, сюжетов из мыльных опер (потеря памяти; родственники из табакерки; оживающие мертвецы) и абсолютно слюняво-эмоциональной сердечности всех участников процесса. Это странным образом работает, потому что каждый из этих элементов по своему говорит об одной на самом деле теме — бессмертии в том или ином смысле (бессмертие как рефлексирующий сам себя сюжетный инструмент; бессмертие как основа истории; бессмертие как характеристика персонажей; бессмертие как семья).
В общем, Форсаж-9 вызывает странное чувство: как будто бы он настолько сильно перепародировал сам себя, что снова наткнулся на какую-то безбашенную сердечность, которая так меня подкупила в самом первом фильме. Вот и думай.
Сначала должна сказать, что я ОБОЖАЮ бессмысленные боевики, и среди них первое место — у серии фильмов про машинки. Я сама не заметила, как так случилось, но первая часть Форсажа, та самая, где Вин Дизель еще совсем молодой, стала моим универсальным комфортящим фильмом — то есть я готова смотреть его всегда, смотреть его везде, и испытывать по этому поводу теплые и светлые чувства. Несмотря на все очевидные минусы этого фильма и на то, что он вообще не проходит ни через один мой современный фильтр. Я люблю этот фильм с самого детства и недавно я об этом вспомнила — но это, в общем, их категории тем «обсудить с терапевтом», а не «написать пост в бложик».
А вот про девятый фильм я прямо-таки готова написать пост в бложик.
Фильм, ясное дело, говно. Непонятные родственники главного героя: вылезают из полного несуществования на протяжении предыдущих восьми (ВОСЬМИ) фильмов. Шарлиз Терон: у меня есть окошко с восьми до восьми пятнадцати на съемки в вашем кине, уложимся? Ну и отлично. Все персонажи: у нас была возможность не быть ходячими болванками, но мы ей не воспользовались. Персонаж, который умер еще в третьем фильме: просто здравствуй, просто как дела. Все: кстати, мы еще в космосе не гоняли на азоте, кажется, ПОРА. Тбилиси: господи ну почему вам не хватило денег на Белград, как обычно.
Все происходящее сценарно бессмысленно и оскорбительно по отношению к законам физики. Но подкупают две вещи: а) они не стараются. Серьезно, все прекрасно понимают, что занимаются неправдоподобной фигней, которая вообще ни на что не претендует б) они готовы над этим шутить.
Пожалуй, персонаж-долбоеб, который генерит мета-контент (а вы заметили, что мы постоянно делаем Безумные Трюки, и на нас не остается ни одной царапины? А вдруг мы…БЕССМЕРТНЫ?), сделал этот фильм, потому что мне-зрителю не осталось ничего другого, кроме как хихикать над самой собой и особенностями моего восприятия: ну то есть, я ведь не переживаю реально за то, что происходит? Я ведь знаю, что сюжетно эти персонажи бессмертны? Что никакие правила жизни и смерти над ними не властны? Я осознаю, что победа будет одержана, что никто не погибнет в мучениях, что конец света будет предотвращен? Конечно, да! Но весело-то мне все равно!
В Форсажах больше всего и удивляет этот странный коктейль из абсурдных CGI-трюков, плоского, как доска, сценария, сюжетов из мыльных опер (потеря памяти; родственники из табакерки; оживающие мертвецы) и абсолютно слюняво-эмоциональной сердечности всех участников процесса. Это странным образом работает, потому что каждый из этих элементов по своему говорит об одной на самом деле теме — бессмертии в том или ином смысле (бессмертие как рефлексирующий сам себя сюжетный инструмент; бессмертие как основа истории; бессмертие как характеристика персонажей; бессмертие как семья).
В общем, Форсаж-9 вызывает странное чувство: как будто бы он настолько сильно перепародировал сам себя, что снова наткнулся на какую-то безбашенную сердечность, которая так меня подкупила в самом первом фильме. Вот и думай.
Сегодня у либерального гуманизма есть сила убеждения, которой раньше обладала религия. Гуманисты любят думать, что они смотрят на мир рационально, но их ключевая вера в прогресс — всего лишь предрассудок, который еще дальше от правды о человеческой сути, чем любая мировая религия.
За пределами науки прогресс — просто миф. В некоторых читателях Straw Dogs (книга автора цитаты) это наблюдение вызывает моральную панику. Конечно, спрашивают они, никто не может ставить под вопрос главный предмет веры либеральных сообществ? Разве мы не впадем в отчаяние без него? Как викторианцы, которых вгоняла в ужас потеря веры, гуманисты цепляются за их изъеденную молью надежду на прогресс. Сегодня религиозные верующие мыслят свободнее. Культура, в которой науке отдана власть над всем человеческим знанием, заставила их взрастить в себе способность к сомнению. На контрасте с ними — светские верующие, которых крепко держит общепринятая, конвенциональная мудрость времени, пребывают в тисках неизученных, недоказанных догм.
Цитата из Джона Грея, философа и автора нескольких книжек о животных и человеческой свободе.
Идея Грея проста: у человечества есть технологии и наука, которые можно использовать как для хороших вещей (отправить колонию на Луну или пришить человеку роборуку), так и для плохих (убить, убить, обмануть, убить). К технологиям не привязана мораль — они могут быть использованы для любой цели. И вот появляется он: догмат прогресса, который говорит, что цель наша благородна и прекрасна. Технологии = хорошо.
But that is not exactly true, говорит Грей. Наука кумулятивна (то есть знание накапливается), но человеческая жизнь — not so much. Следующее поколение может потерять накопленные предыдущими моральные ценности и вот это все. Тирании и расовые чистки были всегда, но именно технологии позволили сделать их настолько разрушительными, как в двадцатом веке. Стало быть, технологический прогресс =/= человеческий прогресс. Не зря на протяжении истории мифологии и религии рассказывали поучительные истории о том, что не надо быть слишком умным и тянуть ручки к запретному знанию. Там же неспроста живут истории о цикличности мироздания. Идея же прогресса — бесконечная прямая, устремленная к единой, общей, достижимой цели (а именно — что весь мир станет примерно Швейцарией).
Вообще изучению прогресса (что это вообще такое и как его измерять) не сто лет в обед, но немало: об этом начали задумываться в эпоху Просвещения. Древние греки верили, что человечество развивается стихийно, на его пути возникают катастрофы, да и о каком развитии можно думать, когда боги бросили человеков на произвол судьбинушки. В эпоху Просвещения заговорили о свете разума, который должен вывести человечество из тьмы религиозных предрассудков — тогда и появилась связка науки с человеческим прогрессом, движением к всеобщему благополучию. Сейчас за ценности Просвещения топит, например, Стивен Пинкер: по его мнению, их надо защищать «от мракобесия, скептицизма и антидемократических тенденций». Ну а многие социальные и культурные исследователи продолжают постмодернистскую критику прогресса как европоцентричного, тотального (на грани с тоталитарным), абсолютистского явления, которое посредственно относится к другим культурам и так далее.
Даже если отбросить теоретическую критику (чего делать, конечно, не надо), вечный прогресс невозможен без вечной работы. Ключевое отличие современной либерально-прогрессивной идеологии от культур прошлого — в презрении к безделью и возведении работы в культ. Чтобы спастись, христиане должны были молиться, китайцы — любить и единиться с природой, индийцы — медитировать, греки — философствовать, и только протестанты верили, что спасение — в работе (тут Грей сильно упрощает, ну да на ваш выбор бог с ним). Мы все уверовали в необходимость работать до самой смерти, иначе как будто бы и зря жил. Логика Грея (своеобразного на самом деле автора) — обратная: величие в том, чтобы научиться безбожному созерцанию, просто-бытию. Звучит неплохо, надо сказать.
За пределами науки прогресс — просто миф. В некоторых читателях Straw Dogs (книга автора цитаты) это наблюдение вызывает моральную панику. Конечно, спрашивают они, никто не может ставить под вопрос главный предмет веры либеральных сообществ? Разве мы не впадем в отчаяние без него? Как викторианцы, которых вгоняла в ужас потеря веры, гуманисты цепляются за их изъеденную молью надежду на прогресс. Сегодня религиозные верующие мыслят свободнее. Культура, в которой науке отдана власть над всем человеческим знанием, заставила их взрастить в себе способность к сомнению. На контрасте с ними — светские верующие, которых крепко держит общепринятая, конвенциональная мудрость времени, пребывают в тисках неизученных, недоказанных догм.
Цитата из Джона Грея, философа и автора нескольких книжек о животных и человеческой свободе.
Идея Грея проста: у человечества есть технологии и наука, которые можно использовать как для хороших вещей (отправить колонию на Луну или пришить человеку роборуку), так и для плохих (убить, убить, обмануть, убить). К технологиям не привязана мораль — они могут быть использованы для любой цели. И вот появляется он: догмат прогресса, который говорит, что цель наша благородна и прекрасна. Технологии = хорошо.
But that is not exactly true, говорит Грей. Наука кумулятивна (то есть знание накапливается), но человеческая жизнь — not so much. Следующее поколение может потерять накопленные предыдущими моральные ценности и вот это все. Тирании и расовые чистки были всегда, но именно технологии позволили сделать их настолько разрушительными, как в двадцатом веке. Стало быть, технологический прогресс =/= человеческий прогресс. Не зря на протяжении истории мифологии и религии рассказывали поучительные истории о том, что не надо быть слишком умным и тянуть ручки к запретному знанию. Там же неспроста живут истории о цикличности мироздания. Идея же прогресса — бесконечная прямая, устремленная к единой, общей, достижимой цели (а именно — что весь мир станет примерно Швейцарией).
Вообще изучению прогресса (что это вообще такое и как его измерять) не сто лет в обед, но немало: об этом начали задумываться в эпоху Просвещения. Древние греки верили, что человечество развивается стихийно, на его пути возникают катастрофы, да и о каком развитии можно думать, когда боги бросили человеков на произвол судьбинушки. В эпоху Просвещения заговорили о свете разума, который должен вывести человечество из тьмы религиозных предрассудков — тогда и появилась связка науки с человеческим прогрессом, движением к всеобщему благополучию. Сейчас за ценности Просвещения топит, например, Стивен Пинкер: по его мнению, их надо защищать «от мракобесия, скептицизма и антидемократических тенденций». Ну а многие социальные и культурные исследователи продолжают постмодернистскую критику прогресса как европоцентричного, тотального (на грани с тоталитарным), абсолютистского явления, которое посредственно относится к другим культурам и так далее.
Даже если отбросить теоретическую критику (чего делать, конечно, не надо), вечный прогресс невозможен без вечной работы. Ключевое отличие современной либерально-прогрессивной идеологии от культур прошлого — в презрении к безделью и возведении работы в культ. Чтобы спастись, христиане должны были молиться, китайцы — любить и единиться с природой, индийцы — медитировать, греки — философствовать, и только протестанты верили, что спасение — в работе (тут Грей сильно упрощает, ну да на ваш выбор бог с ним). Мы все уверовали в необходимость работать до самой смерти, иначе как будто бы и зря жил. Логика Грея (своеобразного на самом деле автора) — обратная: величие в том, чтобы научиться безбожному созерцанию, просто-бытию. Звучит неплохо, надо сказать.
Ну что, все эти посты про культ работы появились в этом канале не просто так (шучу, на самом деле я просто очень люблю эту тему). В общем, я как настоящий миллениал наконец-то пришла к тому, чтобы добавить функцию монетизации своего увлечения, а именно — завела страничку, где можно поддержать канал финансово (любой суммой): https://www.tinkoff.ru/sl/8iseMLa7Y3z
Если вам нравится меня читать, в вас как-то отзывается то, что и как я пишу, вы находите это вдохновляющим, интересным или полезным — буду рада вашей поддержке. Она позволит мне чувствовать себя увереннее, веселее планировать будущее канала, чаще писать, придумывать новые штуки и вот это вот все. Ссылка будет прибита в описании канала + в некоторых постах я буду иногда напоминать об этой возможности.
Напоминаю, что мне можно задавать разные вопросы, писать мнения и отклики и вообще — я люблю, когда мне подкидывают темы для размышлений, ресерча и постов: это можно делать в личке @humanaviator или в чате канала.
📚🍺
Если вам нравится меня читать, в вас как-то отзывается то, что и как я пишу, вы находите это вдохновляющим, интересным или полезным — буду рада вашей поддержке. Она позволит мне чувствовать себя увереннее, веселее планировать будущее канала, чаще писать, придумывать новые штуки и вот это вот все. Ссылка будет прибита в описании канала + в некоторых постах я буду иногда напоминать об этой возможности.
Напоминаю, что мне можно задавать разные вопросы, писать мнения и отклики и вообще — я люблю, когда мне подкидывают темы для размышлений, ресерча и постов: это можно делать в личке @humanaviator или в чате канала.
📚🍺
На протяжении всего XX в. идея о том, что люди сами создают свои любовные муки, была невероятно успешной, возможно потому, что психология одновременно давала утешительное обещание избавления от них. Мучительные любовные переживания стали мощным фактором, активизирующим массу профессионалов (психоаналитиков, психологов и терапевтов всех мастей), издательскую индустрию, телевидение и множество других средств массовой информации.
Появление чрезвычайно успешной индустрии самоусовершенствования стало возможным на фоне глубоко укоренившейся веры в то, что наши страдания тесно связаны с психическим развитием нашей личности, что самопознание и способность говорить о них обладают исцеляющей силой, а выявление закономерностей и источников наших страданий поможет их преодолеть. Муки любви теперь указывают только на личность, на историю ее психического развития и на ее способность к самоформированию.
Именно потому, что мы живем в то время, когда господствует идея личной ответственности, социология остается жизненно важной сферой деятельности. Точно так же, как в конце XIX в. считалось радикальным утверждать, что бедность является результатом систематической экономической эксплуатации, а не результатом сомнительной морали или слабого характера, в настоящее время крайне необходимо заявить, что все неудачи, превратности и невзгоды нашей эмоциональной жизни скорее формируются институциональными механизмами, а не являются результатом слабой психики.
Начала наконец читать «Почему любовь ранит? Социологическое объяснение» Евы Иллуз, планирую орать чаечкой.
Эта история напомнила любимую маркетинговую байку: однажды компания Gilette вдруг поняла, что вот она продала всем мужчинам бритвы, и что теперь? Как зарабатывать-то будем? И в 1915 году маркетологи Gilette изобрели проблему, о которой до той поры женщины и знать не знали — волосы на ногах это оказывается неприлично. Ведь мода-то изменилась, одежда стала более свободной, ну и вот этот это вот все, срочно покупайте наши бритвы, рынок вырос в два раза, оу йе.
Терапия, разумеется, полезная вещь (в большинстве случаев), однако важно помнить, что индустрия самоусовершенствования (спасибо за термин, Иллуз) никогда не будет нами довольна, ибо нам никогда нельзя переставать тратить деньги на терапевтов и коучей, приложения для медитации и дневники осознанности, и далее, и далее, и далее со всеми остановками. И, кстати говоря, нет, наше личное счастье или несчастье далеко не всегда наша ответственность.
Появление чрезвычайно успешной индустрии самоусовершенствования стало возможным на фоне глубоко укоренившейся веры в то, что наши страдания тесно связаны с психическим развитием нашей личности, что самопознание и способность говорить о них обладают исцеляющей силой, а выявление закономерностей и источников наших страданий поможет их преодолеть. Муки любви теперь указывают только на личность, на историю ее психического развития и на ее способность к самоформированию.
Именно потому, что мы живем в то время, когда господствует идея личной ответственности, социология остается жизненно важной сферой деятельности. Точно так же, как в конце XIX в. считалось радикальным утверждать, что бедность является результатом систематической экономической эксплуатации, а не результатом сомнительной морали или слабого характера, в настоящее время крайне необходимо заявить, что все неудачи, превратности и невзгоды нашей эмоциональной жизни скорее формируются институциональными механизмами, а не являются результатом слабой психики.
Начала наконец читать «Почему любовь ранит? Социологическое объяснение» Евы Иллуз, планирую орать чаечкой.
Эта история напомнила любимую маркетинговую байку: однажды компания Gilette вдруг поняла, что вот она продала всем мужчинам бритвы, и что теперь? Как зарабатывать-то будем? И в 1915 году маркетологи Gilette изобрели проблему, о которой до той поры женщины и знать не знали — волосы на ногах это оказывается неприлично. Ведь мода-то изменилась, одежда стала более свободной, ну и вот этот это вот все, срочно покупайте наши бритвы, рынок вырос в два раза, оу йе.
Терапия, разумеется, полезная вещь (в большинстве случаев), однако важно помнить, что индустрия самоусовершенствования (спасибо за термин, Иллуз) никогда не будет нами довольна, ибо нам никогда нельзя переставать тратить деньги на терапевтов и коучей, приложения для медитации и дневники осознанности, и далее, и далее, и далее со всеми остановками. И, кстати говоря, нет, наше личное счастье или несчастье далеко не всегда наша ответственность.
Сегодня весь день валяюсь на траве и читаю Zettel Людвига Витгенштейна (а вы как развлекаетесь?) Zettel — эдакий сборник записочек, так и не ставших полноценной книгой, собранный экспертами после смерти Витгенштейна. Вообще Витгенштейн — это миллениальный муд самый настоящий, потому что при жизни он более или менее закончил только «Логико-философский трактат», небольшую книжечку на сотню страниц, а остальные его труды были собраны посмертно из записок и лекций. А что — берешь свой телеграм-канал и издаешь его, почему нет, хочу быть как Витгенштейн.
Ну да мы отвлеклись — в предисловии к Zettel есть отличная заметка про «медленное чтение»:
При каждом удобном случае, в разговорах со своими друзьями и в дневниковых записях Витгенштейн просил и реального, и воображаемого собеседника, чтобы его читали медленно. Едва ли не самый верный способ отнестись пренебрежительно и отчаянно безразлично к сути работы Витгенштейна — это «бегло пробежаться по его текстам». Прислушаемся: «Иногда предложение можно понять, только если читаешь его в правильном темпе. Все мои предложения следует читать медленно».
Витгенштейн умышленно использовал несколько избыточную пунктуацию, синтаксически и интонационно притормаживающую взгляд, позволяющую читателю после каждого смыслового сегмента, после каждой нагруженной мыслительными оттенками фразы — остановиться и соотнестись со сказанным, согласиться с ним или опротестовать его. «Я на самом деле хочу замедлить скорость чтения посредством знаков препинания. Я хочу, чтобы меня читали медленно».
Это вот не «ну лень мне было по-человечески писать, это ж сложно», а «тяжелым языком я специально мотивировал людей на медленное чтение».
Говорю же, Витгенштейн — муд по жизни.
Ну да мы отвлеклись — в предисловии к Zettel есть отличная заметка про «медленное чтение»:
При каждом удобном случае, в разговорах со своими друзьями и в дневниковых записях Витгенштейн просил и реального, и воображаемого собеседника, чтобы его читали медленно. Едва ли не самый верный способ отнестись пренебрежительно и отчаянно безразлично к сути работы Витгенштейна — это «бегло пробежаться по его текстам». Прислушаемся: «Иногда предложение можно понять, только если читаешь его в правильном темпе. Все мои предложения следует читать медленно».
Витгенштейн умышленно использовал несколько избыточную пунктуацию, синтаксически и интонационно притормаживающую взгляд, позволяющую читателю после каждого смыслового сегмента, после каждой нагруженной мыслительными оттенками фразы — остановиться и соотнестись со сказанным, согласиться с ним или опротестовать его. «Я на самом деле хочу замедлить скорость чтения посредством знаков препинания. Я хочу, чтобы меня читали медленно».
Это вот не «ну лень мне было по-человечески писать, это ж сложно», а «тяжелым языком я специально мотивировал людей на медленное чтение».
Говорю же, Витгенштейн — муд по жизни.
Когда нас спрашивают «а вот если все твои друзья с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь», ответ — скорее всего, да.
Это подтверждают социологические эксперименты. Например, пациент заходит в комнату ожидания врача. Каждую минуту или около того звенит колокольчик, и все люди в комнате встают и садятся обратно. Пациент ничего не понимает, но повторяет за ними. Еще пациент не знает, что все люди в комнате — актеры. Через какое-то время актеры расходятся, комната наполняется обычными людьми — которые встают и садятся каждый раз, когда звенит колокольчик, вообще не понимая, зачем они это делают.
Понимание этого феномена помогает как-то отнестись ко многим ритуалам, которые мы повторяем, далеко не всегда зная, зачем. Это заложено в нас эволюцией — в важных вопросиках мы скорее будем смотреть за тем, что делают окружающие нас люди, и имитировать их поведение, поэтому если эти люди выжили, уж наверное они что-то делают правильно. Проблема в том, что в неважных вопросиках мы тоже можем так делать, и, более того, люди, которые делают всякие вредные или опасные штуки, тоже вполне могут присутствовать внутри нашего окружения.
Это интересно вот почему: условно говоря, мы не можем решить, что повторять поведение других людей — глупо, потому что в среднем все так делают. Зато мы можем, понимая этот механизм, задуматься: люди будут повторюшничать; как мы можем убедиться, что те, кто делает какую-то опасную или вредную фигню, окажутся вне видимого круга людей, за которыми можно будет что-то сповторюшничать.
Рассуждая подобным образом, можно объяснить, например, кэнселинг как явление — речь не о том, чтобы сломать жизнь какому-то ну в среднем неплохому человеку, а исключительно лишь о том, чтобы убрать его из зоны видимости, тем самым снизив вероятность того, что люди будут повторять это поведение, и оно будет закрепляться в нашем обществе и вести нас к эволюционному схлопыванию. Еще этот путь избавит от карго-культа ритуалов, которые вроде бы все вокруг делают, значит, возможно, и мне тоже надо.
Спасибо, с вами была рубрика «пост, который был бы краше тиктоком» 🗿
Это подтверждают социологические эксперименты. Например, пациент заходит в комнату ожидания врача. Каждую минуту или около того звенит колокольчик, и все люди в комнате встают и садятся обратно. Пациент ничего не понимает, но повторяет за ними. Еще пациент не знает, что все люди в комнате — актеры. Через какое-то время актеры расходятся, комната наполняется обычными людьми — которые встают и садятся каждый раз, когда звенит колокольчик, вообще не понимая, зачем они это делают.
Понимание этого феномена помогает как-то отнестись ко многим ритуалам, которые мы повторяем, далеко не всегда зная, зачем. Это заложено в нас эволюцией — в важных вопросиках мы скорее будем смотреть за тем, что делают окружающие нас люди, и имитировать их поведение, поэтому если эти люди выжили, уж наверное они что-то делают правильно. Проблема в том, что в неважных вопросиках мы тоже можем так делать, и, более того, люди, которые делают всякие вредные или опасные штуки, тоже вполне могут присутствовать внутри нашего окружения.
Это интересно вот почему: условно говоря, мы не можем решить, что повторять поведение других людей — глупо, потому что в среднем все так делают. Зато мы можем, понимая этот механизм, задуматься: люди будут повторюшничать; как мы можем убедиться, что те, кто делает какую-то опасную или вредную фигню, окажутся вне видимого круга людей, за которыми можно будет что-то сповторюшничать.
Рассуждая подобным образом, можно объяснить, например, кэнселинг как явление — речь не о том, чтобы сломать жизнь какому-то ну в среднем неплохому человеку, а исключительно лишь о том, чтобы убрать его из зоны видимости, тем самым снизив вероятность того, что люди будут повторять это поведение, и оно будет закрепляться в нашем обществе и вести нас к эволюционному схлопыванию. Еще этот путь избавит от карго-культа ритуалов, которые вроде бы все вокруг делают, значит, возможно, и мне тоже надо.
Спасибо, с вами была рубрика «пост, который был бы краше тиктоком» 🗿
Посмотрела «Мейр из Исттауна» — семисерийный семейно-детективный триллер про угрюмую женщину-детектива из неблагополучной американской провинции.
Что мне понравилось больше всего — так это абсолютно искренняя, незамутненная и радостная вторичность. Все это уже где-то было? Ну да. Но это работает? ИМЕННО. Мы любим деньги? Мы любим деньги. Выпускай Кейт Уинслет.
Если вы тоже любите жанр «ОУ ВАУ семья страшнее любого маньяка», вы могли бы вместе со мной играть в «пей каждый раз, когда». Когда на экране появлялся Broadchurch или Happy Valley (этих, пожалуй, больше всех), когда хихикали из-за угла Гиллиан Флинн и The Killing. Ну в общем, вы поняли — достойный образчик жанра, по всем правилам жанра и сделанный.
Из зацепивших меня деталей:
👵 Женщины рулят нарративом, и это прекрасно. Собственно, почти ничего осмысленного мужчины в сериале вообще не делают. Они либо неприятные личности, либо подпирают дверной косяк. Финальная драма в конечном итоге куда трагичнее для женщины. Все героини в сериале (серьезно. абсолютно все. кроме пары подростков) — матери. Даже дочь главной героини, лесбиянка (казалось бы, хотя бы она в этом социально-неблагополучном аду не может залететь по глупости) — и та играет родительскую функцию в семье. У всех этих матерей — куча несчастья и тоски, отчаяния и горя, и ты думаешь только об одном, на самом деле — боже мой, насколько лучше бы всем было, если бы они не стали матерями, если бы не калечили (психологически или физически) вот прямо сейчас своих детей. Но мы имеем то, что имеем — некоторые матери выбираются куда-то туда, где им, возможно, будет чуть лучше, и где они, возможно, сделают что-то хорошее для своих детей. А может, и нет.
😒 Инструменты нагнетания ужаса остаются, в общем, прежними: голая убитая девочка в камнях; женщины, запертые на чердаке маньяком; священник-педофил, который любит маленьких девочек; мужчины, постоянно делающие какое-то насилие над женщинами, часто непредсказуемое, и тем более страшное. Попытка скрутить две жанровые структуры («ужасы семьи» и «история про маньяка») в жгут и показать, что они, в общем-то, одинаково страшны, на мой взгляд не очень удалась — маньяк, который годами держит женщин у себя на чердаке, все еще страшнее мужа-изменщика и брата-наркомана, спасибо-пожалуйста. Но в то же время этот штамп уже вызывает какое-то тупое безразличие — потому что ну правда, ребята, сколько же можно, почему снова женщина в холодильнике это ваш главный нарративный инструмент создания ужаса в сюжете.
✨ Кейт Уинслет чудесно хороша.
🏳️🌈 Я ждала гей-романа двух священников, но так и не дождалась.
🗽Большой Американский Текст (в любом медиуме) обволакивает и убаюкивает — с удивлением иногда вспоминаешь, что вся эта тема безвоздушных маленьких городов в России тоже есть, и она так-то пугающая до чертиков. Туристом, конечно, бывает интересно съездить, но нет.
Что мне понравилось больше всего — так это абсолютно искренняя, незамутненная и радостная вторичность. Все это уже где-то было? Ну да. Но это работает? ИМЕННО. Мы любим деньги? Мы любим деньги. Выпускай Кейт Уинслет.
Если вы тоже любите жанр «ОУ ВАУ семья страшнее любого маньяка», вы могли бы вместе со мной играть в «пей каждый раз, когда». Когда на экране появлялся Broadchurch или Happy Valley (этих, пожалуй, больше всех), когда хихикали из-за угла Гиллиан Флинн и The Killing. Ну в общем, вы поняли — достойный образчик жанра, по всем правилам жанра и сделанный.
Из зацепивших меня деталей:
👵 Женщины рулят нарративом, и это прекрасно. Собственно, почти ничего осмысленного мужчины в сериале вообще не делают. Они либо неприятные личности, либо подпирают дверной косяк. Финальная драма в конечном итоге куда трагичнее для женщины. Все героини в сериале (серьезно. абсолютно все. кроме пары подростков) — матери. Даже дочь главной героини, лесбиянка (казалось бы, хотя бы она в этом социально-неблагополучном аду не может залететь по глупости) — и та играет родительскую функцию в семье. У всех этих матерей — куча несчастья и тоски, отчаяния и горя, и ты думаешь только об одном, на самом деле — боже мой, насколько лучше бы всем было, если бы они не стали матерями, если бы не калечили (психологически или физически) вот прямо сейчас своих детей. Но мы имеем то, что имеем — некоторые матери выбираются куда-то туда, где им, возможно, будет чуть лучше, и где они, возможно, сделают что-то хорошее для своих детей. А может, и нет.
😒 Инструменты нагнетания ужаса остаются, в общем, прежними: голая убитая девочка в камнях; женщины, запертые на чердаке маньяком; священник-педофил, который любит маленьких девочек; мужчины, постоянно делающие какое-то насилие над женщинами, часто непредсказуемое, и тем более страшное. Попытка скрутить две жанровые структуры («ужасы семьи» и «история про маньяка») в жгут и показать, что они, в общем-то, одинаково страшны, на мой взгляд не очень удалась — маньяк, который годами держит женщин у себя на чердаке, все еще страшнее мужа-изменщика и брата-наркомана, спасибо-пожалуйста. Но в то же время этот штамп уже вызывает какое-то тупое безразличие — потому что ну правда, ребята, сколько же можно, почему снова женщина в холодильнике это ваш главный нарративный инструмент создания ужаса в сюжете.
✨ Кейт Уинслет чудесно хороша.
🏳️🌈 Я ждала гей-романа двух священников, но так и не дождалась.
🗽Большой Американский Текст (в любом медиуме) обволакивает и убаюкивает — с удивлением иногда вспоминаешь, что вся эта тема безвоздушных маленьких городов в России тоже есть, и она так-то пугающая до чертиков. Туристом, конечно, бывает интересно съездить, но нет.
Судя по всему, я не очень люблю «человечные» истории про жизнь в постапокалипсисе. Я люблю фэнтезийные истории, иронические истории, оторванные на всю башку истории, но вот эти эмоционально-семейно-отношенческие — похоже, нет.
Потому что ну конечно ключевая эмоция внутри сюжет про постапокалипсис — это отчаяние. И когда к отчаянию прибавляется что-то еще (отчаяние + полная фантастика, отчаяние + мета мета пост пост, отчаяние плюс безумие) — это становится интересным и завлекающим, потому что постапокалипсис вдобавок ко всему снимает любые границы и люблю ответственность за достоверность. А когда этого (+) нет, остаётся только отчаяние, и оно (внезапно! почему-то!) должно стать достоверным, ведь больше ничего и нет — вот чтобы до мельчайших деталей отчаяние человеческое выливалось с экрана (любого медиума) прямо тебе в душу.
Это я начала смотреть Sweet Tooth — сериал Netflix про мальчика-оленёнка в мире, выкошенном странным вирусом (что? да. думаю, too soon все-таки такое выпускать в 2021), в котором начали рождаться дети-животные. Метафора «человечество охуело на все деньги и засрало природу, поэтому природа удаляет человечество и создает новых, более приятных людей» шита толстенными белыми нитками, но иногда, возможно, в поверхностной метафоре и нет ничего плохого.
Что реально плохо в Sweet Tooth — так это какая-то заунывная, медленная, отчаянная (да-да) возня с пустотой. Потому что с одной стороны это сериал про любопытного мальчика-колокольчика, который все свои десять лет прожил в лесу и не знал человеческой жестокости, и поэтому он на все смотрит с радостью первооткрывателя, а с другой — про эту самую человеческую жестокость, которая напоминает, что в целом никакое открытие в мире, где еще не все люди вымерли, не является позитивным.
Вот и получается: смотришь, как люди вроде бы едва-едва выживают, и все это так трушно и эмоционально, и на душе от этого становится так мутно и уныло, и при этом зачем выживают-то — не до конца понятно, ведь никто не получает удовольствия от этого процесса, ни созерцательного, ни духовного, ни безумного, никакого. Короче говоря, уж не знаю, специально у них это получилось или нет, но ощущение экзистенциального дна создается: сидишь со своим электричеством, интернетом и относительной физической безопасностью и думаешь — если уж в комфорте живется так невнятно, но в дискомфорте этом вечном все совсем уж бессмысленно.
В общем, как я начала смотреть Sweet Tooth, так и не закончу, видимо.
Потому что ну конечно ключевая эмоция внутри сюжет про постапокалипсис — это отчаяние. И когда к отчаянию прибавляется что-то еще (отчаяние + полная фантастика, отчаяние + мета мета пост пост, отчаяние плюс безумие) — это становится интересным и завлекающим, потому что постапокалипсис вдобавок ко всему снимает любые границы и люблю ответственность за достоверность. А когда этого (+) нет, остаётся только отчаяние, и оно (внезапно! почему-то!) должно стать достоверным, ведь больше ничего и нет — вот чтобы до мельчайших деталей отчаяние человеческое выливалось с экрана (любого медиума) прямо тебе в душу.
Это я начала смотреть Sweet Tooth — сериал Netflix про мальчика-оленёнка в мире, выкошенном странным вирусом (что? да. думаю, too soon все-таки такое выпускать в 2021), в котором начали рождаться дети-животные. Метафора «человечество охуело на все деньги и засрало природу, поэтому природа удаляет человечество и создает новых, более приятных людей» шита толстенными белыми нитками, но иногда, возможно, в поверхностной метафоре и нет ничего плохого.
Что реально плохо в Sweet Tooth — так это какая-то заунывная, медленная, отчаянная (да-да) возня с пустотой. Потому что с одной стороны это сериал про любопытного мальчика-колокольчика, который все свои десять лет прожил в лесу и не знал человеческой жестокости, и поэтому он на все смотрит с радостью первооткрывателя, а с другой — про эту самую человеческую жестокость, которая напоминает, что в целом никакое открытие в мире, где еще не все люди вымерли, не является позитивным.
Вот и получается: смотришь, как люди вроде бы едва-едва выживают, и все это так трушно и эмоционально, и на душе от этого становится так мутно и уныло, и при этом зачем выживают-то — не до конца понятно, ведь никто не получает удовольствия от этого процесса, ни созерцательного, ни духовного, ни безумного, никакого. Короче говоря, уж не знаю, специально у них это получилось или нет, но ощущение экзистенциального дна создается: сидишь со своим электричеством, интернетом и относительной физической безопасностью и думаешь — если уж в комфорте живется так невнятно, но в дискомфорте этом вечном все совсем уж бессмысленно.
В общем, как я начала смотреть Sweet Tooth, так и не закончу, видимо.
С огромной радостью и за один присест посмотрела «Хитрости» (есть на Амедиатеке).
Сериал про двух женщин-комиков: богатую, успешную и древнюю Дебору Вэнс, и Аву — молодую, бедную и очень много о себе думающую (ну, как обычно). Волею судеб (тм) им приходится работать вместе: первая пытается остаться «на волне» и найти новую аудиторию, вторую закенселили за тупой твит, и поэтому ей нужна хоть какая-то работа. В итоге зумерка пытается понять бумерку и (немножко) наоборот — отличная и своевременная история в мире, где всем отчаянно не хватает этого вот взаимопонимания, и где оно кажется чуть ли не невозможным.
В сериале с такой завязкой хватает моментов, когда сюжет как будто бы тащит героинь за волосы в определенном направлении, но это как-то легко прощаешь, потому что ну очень хочется, чтобы все это не заканчивалось.
В «Хитростях» много хорошего юмора и чутких наблюдений за людьми и процессами (например, мы довольно быстро поймем, что Аву не зовут никуда работать не из-за твита, а просто потому что она сама по себе неприятная). Разумеется, из-за этого живого и веселого фасада регулярно прямо в печень прилетают какие-то душераздирающие истории (только сев писать этот пост, я осознала, что в этом «смешном сериале про женщин-комиков» два персонажа вообще-то умирают, и довольно трагично). Прием «Они такие разные, но все-таки» работает как всегда замечательно — какие-то моменты прямо-таки граничат по силе с ведерком инсайтов: например, сцена, где героини по-разному начинают день (Дебора в красивых интерьерах ебашит с пяти утра, а миллениалка Ава выползает из смятых простыней в одиннадцать и идет завтракать в столовку), и вообще вся ветка с менеджером богатой женщины, для которого отношения с работой — главные отношения в его жизни.
Все вместе это работает очень хорошо, и отлипнуть это экрана вообще не представляется возможным. Джин Смарт в роли Дэборы сияет божественным светом.
Собственно, тут даже ничего и не добавишь: это просто хорошее телевидение, эмпатичное и как будто бы заинтересованное чем-то большим, чем оно само, побольше бы такого.
(Сама себя удивила и написала такой короткий пост, раз уж так вышло, напоминаю, что поддержать канал можно тут).
Сериал про двух женщин-комиков: богатую, успешную и древнюю Дебору Вэнс, и Аву — молодую, бедную и очень много о себе думающую (ну, как обычно). Волею судеб (тм) им приходится работать вместе: первая пытается остаться «на волне» и найти новую аудиторию, вторую закенселили за тупой твит, и поэтому ей нужна хоть какая-то работа. В итоге зумерка пытается понять бумерку и (немножко) наоборот — отличная и своевременная история в мире, где всем отчаянно не хватает этого вот взаимопонимания, и где оно кажется чуть ли не невозможным.
В сериале с такой завязкой хватает моментов, когда сюжет как будто бы тащит героинь за волосы в определенном направлении, но это как-то легко прощаешь, потому что ну очень хочется, чтобы все это не заканчивалось.
В «Хитростях» много хорошего юмора и чутких наблюдений за людьми и процессами (например, мы довольно быстро поймем, что Аву не зовут никуда работать не из-за твита, а просто потому что она сама по себе неприятная). Разумеется, из-за этого живого и веселого фасада регулярно прямо в печень прилетают какие-то душераздирающие истории (только сев писать этот пост, я осознала, что в этом «смешном сериале про женщин-комиков» два персонажа вообще-то умирают, и довольно трагично). Прием «Они такие разные, но все-таки» работает как всегда замечательно — какие-то моменты прямо-таки граничат по силе с ведерком инсайтов: например, сцена, где героини по-разному начинают день (Дебора в красивых интерьерах ебашит с пяти утра, а миллениалка Ава выползает из смятых простыней в одиннадцать и идет завтракать в столовку), и вообще вся ветка с менеджером богатой женщины, для которого отношения с работой — главные отношения в его жизни.
Все вместе это работает очень хорошо, и отлипнуть это экрана вообще не представляется возможным. Джин Смарт в роли Дэборы сияет божественным светом.
Собственно, тут даже ничего и не добавишь: это просто хорошее телевидение, эмпатичное и как будто бы заинтересованное чем-то большим, чем оно само, побольше бы такого.
(Сама себя удивила и написала такой короткий пост, раз уж так вышло, напоминаю, что поддержать канал можно тут).
YouTube
HACKS Trailer (2021) Jean Smart, Comedy
HACKS Trailer (2021) Jean Smart, Comedy Series
© 2021 - HBO Max
© 2021 - HBO Max
Идеи Сонтаг не понравились как консерваторам, так и некоторым прогрессивным мыслителям. Сторонники традиционных иерархий твердили, что в случае принятия ее идей «моральный коллапс нашего общества неизбежен». А один из главных критических философов ХХ века Герберт Маркузе не оценил внимание Сонтаг к массовой культуре. Он сетовал, что она «может создать теорию из картофельных очистков». (Из статьи в Bookmate Journal)
Есть большой соблазн переименовать канал в «Теории из картофельных очистков», спасибо-пожалуйста!
Есть большой соблазн переименовать канал в «Теории из картофельных очистков», спасибо-пожалуйста!
Решила почитать классику жанровой лесбийской литературы — роман Шеридана Ле Фаню «Кармилла». Готические особняки, графы и графини, бледные лица и алые губы, женщины-вампиры, запретная страсть и вот это вот всё:
Лора с отцом мирно живут в роскошном замке в Штирии, среди живописных австрийских пейзажей. Ничто не тревожит их покой. Тихая уединенная жизнь без суеты — вот все, о чем мечтала семья. Но однажды в замке появляется таинственная незнакомка. Она невероятно красива, а в глазах ее будто пляшут языки темного пламени. Гостья назвалась Кармиллой, графиней Карнштейн. Между Лорой и молодой графиней завязывается дружба. Со временем отец замечает, что Лора теряет жизненные силы, ее словно сжигает изнутри странная болезнь. Кармилла не отходит от подруги. Но безутешный отец с каждым днем все пристальнее присматривается к загадочной графине, принесшей горе в их дом… Кто она такая? Какую жуткую тайну хранит этот томный взгляд? И о чем молчат алые, будто от крови, уста?..
Простое человеческое скандально-наивное чтиво, понимаете? А знаете, кто издал книжку на русском языке? Украинское издательство «Клуб семейного досуга»! Нормальное такое чтение в семье за вечерним чаем с печеньками:
Иногда, после часа апатии, моя странная и красивая приятельница брала мою руку и снова, и снова нежно пожимала ее, слегка зардевшись, устремляла на меня томный и горящий взгляд и дышала так часто, что ее платье вздымалось и опадало в такт бурному дыханию. Это походило на пыл влюбленного; это приводило меня в смущение; это было отвратительно, и все же этому невозможно было противиться. Пожирая меня глазами, она привлекала меня к себе, и ее жаркие губы блуждали по моей щеке.
С другой стороны, это и есть самая близкая к реальности репрезентация моего семейного досуга...
Лора с отцом мирно живут в роскошном замке в Штирии, среди живописных австрийских пейзажей. Ничто не тревожит их покой. Тихая уединенная жизнь без суеты — вот все, о чем мечтала семья. Но однажды в замке появляется таинственная незнакомка. Она невероятно красива, а в глазах ее будто пляшут языки темного пламени. Гостья назвалась Кармиллой, графиней Карнштейн. Между Лорой и молодой графиней завязывается дружба. Со временем отец замечает, что Лора теряет жизненные силы, ее словно сжигает изнутри странная болезнь. Кармилла не отходит от подруги. Но безутешный отец с каждым днем все пристальнее присматривается к загадочной графине, принесшей горе в их дом… Кто она такая? Какую жуткую тайну хранит этот томный взгляд? И о чем молчат алые, будто от крови, уста?..
Простое человеческое скандально-наивное чтиво, понимаете? А знаете, кто издал книжку на русском языке? Украинское издательство «Клуб семейного досуга»! Нормальное такое чтение в семье за вечерним чаем с печеньками:
Иногда, после часа апатии, моя странная и красивая приятельница брала мою руку и снова, и снова нежно пожимала ее, слегка зардевшись, устремляла на меня томный и горящий взгляд и дышала так часто, что ее платье вздымалось и опадало в такт бурному дыханию. Это походило на пыл влюбленного; это приводило меня в смущение; это было отвратительно, и все же этому невозможно было противиться. Пожирая меня глазами, она привлекала меня к себе, и ее жаркие губы блуждали по моей щеке.
С другой стороны, это и есть самая близкая к реальности репрезентация моего семейного досуга...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Запустился важный для меня проект — пока это опен-колл квир-текстов, потом будет диджитал-зин с квир-текстами, еще чуть позже — скажем, печатный проект с квир-текстами, а потом хоп-хоп-хоп, и целая литературная квир-империя с сообществом квир-авторов. Ну а че.
Forwarded from Лесбийское лобби (Ekaterina Kudryavtseva)
🍺 Мы с Машей любим читать и писать квир-тексты. И мы знаем, что таких, как мы — много. Поэтому мы решили сделать литературный квир-зин. Логично? Логично.
Совместно с «Открытыми» мы запустили первый опен-колл нашего зина «На себя». Пока что это будет диджитал-зин, но мы не исключаем в будущем и печатные выпуски.
Мы уверены, что писать квир-сюжеты важно, как и признавать ярлык «ЛГБТК-роман или рассказ». Наш опыт годами исключался из категории «нормальности». И мы хотим попробовать это исправить.
Тема опен-колла — «Новый мир, те же люди». Мир меняется очень быстро; люди меняются очень медленно. Так ли это? Мы хотим собрать рассказы и эссе про осмысление и переживание перемен: внутри ЛГБТК-сообщества, общества, культуры, семьи или просто внутри жизненного опыта одного конкретного человека.
Принимаем прозу и «всякие гибридные жанры» (тм) на русском языке, не публиковавшиеся ранее. Объем: до 20 тыс знаков. Дедлайн: 6 августа.
Свои тексты присылайте на почту: [email protected]. В письме укажите имя и пару слов о себе.
Автор_ки отобранных текстов смогут отшлифовать свои работы вместе с нашими прекрасными ридерками/редакторками: Светой Лукьяновой (соосновательницей WLAG в России и No Kidding) и Полиной Рыжовой (бывшей редакторкой «Полки» и продюсерки Individuum).
💖 Мы будем рады вашим донатам — проект, как водится, некоммерческий, а мы хотим заплатить команде (ридеркам, иллюстратор_кам и тд) и в идеале автор_кам принятых текстов. Через некоторое время запустим Патреон с контентом и всякими полезностями для автор_ок квир-текстов (ну и их аудитории).
Планов громадье ✨🏳️🌈
Совместно с «Открытыми» мы запустили первый опен-колл нашего зина «На себя». Пока что это будет диджитал-зин, но мы не исключаем в будущем и печатные выпуски.
Мы уверены, что писать квир-сюжеты важно, как и признавать ярлык «ЛГБТК-роман или рассказ». Наш опыт годами исключался из категории «нормальности». И мы хотим попробовать это исправить.
Тема опен-колла — «Новый мир, те же люди». Мир меняется очень быстро; люди меняются очень медленно. Так ли это? Мы хотим собрать рассказы и эссе про осмысление и переживание перемен: внутри ЛГБТК-сообщества, общества, культуры, семьи или просто внутри жизненного опыта одного конкретного человека.
Принимаем прозу и «всякие гибридные жанры» (тм) на русском языке, не публиковавшиеся ранее. Объем: до 20 тыс знаков. Дедлайн: 6 августа.
Свои тексты присылайте на почту: [email protected]. В письме укажите имя и пару слов о себе.
Автор_ки отобранных текстов смогут отшлифовать свои работы вместе с нашими прекрасными ридерками/редакторками: Светой Лукьяновой (соосновательницей WLAG в России и No Kidding) и Полиной Рыжовой (бывшей редакторкой «Полки» и продюсерки Individuum).
💖 Мы будем рады вашим донатам — проект, как водится, некоммерческий, а мы хотим заплатить команде (ридеркам, иллюстратор_кам и тд) и в идеале автор_кам принятых текстов. Через некоторое время запустим Патреон с контентом и всякими полезностями для автор_ок квир-текстов (ну и их аудитории).
Планов громадье ✨🏳️🌈
Telegram
Открытые
«Открытые» запускают литературный квир-журнал «На себя» и объявляют первый опен колл!
⠀
🌈 Мы уверены, что писать квир-сюжеты важно, как и признавать ярлык «ЛГБТК-роман или рассказ». Наш опыт годами исключался из категории «нормальности». И мы хотим попробовать…
⠀
🌈 Мы уверены, что писать квир-сюжеты важно, как и признавать ярлык «ЛГБТК-роман или рассказ». Наш опыт годами исключался из категории «нормальности». И мы хотим попробовать…
«Жизнь без речи и поступка...оказалась бы в буквальном смысле уже не жизнь, но затянувшееся на всю длину человеческой жизни умирание».
— Ханна Арендт, «Vita Activa, или О деятельной жизни»
Это была рубрика «рандомная Арендт для ваших экзистенциальных переживаний», не благодарите.
— Ханна Арендт, «Vita Activa, или О деятельной жизни»
Это была рубрика «рандомная Арендт для ваших экзистенциальных переживаний», не благодарите.
Недавно записала два подкаста, оба связанные с литературой и текстиками.
Первый — премьерный выпуск подкаста фестиваля «Бок о Бок» «Квирь культуру»: в нем поговорила с Оксаной Васякиной (поэтесса и писательница, авторка романа «Рана», про который много где сейчас пишут, и не без причины). Задавала вопросы, которые очень волнуют меня лично: о писательской идентичности; о пути к ✨величию✨ русскоязычной писательницы-лесбиянки; о важности и роли автофикшена — в том числе в дискуссиях с людьми, с которыми у вас может быть мало общего; о том, что нарратив — это необязательно конфликт, «путь героя», копье и прочее традиционно мужское. Разговор вышел хороший и какой-то богатый на инсайты, поэтому — советую.
Второй — финальный выпуск второго сезона нашего любимого и родного «Нараспашку»: поговорили об сексе в текстах, об эротических рассказах и фанфиках, об автофикшене и секстинге и о том, можно ли флиртовать с помощью книг (спойлер: да, и весьма успешно). Тут все веселее и развязнее, а еще в выпуске звучат отрывки текстов Лизы Неклессы, Максима Сонина и (да-да) Оксаны Васякиной. Советую вдвойне 🏳️🌈
Первый — премьерный выпуск подкаста фестиваля «Бок о Бок» «Квирь культуру»: в нем поговорила с Оксаной Васякиной (поэтесса и писательница, авторка романа «Рана», про который много где сейчас пишут, и не без причины). Задавала вопросы, которые очень волнуют меня лично: о писательской идентичности; о пути к ✨величию✨ русскоязычной писательницы-лесбиянки; о важности и роли автофикшена — в том числе в дискуссиях с людьми, с которыми у вас может быть мало общего; о том, что нарратив — это необязательно конфликт, «путь героя», копье и прочее традиционно мужское. Разговор вышел хороший и какой-то богатый на инсайты, поэтому — советую.
Второй — финальный выпуск второго сезона нашего любимого и родного «Нараспашку»: поговорили об сексе в текстах, об эротических рассказах и фанфиках, об автофикшене и секстинге и о том, можно ли флиртовать с помощью книг (спойлер: да, и весьма успешно). Тут все веселее и развязнее, а еще в выпуске звучат отрывки текстов Лизы Неклессы, Максима Сонина и (да-да) Оксаны Васякиной. Советую вдвойне 🏳️🌈
Начала читать книжку Насти Травкиной «Homo Mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». Не могу сказать, что книжку я бы порекомендовала (начала читать утром — уже 20% как с куста, хотя тема-то непростая. Почему-то с «Туннелем Эго» Томаса Метцингера, например, такой хуйни уже два года не происходит), но мне понравился раздел про возраст — а именно про то, что большинство научных открытий и прочих замечательных вещей люди делают в основном в относительно зрелом возрасте, а все истории про Моцартов и Рембо это скорее «ошибка выжившего», то есть событие преимущественно либо из ряда вон выходящее, либо как-то обусловленное контекстом конкретного поля деятельности. (Например, в математике проще совершить открытие в молодости, потому что не нужно загружать себе в мозг Все Исследования Прошлого — нужно просто свежим взглядом посмотреть на проблему и написать абзац доказательства, всё. Это тебе не диссертация на восемьсот страниц в гуманитарных науках). Иными словами, никогда и ничего не поздно, как бы наша бедная психика не старалась нас убедить в обратном.
Но вообще слово «поздно» ужасно интересное. Кроме тех случаев, когда мы опаздываем к какому-то четко установленному сроку, слово «поздно» особо ничего не значит.
В этом контексте я еще люблю историю про Уолта Диснея, который в 22 года думал, что в мультипликационном бизнесе ему нечего ловить, ведь там уже все у всех на мази. Он боялся, что врываться в анимацию уже слишком поздно. Да, это было в 1923-м году.
Мне кажется, это прямо отдельный вид когнитивного искажения: считать, что мы живем в некоторое «слишком позднее» время относительно любого процесса. Поздний капитализм. Поздний модерн. Планету запустили, интернет просрали, деньги бессмысленны, гендер осталось добить — и все. Мы почему-то всегда живем прямо вот у самого краешка любого процесса или состояния, и оно вот-вот уже почти закончилось.
Но на самом деле мы понятия не имеем о том, а) где какая-либо вещь началась, только в общих чертах и б) где какая-либо вещь закончится, ни в каких чертах. Вполне вероятно, что мы живем в раннюю интернет-эпоху, среднюю климатическую эпоху, а наша гендерная система — это вообще темные века. Кто знает?
Что, конечно, позиция «слишком поздно» позволяет сделать — так это снять с себя ответственность и отказаться от агентности. Что в случае с общемировыми штуками («поздний капитализм уже убил планету»), так и с какими-то своими персональными («ну кто в 2021 запускает свою линию дизайнерской лапши» или «я тридцатилетний водитель автобуса, какая генная инженерия»). Агентность — важнее всего на свете, в любом возрасте, в любом контексте.
Это душеспасительный пост или нет? Я сама не очень поняла.
Но вообще слово «поздно» ужасно интересное. Кроме тех случаев, когда мы опаздываем к какому-то четко установленному сроку, слово «поздно» особо ничего не значит.
В этом контексте я еще люблю историю про Уолта Диснея, который в 22 года думал, что в мультипликационном бизнесе ему нечего ловить, ведь там уже все у всех на мази. Он боялся, что врываться в анимацию уже слишком поздно. Да, это было в 1923-м году.
Мне кажется, это прямо отдельный вид когнитивного искажения: считать, что мы живем в некоторое «слишком позднее» время относительно любого процесса. Поздний капитализм. Поздний модерн. Планету запустили, интернет просрали, деньги бессмысленны, гендер осталось добить — и все. Мы почему-то всегда живем прямо вот у самого краешка любого процесса или состояния, и оно вот-вот уже почти закончилось.
Но на самом деле мы понятия не имеем о том, а) где какая-либо вещь началась, только в общих чертах и б) где какая-либо вещь закончится, ни в каких чертах. Вполне вероятно, что мы живем в раннюю интернет-эпоху, среднюю климатическую эпоху, а наша гендерная система — это вообще темные века. Кто знает?
Что, конечно, позиция «слишком поздно» позволяет сделать — так это снять с себя ответственность и отказаться от агентности. Что в случае с общемировыми штуками («поздний капитализм уже убил планету»), так и с какими-то своими персональными («ну кто в 2021 запускает свою линию дизайнерской лапши» или «я тридцатилетний водитель автобуса, какая генная инженерия»). Агентность — важнее всего на свете, в любом возрасте, в любом контексте.
Это душеспасительный пост или нет? Я сама не очень поняла.
Над вопросом о том, как оценивать книги, лежат пластами тела литературных критиков самых разных масштабов. Читаю одну заумную рассылку про антибиблиотеки, и там, стало быть, герой проходит все стадии принятия, рассказывая, по каким критериям он бы оценивал книжки, если бы у него была (гипотетическая) задача сделать книжное приложение, где можно ставить не одну оценку, а несколько.
Сначала он составляет такой список:
Сюжет, Мастерство, Веселье, Красота, Качество информации, Плотность информации, Новизна, Отдельность (в смысле «отличается от всего остального»), Соответствие, Воздействие, Реализм, Успех, Правда, Ясность, Погружение, Запоминаемость, Резонанс, Вдохновение, Вневременность
(Plot, Craft, Fun, Beauty, Information quality, Information density, Novelty, Distinctness, Fit, Impact, Realism, Success, Truth, Clarity, Immersiveness, Memorability, Resonance, Inspiration, Timelessness)
Этот набор неуниверсален, потому то некоторые метрики относятся только к фикшену, некоторые относятся только к самой книжке, а другие базируются на более широком контексте и персональной позиции читателя. А что-то и вовсе невозможно измерить в цифрах (Вневременность? Это что?).
Потом он делает еще подход и составляет шорт-лист:
Мастерство (качество текста), Веселье (насколько книга приносит удовольствие), Красота (эстетика), Информативность (качество и истинность), Отдельность (новизна и уникальность), Персональные оценки (воздействие? запоминаемость? некий х-фактор).
Craft (writing quality), Fun (enjoyability), Beauty (aesthetics) Information (quality and truth value), Distinctness (novelty and uniqueness), Personal (impact? memorability? kind of an x-factor)
Потом вылезли еще варианты:
Изобретательность, Игривость, Проницательность, Экономичность, Глубина, Экспансивность, Цитируемость, Вирусность, Связанность, Адаптивность…
(Cleverness, Playfulness, Perceptiveness, Economy, Profundity, Expansiveness, Quotability, Virality, Connectedness/Entanglement, Adaptability…)
Если вы думаете, что в конце поста будет какой-то Большой Ответ на Большой Вопрос (как думала я, читая эту рассылку), то спешу вас расстроить — нифига подобного. Автор приходит к тому, что вполне вероятно, это невозможно универсализировать, и в этой невозможности кроется какая-то возможность..........
Но если отойти от булшит-бинго, то:
🤷♀️ Понятие «литературного канона» сформировалось на основе очень ограниченного количества метрик, почти всех из которых — не только неуниверсальны, но и, напротив, зависят от персонального опыта и контекста читателя.
📚 Все «мастриды» и «книги, которые обязательно нужно прочитать до тридцати» — тоже супер-ненадежные ярлыки, потому что они не учитывают ВСЕГО, а учитывают, напротив, только узко-специализированные критерии.
🗿 Я поняла, что мне строго неинтересны почти все «контекстуальные» метрики, зато мое сердце трепещет, когда книжки Изобретательны, Красивы, Игривы и Проницательны. Это, и не спущенная в унитаз фемоптика. В целом я человек простой, как оказалось.
Вот и все инсайты.
Сначала он составляет такой список:
Сюжет, Мастерство, Веселье, Красота, Качество информации, Плотность информации, Новизна, Отдельность (в смысле «отличается от всего остального»), Соответствие, Воздействие, Реализм, Успех, Правда, Ясность, Погружение, Запоминаемость, Резонанс, Вдохновение, Вневременность
(Plot, Craft, Fun, Beauty, Information quality, Information density, Novelty, Distinctness, Fit, Impact, Realism, Success, Truth, Clarity, Immersiveness, Memorability, Resonance, Inspiration, Timelessness)
Этот набор неуниверсален, потому то некоторые метрики относятся только к фикшену, некоторые относятся только к самой книжке, а другие базируются на более широком контексте и персональной позиции читателя. А что-то и вовсе невозможно измерить в цифрах (Вневременность? Это что?).
Потом он делает еще подход и составляет шорт-лист:
Мастерство (качество текста), Веселье (насколько книга приносит удовольствие), Красота (эстетика), Информативность (качество и истинность), Отдельность (новизна и уникальность), Персональные оценки (воздействие? запоминаемость? некий х-фактор).
Craft (writing quality), Fun (enjoyability), Beauty (aesthetics) Information (quality and truth value), Distinctness (novelty and uniqueness), Personal (impact? memorability? kind of an x-factor)
Потом вылезли еще варианты:
Изобретательность, Игривость, Проницательность, Экономичность, Глубина, Экспансивность, Цитируемость, Вирусность, Связанность, Адаптивность…
(Cleverness, Playfulness, Perceptiveness, Economy, Profundity, Expansiveness, Quotability, Virality, Connectedness/Entanglement, Adaptability…)
Если вы думаете, что в конце поста будет какой-то Большой Ответ на Большой Вопрос (как думала я, читая эту рассылку), то спешу вас расстроить — нифига подобного. Автор приходит к тому, что вполне вероятно, это невозможно универсализировать, и в этой невозможности кроется какая-то возможность..........
Но если отойти от булшит-бинго, то:
🤷♀️ Понятие «литературного канона» сформировалось на основе очень ограниченного количества метрик, почти всех из которых — не только неуниверсальны, но и, напротив, зависят от персонального опыта и контекста читателя.
📚 Все «мастриды» и «книги, которые обязательно нужно прочитать до тридцати» — тоже супер-ненадежные ярлыки, потому что они не учитывают ВСЕГО, а учитывают, напротив, только узко-специализированные критерии.
🗿 Я поняла, что мне строго неинтересны почти все «контекстуальные» метрики, зато мое сердце трепещет, когда книжки Изобретательны, Красивы, Игривы и Проницательны. Это, и не спущенная в унитаз фемоптика. В целом я человек простой, как оказалось.
Вот и все инсайты.
Наш опен-колл постепенно заканчивается, а я вот тут рассказываю, что сама люблю в текстах. Список далеко не исчерпывающий, но я сама очень повеселилась, пока его писала.
Forwarded from Нараспашку
Послезавтра последний день, когда мы принимаем тексты на опен колл! Срочно дописывайте и присылайте эссе и рассказы на [email protected].
За что те или иные тексты любит Катя Кудрявцева, соведущая подкаста «Нараспашку» и редакторка зина «На себя».
🌈 Искренние чувства. Люблю, когда текст цепляет чем-то честным: иногда одной меткой фразы достаточно.
🌈 Отсутствие лишних деталей. Избыточные описания локаций, предметов и людей пролетают мимо меня.
🌈 Юмор. Огромная удача, если во время чтения пару раз резко выдыхаешь через нос. Иронию и самоиронию я вообще ОБОЖАЮ.
🌈 Обман ожиданий, жанровые перевертыши, плот твисты. Если только это сделано «честно»: у читателя есть ключи к пониманию происходящего (обратная ситуация с «роялем в кустах» — big no-no).
🌈 Магический реализм: когда в пространстве текста все работает вроде как в реальности, но есть маленький нюанс.
🌈 Люблю, когда всем или очень грустно, или очень смешно.
И бонус:
🌈 Неоднозначные концовки.
🌈 Ненадежные рассказчи_цы.
🌈 Цитаты из Вирджинии Вулф.
Подробности нашего опен колла здесь!
За что те или иные тексты любит Катя Кудрявцева, соведущая подкаста «Нараспашку» и редакторка зина «На себя».
🌈 Искренние чувства. Люблю, когда текст цепляет чем-то честным: иногда одной меткой фразы достаточно.
🌈 Отсутствие лишних деталей. Избыточные описания локаций, предметов и людей пролетают мимо меня.
🌈 Юмор. Огромная удача, если во время чтения пару раз резко выдыхаешь через нос. Иронию и самоиронию я вообще ОБОЖАЮ.
🌈 Обман ожиданий, жанровые перевертыши, плот твисты. Если только это сделано «честно»: у читателя есть ключи к пониманию происходящего (обратная ситуация с «роялем в кустах» — big no-no).
🌈 Магический реализм: когда в пространстве текста все работает вроде как в реальности, но есть маленький нюанс.
🌈 Люблю, когда всем или очень грустно, или очень смешно.
И бонус:
🌈 Неоднозначные концовки.
🌈 Ненадежные рассказчи_цы.
🌈 Цитаты из Вирджинии Вулф.
Подробности нашего опен колла здесь!
Telegram
Открытые
«Открытые» запускают литературный квир-журнал «На себя» и объявляют первый опен колл!
⠀
🌈 Мы уверены, что писать квир-сюжеты важно, как и признавать ярлык «ЛГБТК-роман или рассказ». Наш опыт годами исключался из категории «нормальности». И мы хотим попробовать…
⠀
🌈 Мы уверены, что писать квир-сюжеты важно, как и признавать ярлык «ЛГБТК-роман или рассказ». Наш опыт годами исключался из категории «нормальности». И мы хотим попробовать…