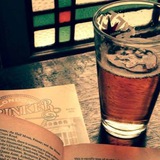В коучинге, терапии, #консультирование — и иных форматах, предполагающих некоторое изменение жизни, — самый актуальный вопрос: и что? Ну, вот я кое-что про себя поняла. Я увидела, какие убеждения меня ограничивают, или разглядела свой коммуникативный паттерн, или заметила, как я действую в стрессовых ситуациях. Что теперь? Как мне это изменить? Куда бежать и что делать, чтобы это понимание не осталось просто славным инсайтом и вдохновенным постом в инстаграме, а действительно как-то повлияло на мою жизнь?
Вопрос супер-валидный, он меня тоже часто занимает. Ответ на него до обидного non-eventful: делать особо ничего не надо. Ну то есть, можно, конечно: можно договориться про план, маленькие шажочки, практики или даже домашку. Но основной эффект будет чаще всего иметь не это — изменения будут происходить на фоне, почти незаметно, ровно до тех пор, пока вдруг не покажется абсолютно естественным делать что-то «по-новому» и порой даже будет странно себе представить — а как это вообще, я раньше по-другому делала/думала/чувствовала/принимала решения? Вау.
Срабатывает эффект наблюдателя, из которого мы гуманитарным образом вытаскиваем весь hard science и оставляем только базовый принцип: простое наблюдение явления неизбежно изменяет его. В физике это может сбивать точность вычислений (например, нельзя измерить давление в шинах, не спустив немного воздуха при подключении манометра). Но для нас просто важна эта связь между некоторым процессом (мыслительным, эмоциональным, деятельным), и позицией наблюдателя, которую мы можем по отношению к нему занять. Просто наблюдая за штукой, обращая на неё «прожектор внимания», держа её в фокусе, не забывая про неё и не лакируя её как часть «нормы», не достойной внимания — мы меняем штуку. Вот так.
Более занудное объяснение такое: так мы смещаем фокус внимания с внешних условий и обстоятельств на конкретные действия конкретного исполнителя (в данном случае, себя). Как исполнители мы склонны рассуждать о причинах нашего поведения и о том, какие внешние причины, люди или триггеры нас «вывели» на эти действия, и эти причины (на которые, кстати, мы почти никогда не можем повлиять) часто волнуют нас сильно больше, чем наше конкретное поведение в конкретный момент. «Я это сделал, потому что мама меня не любила вот этими шестнадцатью способами». Но наблюдатели не знают (и не могут знать) причин поступков — они видят только сами поступки. Меняя роль исполнителя (я это сделал потому что) на роль наблюдателя (я вижу, что сделал вот это), мы смещаем фокус внимания и можем в том числе переоценить собственное поведение. Например, выбрав зоной нашего внимания баланс работы и отдыха мы лучше замечаем, какие решения мы принимаем и в каких ситуациях: скажем, не «я постоянно работаю по вечерам, потому что кроме меня этого никто не сделает», а «когда я оказываюсь перед выбором — потратить час на отдых или на работу, я всегда выбираю работу». Наблюдая за этой точкой выбора, мы получаем возможность, например, выбрать что-то другое — и, опять же, посмотреть, что будет.
(#буддизм, кстати, говорит нам похожую вещь: Будда так продвинулся в просвещении, наблюдая за своим умом; медитация (некоторые её формы) предполагают наблюдение за своим умом и возникающими в нем видимостями (мыслями); медитируя, мы приучаемся наблюдать за нашим умом как бы чуть-чуть со стороны, не вовлекаясь в мыслепоток, не выстраивая вокруг него сторителлинг — и это меняет наш ум и некоторые его свойства).
Вопрос супер-валидный, он меня тоже часто занимает. Ответ на него до обидного non-eventful: делать особо ничего не надо. Ну то есть, можно, конечно: можно договориться про план, маленькие шажочки, практики или даже домашку. Но основной эффект будет чаще всего иметь не это — изменения будут происходить на фоне, почти незаметно, ровно до тех пор, пока вдруг не покажется абсолютно естественным делать что-то «по-новому» и порой даже будет странно себе представить — а как это вообще, я раньше по-другому делала/думала/чувствовала/принимала решения? Вау.
Срабатывает эффект наблюдателя, из которого мы гуманитарным образом вытаскиваем весь hard science и оставляем только базовый принцип: простое наблюдение явления неизбежно изменяет его. В физике это может сбивать точность вычислений (например, нельзя измерить давление в шинах, не спустив немного воздуха при подключении манометра). Но для нас просто важна эта связь между некоторым процессом (мыслительным, эмоциональным, деятельным), и позицией наблюдателя, которую мы можем по отношению к нему занять. Просто наблюдая за штукой, обращая на неё «прожектор внимания», держа её в фокусе, не забывая про неё и не лакируя её как часть «нормы», не достойной внимания — мы меняем штуку. Вот так.
Более занудное объяснение такое: так мы смещаем фокус внимания с внешних условий и обстоятельств на конкретные действия конкретного исполнителя (в данном случае, себя). Как исполнители мы склонны рассуждать о причинах нашего поведения и о том, какие внешние причины, люди или триггеры нас «вывели» на эти действия, и эти причины (на которые, кстати, мы почти никогда не можем повлиять) часто волнуют нас сильно больше, чем наше конкретное поведение в конкретный момент. «Я это сделал, потому что мама меня не любила вот этими шестнадцатью способами». Но наблюдатели не знают (и не могут знать) причин поступков — они видят только сами поступки. Меняя роль исполнителя (я это сделал потому что) на роль наблюдателя (я вижу, что сделал вот это), мы смещаем фокус внимания и можем в том числе переоценить собственное поведение. Например, выбрав зоной нашего внимания баланс работы и отдыха мы лучше замечаем, какие решения мы принимаем и в каких ситуациях: скажем, не «я постоянно работаю по вечерам, потому что кроме меня этого никто не сделает», а «когда я оказываюсь перед выбором — потратить час на отдых или на работу, я всегда выбираю работу». Наблюдая за этой точкой выбора, мы получаем возможность, например, выбрать что-то другое — и, опять же, посмотреть, что будет.
(#буддизм, кстати, говорит нам похожую вещь: Будда так продвинулся в просвещении, наблюдая за своим умом; медитация (некоторые её формы) предполагают наблюдение за своим умом и возникающими в нем видимостями (мыслями); медитируя, мы приучаемся наблюдать за нашим умом как бы чуть-чуть со стороны, не вовлекаясь в мыслепоток, не выстраивая вокруг него сторителлинг — и это меняет наш ум и некоторые его свойства).
❤31🔥8🤯4
Несколько дней сижу на академической школе (#политфилософия) и потихоньку зверею, поэтому настроение после поддерживающего поста о саморазвитии влететь на политических битах. Вот, услышала, что апологетка феминизма в карточках и памятках Даша С. выступила с сентенцией «кто читает z-каналы — тот zетник». Я, конечно, читаю z-каналы — в подборках и обзорах (спасибо добрым людям, которые все это лопатят и собирают so we don’t need to), а иногда и напрямую: потому что я, конечно, исследователь, но еще я живу в этой стране и хочу знать, как мыслят те, кто тоже здесь живет, какие медийные нарративы они производят и из каких позиций формируется текущая политическая реальность. Идея, как я понимаю, для медиаменеджеров из-за границы, продолжающих пытаться зарабатывать на русскоязычной аудитории, радикальная и не слишком понятная.
Поэтому давайте продолжим этот логический ряд:
Кто читает новости — тот новостник.
Кто читает книги — тот писатель.
Кто читает, что написано на заборе — тот забор.
Кошка, как мы помним, смертна, Сократ — тоже, следовательно, Сократ — кошка. А мне еще говорили, что гуманитарное образование не пригодится в жизни.
Anyhoo, jokes aside: хотела записать пару мыслей о текущем медиаландшафте.
Как медиаменеджер в прошлом, могу сказать, что в медиа (Россия — частный пример глобального тренда) вообще не очень принято думать, что аудитории нужно, какие у неё есть запросы. Её было (и есть) принято пылесосить любыми доступными методами и быстро перепродавать в виде просмотров и кликов рекламодателям. Поэтому кликбейтный заголовок всегда сработает на задачи медиа лучше, чем экспертный лонгрид на сложную тему. Чтобы это сделать, аудитория сегментируется по критериям, понятным рекламодателям («мужчины 40+ с высоким уровнем дохода»). Это по-прежнему верно: медиа-в-изгнании точно так же продают свою аудиторию — только, вполне может быть, уже не модным брендам или авиакомпаниям, а грантодателям или спонсорам. Золотое правило интернета: потребляя любой (особенно бесплатный) контент, всегда полезно подумать, в какой сегмент вас упаковывают, кому вас продают и с какой целью.
Очень похоже, что текущая медиареальность разделилась на два относительно прямолинейных трека пропаганды: первая, про-российская, к которой мы более или менее привыкли, и вторая — до определенной степени интернализированная «про-западная» (в больших кавычках — это довольно сложноустроенное поле само по себе). Заметить их можно по удивительно единообразным приемам: эмоциональным манипуляциям, манифестовости, ригидности моральных конструкций и нормативности (хорошие люди всегда правы, мы — хорошие люди, значит, мы всегда правы; от создателей — демократия это когда у власти демократы). Оба трека довольно дружно мемизировали фразу «не все так однозначно», погрузив нас в строгие рамки дуальности (есть только два стула, два гендера, две стороны — правая и неправая, выбирай или проиграешь). Обе стороны выбрали догматичность и забыли о человечности. Обе стороны ввязаны в информационно-идеологическую борьбу, где у каждого игрока есть свои ставки, свои интересы и свои риски. Иными словами, пользоваться разными источниками — окей, если цель — сформировать собственное мнение на основе множества разнообразных данных.
Практики исключения (мы/они, разделение России на «тогда» (проваленные демократические проекты), «сейчас» (орки) и «прекрасную Россию будущего» (что-то изменится, демократы вернутся и заживут)) — на мой взгляд, путь вникуда. Работать нужно с тем, что есть, а не с тем, чего нет. И да, иметь мнение, не совпадающее с нормативными медийными треками (будь то треком условного «большинства», «государства», «верхушки», или треком «сообщества», «тусовки», «оппозиции») — очень неудобно. Часто вспоминаю в этом контексте цитату Вольтера: Uncertainty is an uncomfortable position. But certainty is an absurd one. В зоне моего контроля — хотя бы самой изо всех сил стараться не множить абсурд, находиться в дискомфорте неопределенности, вопроса, поиска.
Поэтому давайте продолжим этот логический ряд:
Кто читает новости — тот новостник.
Кто читает книги — тот писатель.
Кто читает, что написано на заборе — тот забор.
Кошка, как мы помним, смертна, Сократ — тоже, следовательно, Сократ — кошка. А мне еще говорили, что гуманитарное образование не пригодится в жизни.
Anyhoo, jokes aside: хотела записать пару мыслей о текущем медиаландшафте.
Как медиаменеджер в прошлом, могу сказать, что в медиа (Россия — частный пример глобального тренда) вообще не очень принято думать, что аудитории нужно, какие у неё есть запросы. Её было (и есть) принято пылесосить любыми доступными методами и быстро перепродавать в виде просмотров и кликов рекламодателям. Поэтому кликбейтный заголовок всегда сработает на задачи медиа лучше, чем экспертный лонгрид на сложную тему. Чтобы это сделать, аудитория сегментируется по критериям, понятным рекламодателям («мужчины 40+ с высоким уровнем дохода»). Это по-прежнему верно: медиа-в-изгнании точно так же продают свою аудиторию — только, вполне может быть, уже не модным брендам или авиакомпаниям, а грантодателям или спонсорам. Золотое правило интернета: потребляя любой (особенно бесплатный) контент, всегда полезно подумать, в какой сегмент вас упаковывают, кому вас продают и с какой целью.
Очень похоже, что текущая медиареальность разделилась на два относительно прямолинейных трека пропаганды: первая, про-российская, к которой мы более или менее привыкли, и вторая — до определенной степени интернализированная «про-западная» (в больших кавычках — это довольно сложноустроенное поле само по себе). Заметить их можно по удивительно единообразным приемам: эмоциональным манипуляциям, манифестовости, ригидности моральных конструкций и нормативности (хорошие люди всегда правы, мы — хорошие люди, значит, мы всегда правы; от создателей — демократия это когда у власти демократы). Оба трека довольно дружно мемизировали фразу «не все так однозначно», погрузив нас в строгие рамки дуальности (есть только два стула, два гендера, две стороны — правая и неправая, выбирай или проиграешь). Обе стороны выбрали догматичность и забыли о человечности. Обе стороны ввязаны в информационно-идеологическую борьбу, где у каждого игрока есть свои ставки, свои интересы и свои риски. Иными словами, пользоваться разными источниками — окей, если цель — сформировать собственное мнение на основе множества разнообразных данных.
Практики исключения (мы/они, разделение России на «тогда» (проваленные демократические проекты), «сейчас» (орки) и «прекрасную Россию будущего» (что-то изменится, демократы вернутся и заживут)) — на мой взгляд, путь вникуда. Работать нужно с тем, что есть, а не с тем, чего нет. И да, иметь мнение, не совпадающее с нормативными медийными треками (будь то треком условного «большинства», «государства», «верхушки», или треком «сообщества», «тусовки», «оппозиции») — очень неудобно. Часто вспоминаю в этом контексте цитату Вольтера: Uncertainty is an uncomfortable position. But certainty is an absurd one. В зоне моего контроля — хотя бы самой изо всех сил стараться не множить абсурд, находиться в дискомфорте неопределенности, вопроса, поиска.
❤37🔥9
И тут мы выходим на еще одну важную тему: дискомфорт и то, что мы вообще, похоже (на уровне человечества) отвыкаем находиться в дискомфорте. Это ДИЧАЙШЕ интересный процесс, который, вполне вероятно, заведет (уже заводит) нас в ДИЧАЙШУЮ жопу — это касается в первую очередь коммуникаций между людьми: мы все сильнее разучиваемся находиться в состоянии несогласия, конфликта, критики, и закрываемся внутри своих пузырей, которые призваны обслуживать наши интересы. Такой вот подвес на какой-нибудь будущий пост.
❤30🔥2
Дэвид Гребер в «Фрагментах анархистской антропологии» пишет о крутой штуке (#политфилософия) — о том, почему государственную идеологию (или идею) и, собственно, социальную реальность важно исследовать и обсуждать, по сути, по отдельности. В большинстве случаев повседневная реальность жизни большинства людей внутри некоторых социально-политических образований (обществ, государств, вождеств, политий, etc) сильно разнились с заявленной главенствующей идеей.
«К примеру, большая часть западной мифологии восходит к описанию Геродотом эпохального столкновения между Персидской империей, основанной на идеале подчинения и абсолютной власти, и греческими Афинами и Спартой, которые культивировали идеалы гражданской автономии, свободы и равенства. Не то чтобы эти идеи — особенно их яркие представления такими поэтами, как Эсхил, или историками, как Геродот, — не важны. Невозможно понять западную историю без них. Но их исключительная важность и яркость долго мешали историкам видеть то, что сейчас становится всё более и более ясным: независимо от своих идеалов, империя Ахеменидов характеризовалась довольно слабым контролем и вмешательством в повседневную жизни своих подданных, особенно по сравнению с контролем афинян над рабами или спартанцев над составляющими подавляющее большинство населения Лаконии илотами. Независимо от идеалов, реальность для большинства людей была почти обратной».
Для политической философии это большая, как мне видится, проблема, о которой редко вспоминают. Например, наше современное представление о том, что такое демократия, в значительном объеме формировано через авторов, которые так или иначе критиковали или пытались ограничить демократический принцип: Платона, или, скажем, Шумпетера. Что-то похожее можно наблюдать в Западной Европе: заявленные либерально-демократические принципы на неделе сталкиваются с довольно-таки традиционалистской и националистической реальностью (скажем, если в вашу христианскую страну приезжает миллион мусульман, ваше государство, вроде как основанное на принципе свободы воли и самоопределения, будет сообщать, что мусульманам стоило бы измениться, чтобы «интегрироваться» во вполне закрытое и существующее по неизменным принципам общество — в прямой противоположности с заявленной идеологией свободы).
В итоге наш анализ должен, по идее, касаться трех вещей: собственно, государственной идеи (некоторого утопического проекта, который существует только вокруг монарха в случае исторического кейса, или внутри медийного дискурса в случае современности), собственно социально-политической реальности жизни людей внутри этой идеи и существующих расхождений, и, наконец, тех обходных путей, уловок, практик регулирования и контроля и поведения элит, которые каким-то образом удерживают первое, прикрепленное ко второму.
«К примеру, большая часть западной мифологии восходит к описанию Геродотом эпохального столкновения между Персидской империей, основанной на идеале подчинения и абсолютной власти, и греческими Афинами и Спартой, которые культивировали идеалы гражданской автономии, свободы и равенства. Не то чтобы эти идеи — особенно их яркие представления такими поэтами, как Эсхил, или историками, как Геродот, — не важны. Невозможно понять западную историю без них. Но их исключительная важность и яркость долго мешали историкам видеть то, что сейчас становится всё более и более ясным: независимо от своих идеалов, империя Ахеменидов характеризовалась довольно слабым контролем и вмешательством в повседневную жизни своих подданных, особенно по сравнению с контролем афинян над рабами или спартанцев над составляющими подавляющее большинство населения Лаконии илотами. Независимо от идеалов, реальность для большинства людей была почти обратной».
Для политической философии это большая, как мне видится, проблема, о которой редко вспоминают. Например, наше современное представление о том, что такое демократия, в значительном объеме формировано через авторов, которые так или иначе критиковали или пытались ограничить демократический принцип: Платона, или, скажем, Шумпетера. Что-то похожее можно наблюдать в Западной Европе: заявленные либерально-демократические принципы на неделе сталкиваются с довольно-таки традиционалистской и националистической реальностью (скажем, если в вашу христианскую страну приезжает миллион мусульман, ваше государство, вроде как основанное на принципе свободы воли и самоопределения, будет сообщать, что мусульманам стоило бы измениться, чтобы «интегрироваться» во вполне закрытое и существующее по неизменным принципам общество — в прямой противоположности с заявленной идеологией свободы).
В итоге наш анализ должен, по идее, касаться трех вещей: собственно, государственной идеи (некоторого утопического проекта, который существует только вокруг монарха в случае исторического кейса, или внутри медийного дискурса в случае современности), собственно социально-политической реальности жизни людей внутри этой идеи и существующих расхождений, и, наконец, тех обходных путей, уловок, практик регулирования и контроля и поведения элит, которые каким-то образом удерживают первое, прикрепленное ко второму.
👍10❤6🤔2🔥1
Перечитываю «Государя» Макиавелли для философского кружка (не хотите ли еще немного философии вместе с вашей философией?). Про эту книжку (которая на английском кстати называется более возвышенно — «The Prince») я знаю две вещи.
Первая: мы до конца не знаем, какой была изначальная цель Макиавелли в написании этой книги. Формально она следует за заявленной задачей и выполняет её: автор хочет показать правителям, как выжить в мире, какой он есть, а не в том, каким он должен быть. Поэтому «Принца» с одинаковым успехом в течение сотен лет читали республиканисты, монархисты, религиозные фанатики, идеалисты и скептики. Но до конца не очень ясно, хотел ли Макиавелли действительно помочь тиранической власти, или же в форме эдакой политической сатиры перечислял её прегрешения.
Показательно, однако, что в «Государе» Макиавелли лишает понятие достоинства (virtue) моральной составляющей, сводя его преимущественно к эффективному правлению: иными словами: достойный правитель — это тот, кто успешно захватывает, правит и сохраняет власть. Считает ли Макиавелли, что так и надо делать, или просто пишет нейтральный «мануал» о том, как работает власть? We just don’t know.
Поэтому самая «рабочая» версия причины для написания «Государя» — этот текст был предложен Лоренцо Медичи в качестве заявления о приеме на работу, или, как мы бы сейчас сказали, «тестового задания». Этот текст написан для одной пары глаз. При этом мы достоверно не знаем, прочитал ли его вообще Лоренцо — или кто-либо из Медичи. Книга была впервые опубликована только после смерти Макиавелли. Если вы когда-нибудь переживали, что потенциальный работодатель не ответил вам на тестовое — вспомните месть Никколо Макиавелли, которого огромными тиражами выпускают пятьсот лет спустя, а где теперь Лоренцо Медичи.
Вторая: существует традиция текстов, которые называются «зеркало для правителя». Это инструкции или учебники для принцев — но, шире, это литературный жанр, который в том числе создает образы правителей для подражания или избегания следующими королями, и направлен он на неопытных правителей (короче, это лидерский селф-хелп). Таких текстов — сотни, но читаем мы почему-то «Государя». Одна из причин, почему это может быть так — что Макиавелли сознательно пишет свою книгу о принцах, чья власть не является наследной (которая была получена или захвачена силой). Это — важное отступление от жанра: обычно такие книги писались для наследных правителей. Получается, что «Государь» — это очень специфический набор советов для правителя, который получил свою власть и которому надо её удержать в противоречии со сложившейся традицией, а не через неё. Второе отличие — как раз в том, что христианская мораль в «Государе» Макиавелли вообще не волнует: его интересует реальная расстановка сил и то, как государю нужно себя вести, чтобы сохранить власть. Его не волнуют идеи, идеалы и идеологии, «как правильно» и «как надо» — только решение конкретных задач, и вопрос лишь в том, помогут ли выбранные средства достичь выбранной цели. Интересно при этом, что сам Макиавелли вообще был скорее за республику (то есть более или менее народную власть), о чем и написал несколько книг — и «Государь» в большинстве своем не сильно отражал его реальные (как мы можем сейчас себе их представлять) взгляды. Но «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» стали, конечно, далеко не так популярны.
А больше и не знаю ничего (тм). #политфилософия
Первая: мы до конца не знаем, какой была изначальная цель Макиавелли в написании этой книги. Формально она следует за заявленной задачей и выполняет её: автор хочет показать правителям, как выжить в мире, какой он есть, а не в том, каким он должен быть. Поэтому «Принца» с одинаковым успехом в течение сотен лет читали республиканисты, монархисты, религиозные фанатики, идеалисты и скептики. Но до конца не очень ясно, хотел ли Макиавелли действительно помочь тиранической власти, или же в форме эдакой политической сатиры перечислял её прегрешения.
Показательно, однако, что в «Государе» Макиавелли лишает понятие достоинства (virtue) моральной составляющей, сводя его преимущественно к эффективному правлению: иными словами: достойный правитель — это тот, кто успешно захватывает, правит и сохраняет власть. Считает ли Макиавелли, что так и надо делать, или просто пишет нейтральный «мануал» о том, как работает власть? We just don’t know.
Поэтому самая «рабочая» версия причины для написания «Государя» — этот текст был предложен Лоренцо Медичи в качестве заявления о приеме на работу, или, как мы бы сейчас сказали, «тестового задания». Этот текст написан для одной пары глаз. При этом мы достоверно не знаем, прочитал ли его вообще Лоренцо — или кто-либо из Медичи. Книга была впервые опубликована только после смерти Макиавелли. Если вы когда-нибудь переживали, что потенциальный работодатель не ответил вам на тестовое — вспомните месть Никколо Макиавелли, которого огромными тиражами выпускают пятьсот лет спустя, а где теперь Лоренцо Медичи.
Вторая: существует традиция текстов, которые называются «зеркало для правителя». Это инструкции или учебники для принцев — но, шире, это литературный жанр, который в том числе создает образы правителей для подражания или избегания следующими королями, и направлен он на неопытных правителей (короче, это лидерский селф-хелп). Таких текстов — сотни, но читаем мы почему-то «Государя». Одна из причин, почему это может быть так — что Макиавелли сознательно пишет свою книгу о принцах, чья власть не является наследной (которая была получена или захвачена силой). Это — важное отступление от жанра: обычно такие книги писались для наследных правителей. Получается, что «Государь» — это очень специфический набор советов для правителя, который получил свою власть и которому надо её удержать в противоречии со сложившейся традицией, а не через неё. Второе отличие — как раз в том, что христианская мораль в «Государе» Макиавелли вообще не волнует: его интересует реальная расстановка сил и то, как государю нужно себя вести, чтобы сохранить власть. Его не волнуют идеи, идеалы и идеологии, «как правильно» и «как надо» — только решение конкретных задач, и вопрос лишь в том, помогут ли выбранные средства достичь выбранной цели. Интересно при этом, что сам Макиавелли вообще был скорее за республику (то есть более или менее народную власть), о чем и написал несколько книг — и «Государь» в большинстве своем не сильно отражал его реальные (как мы можем сейчас себе их представлять) взгляды. Но «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» стали, конечно, далеко не так популярны.
А больше и не знаю ничего (тм). #политфилософия
👍17❤15🔥1
Кстати, в свободное от философии время я отменяю силу эротического в подкасте «Кроме шуток» 😏
(Ironically, именно этот выпуск начинается с того, что я рассказываю про тему своей магистерской диссертации, хаха).
На деле хотелось просто зафиксировать в письменном виде спич, который я в последнее время что-то частовато, забравшись на броневичок, в формате прокламации скандирую в пространство: давайте уже легитимизировать РАЗНЫЕ СПОСОБЫ проявления женской агентности, свободы и гнева в литературе, кроме как через излишне подробные, ✨шокирующие✨описания беспорядочного секса (в большинстве своем еще к тому же и гетеросексуального: да, Лидия Юкнавич, я СМОТРЮ НА ТЕБЯ).
Да, я старая женатая женщина, и мне кажется, что в мире есть огромное разнообразие жизненных практик освобождения и проявления воли. Это не значит, что силу эротического (тм) нужно отменить: мне бы просто хотелось, чтобы она была не единственным «нормативным» литературным кодом свободы. И мне кажется, что в погоне за инклюзивностью не замечается потеря целых кусков спектра: не только ace community, но и вообще всех, кто считает секс, любовь и романтические отношения далеко не самой важной вещью в жизни и попросту не таким важным элементом своей идентичности и самоопределения (вообще или на текущем этапе жизни).
Кроме социальной рефлексии есть и личная читательская: после чтения определенного количества единиц контента (тм), где тебя пытаются шокировать женской сексуальностью, я просто, ну, уже не шокируюсь, и начинаю скучать. Мне абсолютно окей, когда секс между персонажами является самоцелью текста (за фанфики и за двор молчаливый укор, как мы помним — свонквин форева), но баба яга против того, чтобы он был главенствующим приемом в целом жанре женских, исповедальных, автофикшеновых, каких-там-еще текстов, которые вроде как про релевантный мне опыт, но на деле — вовсе нет. Вкусы и интересы меняются со временем, и это пространство для моей читательской грустилки: даже тут подкралась исключенность.
(Ironically-2, я ведь пишу книжку, где любовь и отношения героинь в буквальном смысле меняют мироздание — но это происходит именно потому, что эта сила misguided).
(Ironically, именно этот выпуск начинается с того, что я рассказываю про тему своей магистерской диссертации, хаха).
На деле хотелось просто зафиксировать в письменном виде спич, который я в последнее время что-то частовато, забравшись на броневичок, в формате прокламации скандирую в пространство: давайте уже легитимизировать РАЗНЫЕ СПОСОБЫ проявления женской агентности, свободы и гнева в литературе, кроме как через излишне подробные, ✨шокирующие✨описания беспорядочного секса (в большинстве своем еще к тому же и гетеросексуального: да, Лидия Юкнавич, я СМОТРЮ НА ТЕБЯ).
Да, я старая женатая женщина, и мне кажется, что в мире есть огромное разнообразие жизненных практик освобождения и проявления воли. Это не значит, что силу эротического (тм) нужно отменить: мне бы просто хотелось, чтобы она была не единственным «нормативным» литературным кодом свободы. И мне кажется, что в погоне за инклюзивностью не замечается потеря целых кусков спектра: не только ace community, но и вообще всех, кто считает секс, любовь и романтические отношения далеко не самой важной вещью в жизни и попросту не таким важным элементом своей идентичности и самоопределения (вообще или на текущем этапе жизни).
Кроме социальной рефлексии есть и личная читательская: после чтения определенного количества единиц контента (тм), где тебя пытаются шокировать женской сексуальностью, я просто, ну, уже не шокируюсь, и начинаю скучать. Мне абсолютно окей, когда секс между персонажами является самоцелью текста (за фанфики и за двор молчаливый укор, как мы помним — свонквин форева), но баба яга против того, чтобы он был главенствующим приемом в целом жанре женских, исповедальных, автофикшеновых, каких-там-еще текстов, которые вроде как про релевантный мне опыт, но на деле — вовсе нет. Вкусы и интересы меняются со временем, и это пространство для моей читательской грустилки: даже тут подкралась исключенность.
(Ironically-2, я ведь пишу книжку, где любовь и отношения героинь в буквальном смысле меняют мироздание — но это происходит именно потому, что эта сила misguided).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯21❤15👍3🔥2
Forwarded from издательство без шуток
Лучшая реклама подкаста «Кроме шуток» от нашей подруги, движущей силы писательских курсов WLAG @wlagru Светы Лукьяновой. Последний выпуск — о сексуальности в женской* литературе. На всех платформах! 🤡
podcast.ru/1492240346
podcast.ru/1492240346
❤10
Вроде культурный человек
Кстати, в свободное от философии время я отменяю силу эротического в подкасте «Кроме шуток» 😏 (Ironically, именно этот выпуск начинается с того, что я рассказываю про тему своей магистерской диссертации, хаха). На деле хотелось просто зафиксировать в письменном…
Пост из моей любимой категории
😁14❤3
Я наконец-то дописала диссертацию по политической философии и отправила её (жить свою лучшую жизнь куда-то без меня). Поэтому чувствую в себе желание и волю ворваться спустя полтора месяца молчания с цитатами из дневников Патрисии Хайсмит, которые я наконец-то ПРОЧИТАЮ, потому что слава богу могу читать что-то кроме политической философии. Три записи почти подряд, я обожаю того персонажа, которого из себя делает двадцатилетняя Хайсмит в своем дневничке:
12/20/41
Perhaps I have said this before, but it should be in each notebook: a short story (or a novel-germ) must come from an inspiration which, on first acquaintance, seems better suited for a poem. Action germs are usually successful only when the element of oddity or excitement or queerness is developed. And the writer, like a man in the beginning of his love, should be passive to the inspiration of the world and the earth, who is his seducer. She plays with him, forces herself upon him until he becomes conscious of her. He never seeks deliberately. Inspiration comes many ways at many times, but I like best inspiration with a smile on one’s face and a relaxation in the body. Such inspiration is healthy and strong.
<...>
12/21/41
The sex act should be done either in a white heat or with the best sense of humor. Technique is a matter of imagination, and consideration only of the other person; a talent never found in men.
<...>
December 24, 1941
Worked on story. Wrote Babs & gave family bottle of Crème de Cacao. Delivered it myself. Bought Rosalind Eric Coates’ “London Again Suite.” Perhaps she can understand English music. I can’t think much of it. Buffie called last night about dinner party tonight. I went with her. Drunk & exhausted, phoned Helen secretly after martinis & champagne. She was glad to hear me—I loved her & told her so—and she said to get over it. Buffie knew. At least she knows it isn’t Rosalind now.
Продолжаю наблюдение, тут еще восемь сотен страниц.
12/20/41
Perhaps I have said this before, but it should be in each notebook: a short story (or a novel-germ) must come from an inspiration which, on first acquaintance, seems better suited for a poem. Action germs are usually successful only when the element of oddity or excitement or queerness is developed. And the writer, like a man in the beginning of his love, should be passive to the inspiration of the world and the earth, who is his seducer. She plays with him, forces herself upon him until he becomes conscious of her. He never seeks deliberately. Inspiration comes many ways at many times, but I like best inspiration with a smile on one’s face and a relaxation in the body. Such inspiration is healthy and strong.
<...>
12/21/41
The sex act should be done either in a white heat or with the best sense of humor. Technique is a matter of imagination, and consideration only of the other person; a talent never found in men.
<...>
December 24, 1941
Worked on story. Wrote Babs & gave family bottle of Crème de Cacao. Delivered it myself. Bought Rosalind Eric Coates’ “London Again Suite.” Perhaps she can understand English music. I can’t think much of it. Buffie called last night about dinner party tonight. I went with her. Drunk & exhausted, phoned Helen secretly after martinis & champagne. She was glad to hear me—I loved her & told her so—and she said to get over it. Buffie knew. At least she knows it isn’t Rosalind now.
Продолжаю наблюдение, тут еще восемь сотен страниц.
❤🔥10👍8❤3🕊1
«Бесконечный скролл» и его не менее злобный брат-близнец алгоритмическая выдача сделали соцсети тем, что они есть сейчас: бесконечный поведенческий эксперимент, черная дыра, уничтожающая время, внимание и чувство близости с другими, гонка за абстрактными охватами, уничтожение контекста и возможности его восстановить, потреблениепотреблениепотребление, рострострост, скорость, бездумный рок.
У Wired отличная статья про скролл — и про то, что дизайнер, который придумал бесконечный скроллинг, не зря извиняется за свое детище.
Вот, например, кусок про то, как потреблялись свитки (scrolls) в Китае — вовсе не в темноте собственного одиночества, это был социальный (в смысле — вместе-с-другими-людьми) опыт медленного, контекстуального познания мира, которое никогда не может быть полным, и через это осознание приводит к скромности (и мыслям о смерти). Как водится, фонит возвышенным ориентализмом, но не мне (человеку, который ищет опору в восточной духовной традиции) выпендриваться.
«Мы обычно скроллим в одиночестве через таймлайны с уничтоженным контекстом, но китайские ручные свитки были социальными сетями в другом смысле. Такой свиток предназначался для коллективного просмотра небольшими группами, например, во время вечерней выпивки и дискуссий. Зрители воспринимали свиток как панораму, разворачивающуюся справа налево. Если вы видели такой свиток в музее, вы, вероятно, видели его полностью развернутым, но это противоречит тому, как они были задуманы: они разворачиваются медленно, по одному фрагменту за раз, а затем исчезают, как снимает движущаяся камера в кино.
Среди представителей литературного класса (элитных чиновников, ученых и художников) этот опыт был способом установления связей и выражения статуса. Социальная динамика ручных свитков также была отражена в колофоне, или заключительных статьях, где владельцы и приглашенные зрители писали умные комментарии. Более требовательные, чем лайк или комментарий на публикацию в социальных сетях, они рассматривались как возможность по-настоящему улучшить картину; поэты иногда шутили о стрессе, который они испытывали, когда писали что-то стоящее. Непрерывный характер колофона превращал художественное произведение в сотрудничество на протяжении веков, а не в нечто, что можно было бы закончить и убрать.
Одной из характерных особенностей ручного свитка была его способность растягивать и изгибать время, создавая статичный кинотеатр, который воссоздается при каждом открытии свитка: поток истории течет, но нельзя войти в одну и ту же реку дважды. В отличие от нашего скролла, размер китайских свитков был ограниченным, ритм медленным, социальный контекст интимным, а их создание и потребление были в высшей степени целенаправленными, даже ритуальными. Роспись от руки не отвергала человеческое стремление к новизне и зрелищам, страху и сплетням, а скорее культивировала и вознаграждала более устойчивую форму любопытства и внимания.
Подобно многим артефактам американского капитализма с христианским оттенком, цифровой бесконечный скролл обещает бессмертие, о чем свидетельствует и идея бесконечно возрождающегося изобилия. С другой стороны, классическое китайское искусство не отрицает смерть и на самом деле часто подчеркивает ее через буддийские и даосские философские темы или, косвенно, — через представления о мире природы и сезонном цикле жизни, смерти и перерождении. В конечной форме рукописного текста также присутствует скромность в отношении человеческих знаний и перспектив. Сам факт того, что невозможно охватить всю картину одним взглядом, заставляет зрителей признать, насколько на самом деле ограничено наше понимание мира, и предлагает примириться с неопределенностью».
У Wired отличная статья про скролл — и про то, что дизайнер, который придумал бесконечный скроллинг, не зря извиняется за свое детище.
Вот, например, кусок про то, как потреблялись свитки (scrolls) в Китае — вовсе не в темноте собственного одиночества, это был социальный (в смысле — вместе-с-другими-людьми) опыт медленного, контекстуального познания мира, которое никогда не может быть полным, и через это осознание приводит к скромности (и мыслям о смерти). Как водится, фонит возвышенным ориентализмом, но не мне (человеку, который ищет опору в восточной духовной традиции) выпендриваться.
«Мы обычно скроллим в одиночестве через таймлайны с уничтоженным контекстом, но китайские ручные свитки были социальными сетями в другом смысле. Такой свиток предназначался для коллективного просмотра небольшими группами, например, во время вечерней выпивки и дискуссий. Зрители воспринимали свиток как панораму, разворачивающуюся справа налево. Если вы видели такой свиток в музее, вы, вероятно, видели его полностью развернутым, но это противоречит тому, как они были задуманы: они разворачиваются медленно, по одному фрагменту за раз, а затем исчезают, как снимает движущаяся камера в кино.
Среди представителей литературного класса (элитных чиновников, ученых и художников) этот опыт был способом установления связей и выражения статуса. Социальная динамика ручных свитков также была отражена в колофоне, или заключительных статьях, где владельцы и приглашенные зрители писали умные комментарии. Более требовательные, чем лайк или комментарий на публикацию в социальных сетях, они рассматривались как возможность по-настоящему улучшить картину; поэты иногда шутили о стрессе, который они испытывали, когда писали что-то стоящее. Непрерывный характер колофона превращал художественное произведение в сотрудничество на протяжении веков, а не в нечто, что можно было бы закончить и убрать.
Одной из характерных особенностей ручного свитка была его способность растягивать и изгибать время, создавая статичный кинотеатр, который воссоздается при каждом открытии свитка: поток истории течет, но нельзя войти в одну и ту же реку дважды. В отличие от нашего скролла, размер китайских свитков был ограниченным, ритм медленным, социальный контекст интимным, а их создание и потребление были в высшей степени целенаправленными, даже ритуальными. Роспись от руки не отвергала человеческое стремление к новизне и зрелищам, страху и сплетням, а скорее культивировала и вознаграждала более устойчивую форму любопытства и внимания.
Подобно многим артефактам американского капитализма с христианским оттенком, цифровой бесконечный скролл обещает бессмертие, о чем свидетельствует и идея бесконечно возрождающегося изобилия. С другой стороны, классическое китайское искусство не отрицает смерть и на самом деле часто подчеркивает ее через буддийские и даосские философские темы или, косвенно, — через представления о мире природы и сезонном цикле жизни, смерти и перерождении. В конечной форме рукописного текста также присутствует скромность в отношении человеческих знаний и перспектив. Сам факт того, что невозможно охватить всю картину одним взглядом, заставляет зрителей признать, насколько на самом деле ограничено наше понимание мира, и предлагает примириться с неопределенностью».
WIRED
There’s an Alternative to the Infinite Scroll
It’s easy to feel like there’s no escape from doomscrolling. The classical Chinese handscroll suggests otherwise.
❤28❤🔥11😱2👍1
Выпуск из сердечка — мы три с лишним часа, кажется, проговорили про «буддиста» Доди Беллами, и, потом — про сам буддизм, про п(р)оиски духовности и про то, как во всем этом непростом навигировать. Я там в том числе рассказываю, как я пришла к буддизму (в большой степени рационально, через формальное познание, но еще и — отчасти через то самое сложно определяемое духовное, чему мне все чаще в последнее время хочется уделять больше своего внимания). Например, минут пятнадцать в бонусе мы говорим про отказ от «Я» (очень люблю эту тему), еще минут десять — о чуде возможности просто сидеть минут сорок на жопе, не вертеться и не скакать между делами и мыслями. Вот так.
❤22
Forwarded from издательство без шуток (Dasha Mityakina)
«Фотографии котов, калифорнийский нью-эйдж и сплетни как искусство. За что мы любим „буддиста“ Доди Беллами» — вышел новый выпуск подкаста «Кроме шуток»!
Наша издательница Саша Шадрина, шеф-редакторка Лайма Андерсон, Катя Кудрявцева и приглашенная гостья Даша Митякина, пиар-менеджерка No Kidding Press, обсуждают «буддиста» и буддизм, завидуют отношениям Доди Беллами с Кевином Киллианом, вспоминают культы, вампиров и жалуются на дизлайки в телеграм-канале. Слушать на всех платформах.
Тем временем на Boosty уже висит новый бонусный эпизод — в пару к основному он посвящен духовности и религии. В нем Саша, Лайма, Катя и Даша обсуждают утрату, память, медитацию и практики осознанности. Выпуск доступен подписчикам тарифа «Не до шуток» и выше.
Наша издательница Саша Шадрина, шеф-редакторка Лайма Андерсон, Катя Кудрявцева и приглашенная гостья Даша Митякина, пиар-менеджерка No Kidding Press, обсуждают «буддиста» и буддизм, завидуют отношениям Доди Беллами с Кевином Киллианом, вспоминают культы, вампиров и жалуются на дизлайки в телеграм-канале. Слушать на всех платформах.
Тем временем на Boosty уже висит новый бонусный эпизод — в пару к основному он посвящен духовности и религии. В нем Саша, Лайма, Катя и Даша обсуждают утрату, память, медитацию и практики осознанности. Выпуск доступен подписчикам тарифа «Не до шуток» и выше.
❤11👍2
Вот еще — цитата из «буддиста», не верить каждой возникшей в голове мысли; суперспособность.
«Во вторник вечером Айлин Майлз читала в книжном Modern Times отрывок из нового романа «Инферно». Я уже много раз слышала, как она читает отрывки из этой книги, но мне не надоедает. Публика состояла из юных модных дайков, а также поэтов и художников постарше. После чтений мы с Айлин отправились пить чай в Ritual Cafe, а потом есть тако на ночь глядя. Разговор выдался восхитительно личным: сплетни, отношения, писательские проекты и как со всем этим жить. Когда я рассказывала ей о своих эмоциональных потрясениях, она слушала меня внимательно, с сочувствием. Айлин рассказала о духовных практиках, которыми занялась в последнее время, и заметила, что стоит ей их забросить, как она начинает верить тому, что у нее на уме. На прошлой неделе я размышляла об этой премудрости — не верить каждой возникшей в голове мысли. Я спросила ее, как она справляется с вторжением личного в рабочее пространство — то есть в психологическое состояние потока, необходимое для письма, — и она отреагировала так, будто не поняла вопроса. Похоже, Айлин ничему не позволяет туда проникнуть. Она по-прежнему мой кумир».
«Во вторник вечером Айлин Майлз читала в книжном Modern Times отрывок из нового романа «Инферно». Я уже много раз слышала, как она читает отрывки из этой книги, но мне не надоедает. Публика состояла из юных модных дайков, а также поэтов и художников постарше. После чтений мы с Айлин отправились пить чай в Ritual Cafe, а потом есть тако на ночь глядя. Разговор выдался восхитительно личным: сплетни, отношения, писательские проекты и как со всем этим жить. Когда я рассказывала ей о своих эмоциональных потрясениях, она слушала меня внимательно, с сочувствием. Айлин рассказала о духовных практиках, которыми занялась в последнее время, и заметила, что стоит ей их забросить, как она начинает верить тому, что у нее на уме. На прошлой неделе я размышляла об этой премудрости — не верить каждой возникшей в голове мысли. Я спросила ее, как она справляется с вторжением личного в рабочее пространство — то есть в психологическое состояние потока, необходимое для письма, — и она отреагировала так, будто не поняла вопроса. Похоже, Айлин ничему не позволяет туда проникнуть. Она по-прежнему мой кумир».
❤24❤🔥8👍1
Начала в самолете читать «Путь дзэн» Алана Уотса с мыслью — ну, вот, снова я читаю попсовую книжку про буддизм. Но внезапно оказалось, что там куча интересных штук, вроде самых базовых, но при этом закрывающих какие-то лакуны в этой самой базе. Другими словами — основополагающих. Например, в подкасте про буддизм я говорила, что популярный нынче образ медитации как практики для успокоения, расслабления и всякой такой возвышенной и возвышающей осознанности, мне не близок — медитировать мне бывает тяжело, я часто сижу сквозь довольно непростые чувства (в нагрузку идет и СДВГ-related проблемы типа постоянного фиджетинга и прочего стремления к дофамину). Одним из таких базовых ответов стала идея, что мы вообще не очень привычны чувствовать любого рода дискомфорт и не пытаться ничего с этим сделать. Иными словами, непростые чувства — ожидаемы.
Еще одним — вот эта идея из Уотса:
«Вопреки распространенному мнению, сидячая медитация — это не духовное «упражнение», практика, направленная на какой-то неявный объект. С буддийской точки зрения это лишь правильный способ сидеть, и кажется вполне естественным оставаться в сидячем положении, если вам не нужно делать ничего другого и если вы не охвачены нервным возбуждением. Для беспокойного темперамента Запада сидячая медитация может казаться неприятной дисциплиной, потому что мы не умеем сидеть «лишь ради сидения», без угрызений совести, без мыслей о том, что нам следует делать что-то более важное, чтобы оправдать свое существование. Поэтому, чтобы умилостивить эту беспокойную совесть, сидячую медитацию приходится рассматривать как упражнение, дисциплину с неявным мотивом. Но тогда она перестает быть медитацией (дхьяной) в буддийском смысле, потому что там, где есть цель, где есть поиск и цепляние за результаты, не может быть дхьяны».
Короче, медитация — не особенная духовная практика, а буквально твоя повседневность сидения на жопе, когда ты избавляешься от помрачений и цепляния за эго. Ок, объяснение не является оправданием, but it still helps.
Еще одним — вот эта идея из Уотса:
«Вопреки распространенному мнению, сидячая медитация — это не духовное «упражнение», практика, направленная на какой-то неявный объект. С буддийской точки зрения это лишь правильный способ сидеть, и кажется вполне естественным оставаться в сидячем положении, если вам не нужно делать ничего другого и если вы не охвачены нервным возбуждением. Для беспокойного темперамента Запада сидячая медитация может казаться неприятной дисциплиной, потому что мы не умеем сидеть «лишь ради сидения», без угрызений совести, без мыслей о том, что нам следует делать что-то более важное, чтобы оправдать свое существование. Поэтому, чтобы умилостивить эту беспокойную совесть, сидячую медитацию приходится рассматривать как упражнение, дисциплину с неявным мотивом. Но тогда она перестает быть медитацией (дхьяной) в буддийском смысле, потому что там, где есть цель, где есть поиск и цепляние за результаты, не может быть дхьяны».
Короче, медитация — не особенная духовная практика, а буквально твоя повседневность сидения на жопе, когда ты избавляешься от помрачений и цепляния за эго. Ок, объяснение не является оправданием, but it still helps.
❤25🔥5👍4
Забавная статья о том, почему люди вдруг начали постить всякое личное в Линкдине.
(1) Ковид и изменение отношений с работой: представление о личном и профессиональном размывается, у нас появляется опыт разговоров об эмоциях с коллегами (этого было много в 2020-2021 году), плюс многие работают из дома и грань между домом и офисом перестает быть такой четкой.
(2) Поколенческий сдвиг: молодым людям проще шерить личное с коллегами. Отчасти, возможно, из-за предыдущего пункта (многие «вошли» в работу уже в новой реальности), отчасти — потому что опыт опубличивания своей личной жизни является частью нормы с детства; внутренние представления о том, о чем уместно рассказывать и на какую аудиторию, сильно изменились.
(3) Наконец, самый интересный пункт для исследователя медиа: современные соцсети вообще перестают быть пространством для разговоров о личном. В фейсбуке происходит неизвестно что; инстаграм стал площадкой для профессиональных блогеров, которые борются за аудиторию пассивных наблюдателей и лайкателей; тикток — отдельный жанр контента; твиттер (Х) — планомерно уничтожается Маском. Масштабы постинга в социальных сетях летят вниз; мессенджеры и групповые чаты захватывают внимание все больше.
Кто-то уходит в отдельные среды, не-социальные сети (calm tech, cozy web, slow scrolling, artisanal content и всякое такое), кто-то — в чатики и прочие закрытые формы коммуникации.
С Линкдином интересно: по сути, эта площадка годами просто содержала резюмешки и самовосхвалительные посты про работу. Людям было непонятно, что туда писать и зачем — и в итоге именно это отсутствие нормы и ожиданий и помогло людям просто начать писать всякое человеческое — и, неожиданно, получать всякую человеческую обратную связь. Платформа без культуры постинга оказалась куда более комфортным местом для постинга.
Еще в статье есть прикольные истории о том, как посты в линкдине имели последствия в реальной жизни — например, про чувака, который вел мемный аккаунт о постах в линкдине: он затроллил пост о разводе, который счел неуместным овершерингом. Но начальник автора поста нашел этого мемолога, позвонил его начальнику и высказал ему свое недовольство. Тут куча интересного: во-первых, что в профессиональном сообществе ставки довольно высоки; во-вторых, на платформе, пока еще очень тесно связанной с реальностью (все же там постят реальные люди о своих реальных, профессиональных жизнях — анонимности минимум, она и не ожидается), и спайка между постиком и жизнью еще очень сильна; в-третьих, в таких условиях за свои слова приходится нести вполне реальную ответственность — чего во многих других социальных и медийных площадках, наполненных персонажами и выдуманными персонами, анонимами и скрытыми за никами людьми, уже давно не происходит.
Интересно и то, что в функциональном до определенной степени пространстве овершеринг не становится брендом (как это происходит в других, заточенных на коммерцию или рынок внимания, соцсетях) — напротив, люди учатся поддерживать баланс между разными сторонами своей жизни (личной, рабочей, образовательной и тд) и коммуницировать более комплексно, что ли. Хотя это — всего лишь предположение.
(1) Ковид и изменение отношений с работой: представление о личном и профессиональном размывается, у нас появляется опыт разговоров об эмоциях с коллегами (этого было много в 2020-2021 году), плюс многие работают из дома и грань между домом и офисом перестает быть такой четкой.
(2) Поколенческий сдвиг: молодым людям проще шерить личное с коллегами. Отчасти, возможно, из-за предыдущего пункта (многие «вошли» в работу уже в новой реальности), отчасти — потому что опыт опубличивания своей личной жизни является частью нормы с детства; внутренние представления о том, о чем уместно рассказывать и на какую аудиторию, сильно изменились.
(3) Наконец, самый интересный пункт для исследователя медиа: современные соцсети вообще перестают быть пространством для разговоров о личном. В фейсбуке происходит неизвестно что; инстаграм стал площадкой для профессиональных блогеров, которые борются за аудиторию пассивных наблюдателей и лайкателей; тикток — отдельный жанр контента; твиттер (Х) — планомерно уничтожается Маском. Масштабы постинга в социальных сетях летят вниз; мессенджеры и групповые чаты захватывают внимание все больше.
Кто-то уходит в отдельные среды, не-социальные сети (calm tech, cozy web, slow scrolling, artisanal content и всякое такое), кто-то — в чатики и прочие закрытые формы коммуникации.
С Линкдином интересно: по сути, эта площадка годами просто содержала резюмешки и самовосхвалительные посты про работу. Людям было непонятно, что туда писать и зачем — и в итоге именно это отсутствие нормы и ожиданий и помогло людям просто начать писать всякое человеческое — и, неожиданно, получать всякую человеческую обратную связь. Платформа без культуры постинга оказалась куда более комфортным местом для постинга.
Еще в статье есть прикольные истории о том, как посты в линкдине имели последствия в реальной жизни — например, про чувака, который вел мемный аккаунт о постах в линкдине: он затроллил пост о разводе, который счел неуместным овершерингом. Но начальник автора поста нашел этого мемолога, позвонил его начальнику и высказал ему свое недовольство. Тут куча интересного: во-первых, что в профессиональном сообществе ставки довольно высоки; во-вторых, на платформе, пока еще очень тесно связанной с реальностью (все же там постят реальные люди о своих реальных, профессиональных жизнях — анонимности минимум, она и не ожидается), и спайка между постиком и жизнью еще очень сильна; в-третьих, в таких условиях за свои слова приходится нести вполне реальную ответственность — чего во многих других социальных и медийных площадках, наполненных персонажами и выдуманными персонами, анонимами и скрытыми за никами людьми, уже давно не происходит.
Интересно и то, что в функциональном до определенной степени пространстве овершеринг не становится брендом (как это происходит в других, заточенных на коммерцию или рынок внимания, соцсетях) — напротив, люди учатся поддерживать баланс между разными сторонами своей жизни (личной, рабочей, образовательной и тд) и коммуницировать более комплексно, что ли. Хотя это — всего лишь предположение.
Business Insider
It's not just you. LinkedIn has gotten really weird.
Divorce, trouble peeing, and stealing hotel food: Why did a job network become everyone's favorite place for oversharing?
❤16🤔6👍2
Что это за вой на болотах? Это я впервые за кучу времени пишу пост про художественную книжку. Прочитала, агрессивно перелистывая страницы, «Семь мужей Эвелин Хьюго» — сделала я это, разумеется, из-за…
ВЕСЬ ЭТОТ ПОСТ СОСТОИТ ИЗ СПОЙЛЕРОВ. АБСОЛЮТНО ВЕСЬ.
пообещанной мне лесбийской драмы. Ну штош.
Итак: «Семь мужей» — это история о том, как неудачливая ворчливая юная журналистка (так же известная как «автору был необходим сюжетный костыль») была внезапно призвана таинственной мега-кинозвездой 50-х, чтобы написать её биографию, а потом продать её за огромные деньги. Большая часть книги — воспоминания Эвелин, упакованные в тщательную, но не слишком душевную дрочь на ночь, то есть на киноиндустрию раннего Голливуда. Платья, странные фильмы, сомнительные романтические и сексуальные выборы, махровый патриархат, светская хроника и сплетни, сплетни, сплетни — вот это вот все. И вот в этом вот всем — Эвелин Хьюго, чьим главным достоинством является грудь (а грудь Эвелин Хьюго является, по совместительству, главным достоинством этой книги, по мнению её авторки, которая каждый десяток страниц не забывает нам напомнить, какое у Эвелин Хьюго главное достоинство), зачем-то за жизнь перебрала аж СЕМЬ мужей. Зачем? Как же так? Кто её настоящая любовь? Истина раскрывается нам где-то в первой трети книги: на самом деле бОльшая часть мужей — это всего лишь вывеска, прикрывающая якобы вечную и бесконечную любовь героини к своей подруге и коллеге по кино-цеху Селии.
Звучит, на самом-то деле, ужасно увлекательно — и стилистически, и сюжетно. Но у «Мужей» есть огромная, на мой взгляд, проблема: на самом деле, на эмоциональном уровне, это лесбийская драма является всего лишь вывеской для описания отношений (зачастую ужасных, абьюзивных, нудных, неприятных, проходных или функциональных) секс-бомбы Голливуда с мужиками. То, что должно было стать сердцем и причиной всего сюжета (Эвелин и Селия), вышло картонным и ложным: с тем же успехом Эвелин всю жизнь могла любить столб или машину. И из-за этого всю книжку не покидает чувство, что ты стала жертвой какого-то мелочного обмана: тебе вроде не обидно по-настоящему, но при этом и непонятно, зачем, ну зачем кассир в Пятерочке подложил тебе ряженку вместо творожка? Глупость какая-то. В итоге отношения с мужиками Эвелин всю книгу обладают какой-то сермяжной, мерзкой истинностью, а якобы великая любовь к женщине написана откровенно на отъебись: никакие события в книге не показывают эту любовь, она лишь раз за разом озвучивается — как будто голос объявляет остановки, но поезд никуда не едет. В послесловии, в общем, авторка сама объясняет: ей пришлось доказывать, что можно сделать историю о семи мужьях убедительной. И в этом все дело: это история о мужьях, а не о женщинах, хотя на словах постулируется обратное.
Все это похоже на очередной кейс «это неплохая история или она просто гейская?». Потому что каждый сюжетный поворот внутри отношений, которые (якобы) являются ключевыми для книги, на самом деле а) надуманный б) предсказуемый и в) к третьему повторению — уже, честно говоря, занудный. Если бы мы представили на месте Селии мужика, об эту драму можно было бы сломать зубы — но, вероятнее всего, такая книга попросту не была бы написана по причине своей исключительной неисключительности. Использование gay-вотэтоповоротов для вау-эффекта, чтобы продать историю про семерых мужиков — ну, честно говоря, такое.
(Говорят, Netflix подобрал книжку для экранизации: если исправят эту шляпу и сделают отношения Эвелин и Селии хоть сколько-нибудь эмоционально убедительными — я на такой скорости выезжаю, вы себе не представляете).
ВЕСЬ ЭТОТ ПОСТ СОСТОИТ ИЗ СПОЙЛЕРОВ. АБСОЛЮТНО ВЕСЬ.
пообещанной мне лесбийской драмы. Ну штош.
Итак: «Семь мужей» — это история о том, как неудачливая ворчливая юная журналистка (так же известная как «автору был необходим сюжетный костыль») была внезапно призвана таинственной мега-кинозвездой 50-х, чтобы написать её биографию, а потом продать её за огромные деньги. Большая часть книги — воспоминания Эвелин, упакованные в тщательную, но не слишком душевную дрочь на ночь, то есть на киноиндустрию раннего Голливуда. Платья, странные фильмы, сомнительные романтические и сексуальные выборы, махровый патриархат, светская хроника и сплетни, сплетни, сплетни — вот это вот все. И вот в этом вот всем — Эвелин Хьюго, чьим главным достоинством является грудь (а грудь Эвелин Хьюго является, по совместительству, главным достоинством этой книги, по мнению её авторки, которая каждый десяток страниц не забывает нам напомнить, какое у Эвелин Хьюго главное достоинство), зачем-то за жизнь перебрала аж СЕМЬ мужей. Зачем? Как же так? Кто её настоящая любовь? Истина раскрывается нам где-то в первой трети книги: на самом деле бОльшая часть мужей — это всего лишь вывеска, прикрывающая якобы вечную и бесконечную любовь героини к своей подруге и коллеге по кино-цеху Селии.
Звучит, на самом-то деле, ужасно увлекательно — и стилистически, и сюжетно. Но у «Мужей» есть огромная, на мой взгляд, проблема: на самом деле, на эмоциональном уровне, это лесбийская драма является всего лишь вывеской для описания отношений (зачастую ужасных, абьюзивных, нудных, неприятных, проходных или функциональных) секс-бомбы Голливуда с мужиками. То, что должно было стать сердцем и причиной всего сюжета (Эвелин и Селия), вышло картонным и ложным: с тем же успехом Эвелин всю жизнь могла любить столб или машину. И из-за этого всю книжку не покидает чувство, что ты стала жертвой какого-то мелочного обмана: тебе вроде не обидно по-настоящему, но при этом и непонятно, зачем, ну зачем кассир в Пятерочке подложил тебе ряженку вместо творожка? Глупость какая-то. В итоге отношения с мужиками Эвелин всю книгу обладают какой-то сермяжной, мерзкой истинностью, а якобы великая любовь к женщине написана откровенно на отъебись: никакие события в книге не показывают эту любовь, она лишь раз за разом озвучивается — как будто голос объявляет остановки, но поезд никуда не едет. В послесловии, в общем, авторка сама объясняет: ей пришлось доказывать, что можно сделать историю о семи мужьях убедительной. И в этом все дело: это история о мужьях, а не о женщинах, хотя на словах постулируется обратное.
Все это похоже на очередной кейс «это неплохая история или она просто гейская?». Потому что каждый сюжетный поворот внутри отношений, которые (якобы) являются ключевыми для книги, на самом деле а) надуманный б) предсказуемый и в) к третьему повторению — уже, честно говоря, занудный. Если бы мы представили на месте Селии мужика, об эту драму можно было бы сломать зубы — но, вероятнее всего, такая книга попросту не была бы написана по причине своей исключительной неисключительности. Использование gay-вотэтоповоротов для вау-эффекта, чтобы продать историю про семерых мужиков — ну, честно говоря, такое.
(Говорят, Netflix подобрал книжку для экранизации: если исправят эту шляпу и сделают отношения Эвелин и Селии хоть сколько-нибудь эмоционально убедительными — я на такой скорости выезжаю, вы себе не представляете).
❤24🌚7🔥1
(1/3) Читала (да, это был hate reading) статью на Доксе о том, мол, что не так с фразой «идите на терапию» и причем тут капитализм. Статья мне показалась поверхностной (ну да, корпорации отправляют несчастных сотрудников на КПТ-терапию вместо того, чтобы менять условия труда, которые загоняют их в депрессию, ну да, индивидуализация коллективных проблем, ну да, ну и) — но мне захотелось еще зарубиться за стоицизм (на плечах которого и стоит КПТ-метод).
Авторка пишет: «Философия стоицизма заключается в правильной работе с разумом. Согласно стоикам, мир предельно рационален и наши эмоции — тоже, поэтому им можно подобрать правильное, рациональное объяснение. Иными словами, проблема всегда в нашей голове. Чтобы быть счастливым, нужно концентрироваться на полезных мыслях, а все, что находится не в нашей власти, по возможности игнорировать».
Вроде как, ну примерно, правильно — но смысл абзаца получается такой: рациональное (в современном, просвещенческом смысле — научный, логический ум, избавленный от помрачений эмоций) рулит эмоциональным, просто раскидываешь ситуацию по фактам и не идешь на поводу у чувств, изи катка. Мол, просто измени мышление, забей на глобальные дефициты и мировую несправедливость, хочешь быть счастливым — будь счастливым. Звучит, короче, мудаковато. И в этом смысле — очень непохоже на то, что стоицизм из себя представлял.
Изначальные постулаты стоицизма в авторстве Зенона звучат по-буддистски: не позволяйте удовольствию или боли мотивировать ваши действия; принимайте каждое мгновение таким, какое оно есть; живите добродетельной жизнью, справедливо относясь к другим; живите в согласии с природой; судите о человеке по его поступкам, а не по его словам. Всякое такое. Чтобы вести благостную жизнь (достичь eudaemonia, состояния эвдемонии: жить в согласии с собой и с миром, со своими ценностями и смыслом — в отличие от гедонистического взгляда на счастье как на максимизацию положительных эмоций и минимизацию негативных), мы должны проявить волю и не поддаваться соблазну всяких блестючек (гедония) или страху смерти (который и заставляет нас цепляться за гедонию). И это различие между гедонией и эвдемонией на самом деле ключевое: гедония вращается вокруг нашего эго, я (я удовлетворяю свои потребности и избегаю боли для себя), а эвдемония невозможна без включенности в нечто большее (я строю что-то, что нужно не только мне одному, я отдаю свои силы чему-то внешнему. В буддизме, например — избавлению не только себя, но всех людей от страдания).
Стоицизм считает, что стремление только к удовольствиям является ключевым источником несчастья, потому что удовольствия непостоянны, конечны, их можно у нас отнять. Такое счастье зависимо от внешних условий, на которые мы редко можем повлиять. Это, в конечном итоге, ограничивает свободу, делает нас вечной жертвой обстоятельств.
Авторка пишет: «Философия стоицизма заключается в правильной работе с разумом. Согласно стоикам, мир предельно рационален и наши эмоции — тоже, поэтому им можно подобрать правильное, рациональное объяснение. Иными словами, проблема всегда в нашей голове. Чтобы быть счастливым, нужно концентрироваться на полезных мыслях, а все, что находится не в нашей власти, по возможности игнорировать».
Вроде как, ну примерно, правильно — но смысл абзаца получается такой: рациональное (в современном, просвещенческом смысле — научный, логический ум, избавленный от помрачений эмоций) рулит эмоциональным, просто раскидываешь ситуацию по фактам и не идешь на поводу у чувств, изи катка. Мол, просто измени мышление, забей на глобальные дефициты и мировую несправедливость, хочешь быть счастливым — будь счастливым. Звучит, короче, мудаковато. И в этом смысле — очень непохоже на то, что стоицизм из себя представлял.
Изначальные постулаты стоицизма в авторстве Зенона звучат по-буддистски: не позволяйте удовольствию или боли мотивировать ваши действия; принимайте каждое мгновение таким, какое оно есть; живите добродетельной жизнью, справедливо относясь к другим; живите в согласии с природой; судите о человеке по его поступкам, а не по его словам. Всякое такое. Чтобы вести благостную жизнь (достичь eudaemonia, состояния эвдемонии: жить в согласии с собой и с миром, со своими ценностями и смыслом — в отличие от гедонистического взгляда на счастье как на максимизацию положительных эмоций и минимизацию негативных), мы должны проявить волю и не поддаваться соблазну всяких блестючек (гедония) или страху смерти (который и заставляет нас цепляться за гедонию). И это различие между гедонией и эвдемонией на самом деле ключевое: гедония вращается вокруг нашего эго, я (я удовлетворяю свои потребности и избегаю боли для себя), а эвдемония невозможна без включенности в нечто большее (я строю что-то, что нужно не только мне одному, я отдаю свои силы чему-то внешнему. В буддизме, например — избавлению не только себя, но всех людей от страдания).
Стоицизм считает, что стремление только к удовольствиям является ключевым источником несчастья, потому что удовольствия непостоянны, конечны, их можно у нас отнять. Такое счастье зависимо от внешних условий, на которые мы редко можем повлиять. Это, в конечном итоге, ограничивает свободу, делает нас вечной жертвой обстоятельств.
❤25❤🔥6👍3
(2/3) Альберт Эллис, создатель рационально-эмоциональной поведенческой терапии, принес в современную психотерапию идеи стоицизма: он считал, что эмоциональные проблемы вызваны не внешними событиями, а «нашими иррациональными представлениями об этих событиях». Эта идея была напрямую выписана у Эпиктета, философа-стоика, который топил за то, чтобы мы четко отдавали себе отчет в том, что нам подвластно, а что — нет, и переживали только о первых вещах: наших представлениях о внешних событиях, а не о самих событиях, которые непредсказуемы и изменчивы. Иными словами, например, если на нас наорала бабка в автобусе, и мы сидим злимся на бабку — мы привязываемся к событию внешнего мира, на которое мы не можем повлиять. Это страдание ума, и источник этого страдания — не бабка, а явление в нашем уме, то есть наше суждение, наше представление о бабке, о себе и о всей ситуации. И в нашей власти только одно — это представление изменить.
КПТ следует за той же логикой: наши эмоции — это наши чувства, которые мы осмысляем концептуально, через суждения, которые мы привыкли формулировать на основе прошлого опыта. И мы можем изменять наши суждения: не подавлять автоматические реакции (наорала бабка? пропишу-ка ей в кумпол), а концептуализировать их, описывать их логически (наорала бабка? хочу прописать ей в кумпол. а почему я так хочу? какое чувство вызывает во мне такую реакцию?). Это способ вырваться из не-агентного существования, где мы — просто безвольные исполнители собственных автоматизмов, которые сформировались бог весть когда и уж точно без нашего осознанного ведома. То, как мы испытываем какое-то чувство, неотделимо от контекста, который его вызывает: например, если у нас болит спина просто так, мы чувствуем себя старой развалиной; но если у нас болит спина после персонального рекорда по поднятию тяжестей, мы чувствуем себя классно. Это одна и та же боль, но контекст в этом смысле роляет — он буквально меняет нашу воспринимаемую реальность. А другой-то никакой и нет.
Поэтому стоическая практика — суть наблюдение за собой, своим мышлением и своими реакциями. Не для того, чтобы рационально их раскидать по полочкам — это просто техника; конечная цель — распознать свои деструктивные модели мышления и изменить опыт проживания жизни в пользу эвдемонического. Куда уже «вложено», как мы помним, нечто большее, чем я. И в этом смысле, конечно, стоицизм много к чему эффективно можно приложить, не только к психотерапии.
КПТ следует за той же логикой: наши эмоции — это наши чувства, которые мы осмысляем концептуально, через суждения, которые мы привыкли формулировать на основе прошлого опыта. И мы можем изменять наши суждения: не подавлять автоматические реакции (наорала бабка? пропишу-ка ей в кумпол), а концептуализировать их, описывать их логически (наорала бабка? хочу прописать ей в кумпол. а почему я так хочу? какое чувство вызывает во мне такую реакцию?). Это способ вырваться из не-агентного существования, где мы — просто безвольные исполнители собственных автоматизмов, которые сформировались бог весть когда и уж точно без нашего осознанного ведома. То, как мы испытываем какое-то чувство, неотделимо от контекста, который его вызывает: например, если у нас болит спина просто так, мы чувствуем себя старой развалиной; но если у нас болит спина после персонального рекорда по поднятию тяжестей, мы чувствуем себя классно. Это одна и та же боль, но контекст в этом смысле роляет — он буквально меняет нашу воспринимаемую реальность. А другой-то никакой и нет.
Поэтому стоическая практика — суть наблюдение за собой, своим мышлением и своими реакциями. Не для того, чтобы рационально их раскидать по полочкам — это просто техника; конечная цель — распознать свои деструктивные модели мышления и изменить опыт проживания жизни в пользу эвдемонического. Куда уже «вложено», как мы помним, нечто большее, чем я. И в этом смысле, конечно, стоицизм много к чему эффективно можно приложить, не только к психотерапии.
❤18👍7❤🔥3