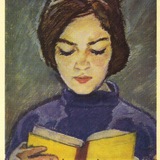В соответствии с женской гендерной ролью мы должны прежде всего заботиться о других и ухаживать за ними. Но, выполняя эту роль, мы рискуем полностью в ней раствориться, если не будем столь же активно отвечать на собственные потребности. В противном случае мы уподобляемся паукам-матрифагам — представители этого вида насекомых питаются своими матерями. Да, руки-ноги нам никто не откусывает, но поглощаются наши эмоциональные и психологические резервы, и для самих себя ничего не остается.
И это уже происходит, по крайней мере с некоторыми из нас. Сегодня 80% родителей-одиночек — женщины, а это значит, что матери гораздо чаще отцов берут на себя основную ответственность за воспитание детей. Даже в семьях с двумя родителями, где и мать и отец работают полный день — наиболее распространенная форма устройства современных семей, — жены выполняют примерно в два раза больше работы по уходу за детьми и домашнему хозяйству. Это происходит не только потому, что мужчины, как правило, зарабатывают больше женщин. Когда женщины начинают зарабатывать больше денег, чем их мужья, они на самом деле работают по дому больше, а не меньше, чтобы не испортить образ хорошей жены. Они также тратят больше времени на координацию семейных дел, планирование праздников, организацию визитов к врачу, посещение родственников и так далее. В результате четыре из десяти работающих матерей отмечают, что всегда куда-то спешат и времени на себя практически не остается. В этой бешеной гонке, когда нам приходится одновременно заниматься детьми и назначать деловые встречи, готовить еду и готовиться к важному совещанию, мы изнуряем себя, теряем драгоценную энергию.
Женщины также несут основное бремя заботы о других членах семьи. Мы на 50% чаще, чем мужчины, становимся сиделками для больного супруга или пожилого родственника, страдающего болезнью Альцгеймера, деменцией или раком. Мы также чаще мужчин жалуемся на негативные последствия такой постоянной заботы — беспокойство, стресс, депрессию, ухудшение физического здоровья и снижение качества жизни. Затаенная обида, которую испытывают многие женщины, особенно когда мужчины не разделяют с ними бремя домашних забот, приводит к напряжению и недовольству. Так, замужние женщины, которые работают полный день и считают распределение домашних обязанностей несправедливым, испытывают больший гнев и разочарование, а также более склонны к выгоранию, чем те, кто делит хозяйственные заботы поровну.
Хотя мужчины тоже заботятся о детях, супругах и родственниках, от них ждут куда меньшего, чем от женщин. А когда мужчина все же берет на себя больше обязанностей, его восхваляют так, будто он пожертвовал почку. История моей коллеги Стефани, матери троих детей, старшей из которых еще нет и восьми лет, прекрасно иллюстрирует абсурд ситуации. Она повела двух старших девочек в торговый центр купить одежду к школе, а ее муж, Майк, остался дома с малышом. Было довольно сложно проследить за тем, чтобы ни одна из девочек не потерялась, пока они переходили из магазина в магазин, тем более что Стефани несла несколько пакетов. В одном из магазинов все трое втиснулись в маленькую кабинку, где старшая примеряла одежду. Младшей девочке каким-то образом удалось незаметно пробраться в соседнюю кабинку, и до Стефани донесся недовольный женский голос: «Вы не могли бы получше следить за своими детьми?» Ей стало стыдно, как будто она не справилась с ролью матери. Она вернулась домой совершенно измученной. Майк встречал их невероятно довольный собой. «Как прошел твой день?» — спросила она. «Отлично! — весело ответил он. — Я посадил Тайлера в рюкзак-переноску и сходил с ним за продуктами, а в очереди в кассу пожилая пара сказала мне, какой я замечательный отец!» Стефани едва сдержалась, чтобы не сказать: «Если бы только у меня все так легко получалось!»
И это уже происходит, по крайней мере с некоторыми из нас. Сегодня 80% родителей-одиночек — женщины, а это значит, что матери гораздо чаще отцов берут на себя основную ответственность за воспитание детей. Даже в семьях с двумя родителями, где и мать и отец работают полный день — наиболее распространенная форма устройства современных семей, — жены выполняют примерно в два раза больше работы по уходу за детьми и домашнему хозяйству. Это происходит не только потому, что мужчины, как правило, зарабатывают больше женщин. Когда женщины начинают зарабатывать больше денег, чем их мужья, они на самом деле работают по дому больше, а не меньше, чтобы не испортить образ хорошей жены. Они также тратят больше времени на координацию семейных дел, планирование праздников, организацию визитов к врачу, посещение родственников и так далее. В результате четыре из десяти работающих матерей отмечают, что всегда куда-то спешат и времени на себя практически не остается. В этой бешеной гонке, когда нам приходится одновременно заниматься детьми и назначать деловые встречи, готовить еду и готовиться к важному совещанию, мы изнуряем себя, теряем драгоценную энергию.
Женщины также несут основное бремя заботы о других членах семьи. Мы на 50% чаще, чем мужчины, становимся сиделками для больного супруга или пожилого родственника, страдающего болезнью Альцгеймера, деменцией или раком. Мы также чаще мужчин жалуемся на негативные последствия такой постоянной заботы — беспокойство, стресс, депрессию, ухудшение физического здоровья и снижение качества жизни. Затаенная обида, которую испытывают многие женщины, особенно когда мужчины не разделяют с ними бремя домашних забот, приводит к напряжению и недовольству. Так, замужние женщины, которые работают полный день и считают распределение домашних обязанностей несправедливым, испытывают больший гнев и разочарование, а также более склонны к выгоранию, чем те, кто делит хозяйственные заботы поровну.
Хотя мужчины тоже заботятся о детях, супругах и родственниках, от них ждут куда меньшего, чем от женщин. А когда мужчина все же берет на себя больше обязанностей, его восхваляют так, будто он пожертвовал почку. История моей коллеги Стефани, матери троих детей, старшей из которых еще нет и восьми лет, прекрасно иллюстрирует абсурд ситуации. Она повела двух старших девочек в торговый центр купить одежду к школе, а ее муж, Майк, остался дома с малышом. Было довольно сложно проследить за тем, чтобы ни одна из девочек не потерялась, пока они переходили из магазина в магазин, тем более что Стефани несла несколько пакетов. В одном из магазинов все трое втиснулись в маленькую кабинку, где старшая примеряла одежду. Младшей девочке каким-то образом удалось незаметно пробраться в соседнюю кабинку, и до Стефани донесся недовольный женский голос: «Вы не могли бы получше следить за своими детьми?» Ей стало стыдно, как будто она не справилась с ролью матери. Она вернулась домой совершенно измученной. Майк встречал их невероятно довольный собой. «Как прошел твой день?» — спросила она. «Отлично! — весело ответил он. — Я посадил Тайлера в рюкзак-переноску и сходил с ним за продуктами, а в очереди в кассу пожилая пара сказала мне, какой я замечательный отец!» Стефани едва сдержалась, чтобы не сказать: «Если бы только у меня все так легко получалось!»
😢92❤27👍5🔥1
Это типичная история. Женщины, занимаясь детьми, могут делать тройное сальто назад, и никто даже не заметит этого, кроме тех случаев, когда видно, что она не справляется. Мужчина занимается детьми и домашними делами в два раза меньше, и его считают героем.
Хотя забота о других более чем осмысленна, она не приносит удовольствия, если мы не уравновешиваем ее заботой о себе.
Кристин Нефф
Внутренняя сила. Как заявить о себе во весь голос и научиться отстаивать свои интересы
Хотя забота о других более чем осмысленна, она не приносит удовольствия, если мы не уравновешиваем ее заботой о себе.
Кристин Нефф
Внутренняя сила. Как заявить о себе во весь голос и научиться отстаивать свои интересы
💯119❤17😢8
Характеристики семейного мифа представляют, по сути, характеристики дискурсивного образования:
1) миф обеспечивает «практику послушания» через озвучивание убеждений о том, что «нормально» или «принято», тем самым осуществляя контроль за стабильностью в семейной системе;
2) миф ориентирован не на учет индивидуальных различий, уникальности каждого, а на согласование идеализированных представлений членов семьи;
3) погруженный в семейную коммуникацию, миф как дискурс определяет представления человека о мире, его мнения, установки, интенции, которые представляют собой слепок картины мира, сформировавшейся в семье, и инсталлировавшийся в мировоззрение отдельно взятого ее члена. « … как только мы определили, чем является этот мир, мы, тем самым, уже неявно предпочли некоторые способы жизнедеятельности (формы жизни) всем прочим».
4) Перемещаясь по мифологической конструкции через отстраненную (критическую) позицию благодаря иным знаково-символическим конструкциям, появляется собственный текст (нарратив), как предпочитаемая история своей жизни, свободная от чужих смыслов (дискурсов).
На основании проделанного анализа и выделенных в результате признаков, предложим следующий вариант определения семейного мифа. Семейный миф — дискурс, воспроизводящийся в семейной коммуникации в виде не имеющих очевидного авторства убеждений, требующих их безусловного усвоения, функция которого заключается в поддержании гомеостаза семейной системы и соответствия критериям семейной идентификации.
Семейная история как гипертекст, в который в том числе встроен семейный миф, транслирует ребенку основные ценностно-смысловые ориентиры, или, как обозначает их Е.Е. Сапогова, «символы социально-культурного мироустройства». Будучи интериоризированными, они отстраивают индивидуальную картину мира. В таком контексте «сама личность оказывается иерархией дискурсов: человек никогда не ведет индивидуальную игру, скорее, он является той сценой, на которой свою игру разыгрывают социальные дискурсы».
Вместе с тем выше уже была обозначена диалектическая природа мифа. Создавая разрыв между тем, что «надо» и тем, что действительно имеет ценность и несет смысл для человека, семейный миф становится своего рода меткой-трамплином, который дает возможность выполнить функцию поиска человеком самого себя и самоидентификации. Рамка как граница, создаваемая семейным мифом, одновременно провоцирует человека занять собственную авторскую позицию по отношению к транслируемой само собой разумеющейся идее, «когда доминирующие нарративы не позволяют … прожить свои собственные предпочтительные нарративы, или когда человек активно участвует в воплощении историй, которые он находит бесполезными».
Практика подчинения власти семейного мифа, как доминирующего дискурса, теряет контроль над человеком, когда в нарративной беседе консультант предлагает занять позицию выбора «по отношению к бесполезным для него метанарративам, благодаря чему он сможет противостоять им, получив тем самым возможность переписать свою историю так, как ему будет удобно»
Елфимова М.М.
Понимание и определение семейного мифа как дискурса
1) миф обеспечивает «практику послушания» через озвучивание убеждений о том, что «нормально» или «принято», тем самым осуществляя контроль за стабильностью в семейной системе;
2) миф ориентирован не на учет индивидуальных различий, уникальности каждого, а на согласование идеализированных представлений членов семьи;
3) погруженный в семейную коммуникацию, миф как дискурс определяет представления человека о мире, его мнения, установки, интенции, которые представляют собой слепок картины мира, сформировавшейся в семье, и инсталлировавшийся в мировоззрение отдельно взятого ее члена. « … как только мы определили, чем является этот мир, мы, тем самым, уже неявно предпочли некоторые способы жизнедеятельности (формы жизни) всем прочим».
4) Перемещаясь по мифологической конструкции через отстраненную (критическую) позицию благодаря иным знаково-символическим конструкциям, появляется собственный текст (нарратив), как предпочитаемая история своей жизни, свободная от чужих смыслов (дискурсов).
На основании проделанного анализа и выделенных в результате признаков, предложим следующий вариант определения семейного мифа. Семейный миф — дискурс, воспроизводящийся в семейной коммуникации в виде не имеющих очевидного авторства убеждений, требующих их безусловного усвоения, функция которого заключается в поддержании гомеостаза семейной системы и соответствия критериям семейной идентификации.
Семейная история как гипертекст, в который в том числе встроен семейный миф, транслирует ребенку основные ценностно-смысловые ориентиры, или, как обозначает их Е.Е. Сапогова, «символы социально-культурного мироустройства». Будучи интериоризированными, они отстраивают индивидуальную картину мира. В таком контексте «сама личность оказывается иерархией дискурсов: человек никогда не ведет индивидуальную игру, скорее, он является той сценой, на которой свою игру разыгрывают социальные дискурсы».
Вместе с тем выше уже была обозначена диалектическая природа мифа. Создавая разрыв между тем, что «надо» и тем, что действительно имеет ценность и несет смысл для человека, семейный миф становится своего рода меткой-трамплином, который дает возможность выполнить функцию поиска человеком самого себя и самоидентификации. Рамка как граница, создаваемая семейным мифом, одновременно провоцирует человека занять собственную авторскую позицию по отношению к транслируемой само собой разумеющейся идее, «когда доминирующие нарративы не позволяют … прожить свои собственные предпочтительные нарративы, или когда человек активно участвует в воплощении историй, которые он находит бесполезными».
Практика подчинения власти семейного мифа, как доминирующего дискурса, теряет контроль над человеком, когда в нарративной беседе консультант предлагает занять позицию выбора «по отношению к бесполезным для него метанарративам, благодаря чему он сможет противостоять им, получив тем самым возможность переписать свою историю так, как ему будет удобно»
Елфимова М.М.
Понимание и определение семейного мифа как дискурса
🔥26💯8👍6
Студентки корейских женских университетов протестуют против попыток вводить совместное обучение
В Южной Корее работают 7 чисто женских университетов. Когда-то их основывали, чтобы продвигать образование для женщин в патриархальном обществе. Раньше таких заведений было даже больше, но некоторые со временем перешли на совместное обучение. Журналистка The Korea Times Ли Хэ-рин задаётся вопросом, нужны ли до сих пор женские университеты. Если посмотреть на демографическую статистику, то молодёжи студенческого возраста с каждым годом становится всё меньше, поэтому вузам труднее набирать учащихся. Однако говорят, что в женских заведениях такой проблемы нет. В академическом сообществе идею женских вузов поддерживают, так как именно там есть специальные курсы по изучению гендерной дискриминации, гендерного насилия и проблем меньшинств. Кроме того, male-free учреждения являются безопасными и свободными пространствами для девушек.
В 2022 году вышла поправка в Закон о высшем образовании. Она позволяет вузам открывать особые курсы только для иностранных студентов/к. Этой лазейкой хотят пользоваться некоторые женские вузы.
Недовольство изначально вспыхнуло в Женском университете Донгдук. Ранее руководство вуза начало разговоры о возможности открыть курсы для иностранных учащихся. В этом году, как теперь стало известно, на две программы приняли 6 студентов-парней. Вуз говорит, что это дополнительные курсы, которые не затрагивают обычные квоты, которые только для женщин. Потом была вброшена идея о полном переходе на совместное обучение из-за дефицита девушек. Такую мысль включили в план развития колледжа дизайна и колледжа исполнительских искусств.
7 ноября студенческий совет Донгдука выступил за прекращение разговоров о переходе к совместному обучению. 11 ноября в вузе начались акции протеста. На кампусе вывешивали манифесты, на стенах жидкой краской рисовали слоганы (см. фото), проводили подписание петиции, демонстрации и сидячие забастовки — передаёт информационная сеть University World News. В здании вуза начались оккупаи, студентки стали бойкотировать лекции. Они забрасывали яйцами и другой едой бюст основателя университета, раскладывали символические похоронные венки. Руководство в какой-то момент вызвало полицию, когда протестующие в ответ на нежелание начальства вести с ними переговоры начали бить по стенам и другим объектам бейсбольными битами и огнетушителями. В Сеть попало видео, на котором офицер полиции обратился к девушкам: «В будущем вы станете учительницами, заведёте детей, будете их воспитывать». Те в ответ закричали, что не будут всего этого делать.
Стоит вспомнить, что в 2018 году в этот университет ворвался голый парень и делал всякие непотребства, фотографии которых потом залил в интернет. В минувший вторник протестующие студентки создали Комитет экстренного реагирования ради борьбы за сепарацию и безопасное пространство, свободное от сексизма и насилия. Демонстрации и бойкоты будут продолжаться до победного конца!
К 13 ноября студсоветы 5 из 7 женских университетов Кореи выразили солидарность с протестующими в Донгдуке. Во вторник студентки университета Кванджу встретились с руководством, которое ввело в этом году специальные программы для иностранных и взрослых студентов/к любого пола-гендера. Начальство заверило девушек, что вуз в целом не перестанет быть чисто женским.
Отдельный протест разгорелся 12 ноября в Женском университете Сунгшин. Девушки недовольны созданием нового отдела, в котором смогут учиться мужчины-иностранцы. Протестующие требуют отменить это решение. Они стали раскладывать студенческие куртки у входа в главное здание. А в пятницу, пишет издание JoongAng Daily, свыше тысячи человек поучаствовали в массовом митинге. Стены обклеивали плакатами, также раскладывали похоронные венки.
РФО «ОНА»
В Южной Корее работают 7 чисто женских университетов. Когда-то их основывали, чтобы продвигать образование для женщин в патриархальном обществе. Раньше таких заведений было даже больше, но некоторые со временем перешли на совместное обучение. Журналистка The Korea Times Ли Хэ-рин задаётся вопросом, нужны ли до сих пор женские университеты. Если посмотреть на демографическую статистику, то молодёжи студенческого возраста с каждым годом становится всё меньше, поэтому вузам труднее набирать учащихся. Однако говорят, что в женских заведениях такой проблемы нет. В академическом сообществе идею женских вузов поддерживают, так как именно там есть специальные курсы по изучению гендерной дискриминации, гендерного насилия и проблем меньшинств. Кроме того, male-free учреждения являются безопасными и свободными пространствами для девушек.
В 2022 году вышла поправка в Закон о высшем образовании. Она позволяет вузам открывать особые курсы только для иностранных студентов/к. Этой лазейкой хотят пользоваться некоторые женские вузы.
Недовольство изначально вспыхнуло в Женском университете Донгдук. Ранее руководство вуза начало разговоры о возможности открыть курсы для иностранных учащихся. В этом году, как теперь стало известно, на две программы приняли 6 студентов-парней. Вуз говорит, что это дополнительные курсы, которые не затрагивают обычные квоты, которые только для женщин. Потом была вброшена идея о полном переходе на совместное обучение из-за дефицита девушек. Такую мысль включили в план развития колледжа дизайна и колледжа исполнительских искусств.
7 ноября студенческий совет Донгдука выступил за прекращение разговоров о переходе к совместному обучению. 11 ноября в вузе начались акции протеста. На кампусе вывешивали манифесты, на стенах жидкой краской рисовали слоганы (см. фото), проводили подписание петиции, демонстрации и сидячие забастовки — передаёт информационная сеть University World News. В здании вуза начались оккупаи, студентки стали бойкотировать лекции. Они забрасывали яйцами и другой едой бюст основателя университета, раскладывали символические похоронные венки. Руководство в какой-то момент вызвало полицию, когда протестующие в ответ на нежелание начальства вести с ними переговоры начали бить по стенам и другим объектам бейсбольными битами и огнетушителями. В Сеть попало видео, на котором офицер полиции обратился к девушкам: «В будущем вы станете учительницами, заведёте детей, будете их воспитывать». Те в ответ закричали, что не будут всего этого делать.
Стоит вспомнить, что в 2018 году в этот университет ворвался голый парень и делал всякие непотребства, фотографии которых потом залил в интернет. В минувший вторник протестующие студентки создали Комитет экстренного реагирования ради борьбы за сепарацию и безопасное пространство, свободное от сексизма и насилия. Демонстрации и бойкоты будут продолжаться до победного конца!
К 13 ноября студсоветы 5 из 7 женских университетов Кореи выразили солидарность с протестующими в Донгдуке. Во вторник студентки университета Кванджу встретились с руководством, которое ввело в этом году специальные программы для иностранных и взрослых студентов/к любого пола-гендера. Начальство заверило девушек, что вуз в целом не перестанет быть чисто женским.
Отдельный протест разгорелся 12 ноября в Женском университете Сунгшин. Девушки недовольны созданием нового отдела, в котором смогут учиться мужчины-иностранцы. Протестующие требуют отменить это решение. Они стали раскладывать студенческие куртки у входа в главное здание. А в пятницу, пишет издание JoongAng Daily, свыше тысячи человек поучаствовали в массовом митинге. Стены обклеивали плакатами, также раскладывали похоронные венки.
РФО «ОНА»
🔥90👍12❤8
Радикально-феминистская традиция базируется на теории патриархата, начало разработке которой положила Кейт Миллет в своей работе «Политика пола». В ней речь идет о понимании патриархата как мужского господства, в основе которого лежит угнетение «классом» мужчин «класса» женщин. При этом анализ этого угнетения должен опираться на женский опыт, что предполагает выделение и мужского опыта. В отношении анализа андроцентризма эта теория обладает рядом преимуществ. Во-первых, опора на категории женского и мужского опыта означает, что каждое явление или утверждение должно быть локализовано в первом и втором соответственно. Так, дихотомия «публичное (приватное)» обнаруживает свой андроцентризм, поскольку проявляется как таковая только в мужском опыте и совершенно иначе предстает при попытке локализации ее в женском (скажем, приватная сфера для женщин оказывается не областью подлинно личного, а местом принуждения, легитимного по отношению к ним мужского насилия и труда по обеспечению воспроизводства жизни).
Во-вторых, анализ общества как патриархатной системы предполагает, что положение в ней женщин - половины общества - является фундаментальным системообразующим фактором. Это означает, что мы не можем удовлетвориться простой констатацией «сексизма» автора, отказывающегося применять к женщинам принципы, постулируемые им в качестве универсальных. Нам необходимо зайти дальше в своем анализе, чтобы выявить то, как именно видение общества, предлагаемое андроцентристским теоретиком, вмещает (или не вмещает) в себя этот отказ. Противоречия, обнаруживаемые на данном уровне, это не только противоречия, возникающие в связи с утверждением универсальности принципов и отказом в универсальном же их применении, а противоречия в самом видении общества, фундаментальные для теории в целом. Так, приверженцы договорной теории, отказывая женщинам в необходимых способностях для заключения первоначального договора, всегда признают способность женщин заключать брачный договор, защищая тем самым его легитимность. Андроцентричное прочтение этих теорий, таким образом, скрывает не только непоследовательность в применении авторами постулируемых универсальными принципов, но и затемняет сущность брачного договора и двойственность положения женщин не только в теории, но и в самом обществе, идеологию которого она формирует.
Разделение между марксистским и социалистическим направлениями феминизма обусловлено стремлением феминисток-социалисток трансформировать марксистскую теорию с учетом достижений радикально-феминистской теории патриархата. Стоит отметить, что первоначально теория патриархата действительно мало внимания уделяла экономике, сосредоточиваясь на анализе мужского господства в личной сфере, которое игнорировало левое движение 60-х гг. XX в. в Америке в теории и воспроизводило на практике. Однако это не означает, что теория патриархата не способна вместить в себя анализ экономического фундамента угнетения. Тем не менее сторонницы социалистического направления сосредоточивают свое внимание на примирении двух субстанций (патриархата и капитализма) в форме двух систем или системы капиталистического патриархата, в основе которой лежит фактор социального воспроизводства.
Эта установка, на наш взгляд, мало способствует преодолению андроцентризма, так как, во-первых, ее сторонницы, сосредоточиваясь на развитии заложенных в марксизме прозрений, не уделяют достаточного внимания полноценной ревизии своей марксистской основы, а во-вторых, объединение двух теорий в конечном итоге происходит на основе марксизма, что проявляется в понимании экономического фактора как основополагающего в угнетении женщин. Последнее предопределяет то обстоятельство, что данное направление в принципе уделяет мало внимания анализу теорий общества на предмет их андроцентристской обусловленности, ведь андроцентризм - это атрибут, прежде всего, идеологии патриархатного общества, а не его экономической системы.
Во-вторых, анализ общества как патриархатной системы предполагает, что положение в ней женщин - половины общества - является фундаментальным системообразующим фактором. Это означает, что мы не можем удовлетвориться простой констатацией «сексизма» автора, отказывающегося применять к женщинам принципы, постулируемые им в качестве универсальных. Нам необходимо зайти дальше в своем анализе, чтобы выявить то, как именно видение общества, предлагаемое андроцентристским теоретиком, вмещает (или не вмещает) в себя этот отказ. Противоречия, обнаруживаемые на данном уровне, это не только противоречия, возникающие в связи с утверждением универсальности принципов и отказом в универсальном же их применении, а противоречия в самом видении общества, фундаментальные для теории в целом. Так, приверженцы договорной теории, отказывая женщинам в необходимых способностях для заключения первоначального договора, всегда признают способность женщин заключать брачный договор, защищая тем самым его легитимность. Андроцентричное прочтение этих теорий, таким образом, скрывает не только непоследовательность в применении авторами постулируемых универсальными принципов, но и затемняет сущность брачного договора и двойственность положения женщин не только в теории, но и в самом обществе, идеологию которого она формирует.
Разделение между марксистским и социалистическим направлениями феминизма обусловлено стремлением феминисток-социалисток трансформировать марксистскую теорию с учетом достижений радикально-феминистской теории патриархата. Стоит отметить, что первоначально теория патриархата действительно мало внимания уделяла экономике, сосредоточиваясь на анализе мужского господства в личной сфере, которое игнорировало левое движение 60-х гг. XX в. в Америке в теории и воспроизводило на практике. Однако это не означает, что теория патриархата не способна вместить в себя анализ экономического фундамента угнетения. Тем не менее сторонницы социалистического направления сосредоточивают свое внимание на примирении двух субстанций (патриархата и капитализма) в форме двух систем или системы капиталистического патриархата, в основе которой лежит фактор социального воспроизводства.
Эта установка, на наш взгляд, мало способствует преодолению андроцентризма, так как, во-первых, ее сторонницы, сосредоточиваясь на развитии заложенных в марксизме прозрений, не уделяют достаточного внимания полноценной ревизии своей марксистской основы, а во-вторых, объединение двух теорий в конечном итоге происходит на основе марксизма, что проявляется в понимании экономического фактора как основополагающего в угнетении женщин. Последнее предопределяет то обстоятельство, что данное направление в принципе уделяет мало внимания анализу теорий общества на предмет их андроцентристской обусловленности, ведь андроцентризм - это атрибут, прежде всего, идеологии патриархатного общества, а не его экономической системы.
👍16❤6
Сопоставление радикально-феминистской и социалистической традиции ставит перед нами вопрос фундамента для осуществления критики. Обе традиции имеют различное видение общества как целого и им обеим противостоит постмодернистская форма феминистской теории, отрицающая любую целостную теорию общества и релятивизирующая истину. Однако, отказываясь от целостной теории, от утверждения собственного видения общества, мы оказываемся лишенными фундамента для критики таких всеобъемлющих феноменов, как андроцентризм. Указанный подход в принципе не предполагает критику андроцентристских теорий общества с целью их реконструкции и углубления нашего знания о последнем.
Критика андроцентризма в феминистской теории не представляет собой оформленного проекта. Андроцентристские теории общества критикуются постольку, поскольку их подлинное содержание актуально и способствует осмыслению современного общества. В силу тотальности андроцентризма критика его проявлений в социально-философских теориях требует особенного подхода, условиям которого удовлетворяет отнюдь не каждое направление феминистской теории. Во-первых, критика андроцентризма нуждается в отличном от своего объекта теории ценностном и теоретическом фундаменте, будучи осуществляемой «извне». Во-вторых, она должна включать в себя категории женского и мужского опыта, препятствующие универсализации специфически мужского видения общества. В-третьих, эта критика предполагает наличие собственного видения общества, ориентирующего нас в отношении значимых элементов общественного устройства, положение которых в критикуемой теории должна выявить ее реконструкция. В полной мере этим критериям удовлетворяет только теория патриархата, которая, рассматривая общество с перспективы взаимодействия двух групп - женщин и мужчин, - не оставляет места для идеализированного индивида и прочих постулируемых « гендерно-нейтральными» феноменов (под которые и маскируется андроцентризм). В аспекте критики андроцентризма теория патриархата представляет собой, пожалуй, самый эффективный на данный момент инструмент. Будучи созданной в андроцентристском обществе, она не может в полной мере исключать андроцентрист-ские утверждения, но тем не менее ее фундамент определяет методологию, которая в наибольшей степени способствует этому.
Таиса Кострицкая
Феминистские подходы к критике андроцентристских теорий общества: методологический аспект
Критика андроцентризма в феминистской теории не представляет собой оформленного проекта. Андроцентристские теории общества критикуются постольку, поскольку их подлинное содержание актуально и способствует осмыслению современного общества. В силу тотальности андроцентризма критика его проявлений в социально-философских теориях требует особенного подхода, условиям которого удовлетворяет отнюдь не каждое направление феминистской теории. Во-первых, критика андроцентризма нуждается в отличном от своего объекта теории ценностном и теоретическом фундаменте, будучи осуществляемой «извне». Во-вторых, она должна включать в себя категории женского и мужского опыта, препятствующие универсализации специфически мужского видения общества. В-третьих, эта критика предполагает наличие собственного видения общества, ориентирующего нас в отношении значимых элементов общественного устройства, положение которых в критикуемой теории должна выявить ее реконструкция. В полной мере этим критериям удовлетворяет только теория патриархата, которая, рассматривая общество с перспективы взаимодействия двух групп - женщин и мужчин, - не оставляет места для идеализированного индивида и прочих постулируемых « гендерно-нейтральными» феноменов (под которые и маскируется андроцентризм). В аспекте критики андроцентризма теория патриархата представляет собой, пожалуй, самый эффективный на данный момент инструмент. Будучи созданной в андроцентристском обществе, она не может в полной мере исключать андроцентрист-ские утверждения, но тем не менее ее фундамент определяет методологию, которая в наибольшей степени способствует этому.
Таиса Кострицкая
Феминистские подходы к критике андроцентристских теорий общества: методологический аспект
👍52
Фанфикшн в его современном виде — это определенная демократия чтения, реванш читателя, вырвавшего свое право на удовольствие из рук критика и издателя, а также из-под власти традиционно понимаемого автора.
Благодаря Интернету это страстное сотворчество читателей обрело не только возможность глобального распространения, но беспрецедентную видимость и открытость. Фанфикшн сегодня — это десятки тысяч людей по всему миру, которые непрестанно читают, пишут, комментируют, редактируют тексты и помогают друг другу советами, участвуют в литературных конкурсах и играх, заказывают друг другу излюбленные сюжеты и исполняют эти заявки, зарабатывают репутации, осваивают новые зоны удовольствия, такие как изобретение новых жанров/сюжетов в рамках одного фандома или освоение новых миров (переход в другой фандом) конкретным читателем.
<...>
Для русской литературоцентричной культуры, с ее пиететом перед классиками и «единственно верным» их прочтением, с культивированием школьной робости перед «великим текстом», само существование фанфикшн становится вызовом и имеет освобождающий эффект. Полагаю, говоря о том, что освобождение чтения и письма должно происходить одновременно, Ролан Барт был прав по отношению к чтению ничуть не меньше, чем по отношению к письму.
Когда Рита Фелски, со ссылками на Рикёра, говорит о литературе как об инструменте познания, о способе создания определенных конфигураций социального знания и способе мышления о мире, поначалу может показаться, что уж это-то точно не о фанфикшн, с его стремлением к описанию приключений в фантазийных пространствах и страстными романами между красивыми, умными, эмоциональными мужчинами. Но, конечно, дело обстоит ровно наоборот: фанфикшн как инструмент коммуникации в сообществе и как фикциональная рамка, построенная на большом, ситуативно подвижном наборе читательских конвенций, прекрасно подходит для размышления о вещах, беспокоящих читателей в повседневности, для осмысления и передачи социального опыта. Антураж волшебного мира с палочками и гиппогрифами, привлекая читателей, тем не менее не вводит их в заблуждение по поводу того, чему он оппозиционен, так же как этого не делает проанализированная выше остраняющая конструкция слэша, критическое значение которой если и не всегда артикулируется отчетливо, то чаще всего интуитивно понимается читателями и авторами.
Я бы даже сказала, наоборот, на фоне гиппогрифов познавательная и социально-критическая функция фанфикшн как литературного пространства делается более заметной. Наш собственный мир, просвечивающий, а то и вовсе выпирающий из-под покрывала условности, привлекает к себе внимание, запускает процессы рефлексии. Особенно сильно этот эффект дает о себе знать в ситуации сравнения, и здесь опять настройка оптики на локальный опыт приносит значимые результаты. Фанфикшн используется русскими авторами/читателями в том числе для осмысления и передачи социального опыта тех, кто родился и вырос на постсоветском пространстве, для его прямой или косвенной критики, а также, напротив, для поиска, сбора, бережного хранения тех элементов нашей реальности, идентификация с которыми не вызывает отторжения.
Наталья Самутина
Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта
Благодаря Интернету это страстное сотворчество читателей обрело не только возможность глобального распространения, но беспрецедентную видимость и открытость. Фанфикшн сегодня — это десятки тысяч людей по всему миру, которые непрестанно читают, пишут, комментируют, редактируют тексты и помогают друг другу советами, участвуют в литературных конкурсах и играх, заказывают друг другу излюбленные сюжеты и исполняют эти заявки, зарабатывают репутации, осваивают новые зоны удовольствия, такие как изобретение новых жанров/сюжетов в рамках одного фандома или освоение новых миров (переход в другой фандом) конкретным читателем.
<...>
Для русской литературоцентричной культуры, с ее пиететом перед классиками и «единственно верным» их прочтением, с культивированием школьной робости перед «великим текстом», само существование фанфикшн становится вызовом и имеет освобождающий эффект. Полагаю, говоря о том, что освобождение чтения и письма должно происходить одновременно, Ролан Барт был прав по отношению к чтению ничуть не меньше, чем по отношению к письму.
Когда Рита Фелски, со ссылками на Рикёра, говорит о литературе как об инструменте познания, о способе создания определенных конфигураций социального знания и способе мышления о мире, поначалу может показаться, что уж это-то точно не о фанфикшн, с его стремлением к описанию приключений в фантазийных пространствах и страстными романами между красивыми, умными, эмоциональными мужчинами. Но, конечно, дело обстоит ровно наоборот: фанфикшн как инструмент коммуникации в сообществе и как фикциональная рамка, построенная на большом, ситуативно подвижном наборе читательских конвенций, прекрасно подходит для размышления о вещах, беспокоящих читателей в повседневности, для осмысления и передачи социального опыта. Антураж волшебного мира с палочками и гиппогрифами, привлекая читателей, тем не менее не вводит их в заблуждение по поводу того, чему он оппозиционен, так же как этого не делает проанализированная выше остраняющая конструкция слэша, критическое значение которой если и не всегда артикулируется отчетливо, то чаще всего интуитивно понимается читателями и авторами.
Я бы даже сказала, наоборот, на фоне гиппогрифов познавательная и социально-критическая функция фанфикшн как литературного пространства делается более заметной. Наш собственный мир, просвечивающий, а то и вовсе выпирающий из-под покрывала условности, привлекает к себе внимание, запускает процессы рефлексии. Особенно сильно этот эффект дает о себе знать в ситуации сравнения, и здесь опять настройка оптики на локальный опыт приносит значимые результаты. Фанфикшн используется русскими авторами/читателями в том числе для осмысления и передачи социального опыта тех, кто родился и вырос на постсоветском пространстве, для его прямой или косвенной критики, а также, напротив, для поиска, сбора, бережного хранения тех элементов нашей реальности, идентификация с которыми не вызывает отторжения.
Наталья Самутина
Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта
❤54🔥11👍4❤🔥3
Your body, my choice
Когда Трамп был президентом, он назначил трех консервативных судей Верховного суда. В итоге это привело к отмене решения по делу «Роу против Уэйда» 1973 года.
По факту это стало концом федеральной защиты права на аборт. Штаты стали вольны сами принимать решения на этот счет, чем они и поспешили воспользоваться:
- 24 штата ограничили доступ к абортам, 14 из них запретили аборт даже в случаях изнасилования, инцеста и угрозы жизни женщины. К тюремному заключению на 99 лет и штрафу $100К за проведение аборта могут приговорить жещину, врача и всех медсестер.
- несколько штатов ввели запрет на аборты после шестой недели. В этот период женщина может еще не знать о беременности.
Результаты отмены
▪️ Кэнди Миллер. Штат Джоржия. Умерла дома. Она испугалась обращаться за медицинской помощью из-за запрета на аборт. У нее остались дочь и сын.
▪️ Эмбер Николь Турман. Штат Джорджия умирала в течение 20 часов. Ей было отказано в аборте, который мог спасти ее. У нее остался 6-летний сын.
▪️ Джоссели Барника. Штат Техас. Умерла после выкидыша, потому что врачи 40 часов откладывали ее лечение. У нее осталась дочь.
Что происходило в американском сегменте соцсетей после победы Трампа на выборах
➡️ В сети на X* на 4600% увеличилось количество упоминаний выражений:
- your body, my choice - твое тело, мой выбор
- get back in the kitchen - возвращайся на кухню
➡️ Пост Ника Фуэнтеса, подкастера, в сети X* «Твое тело — мой выбор. Навсегда» набрал 35 миллионов просмотров.
Your body, my choice. Forever.
➡️ В Facebook* фраза «твое тело, мой выбор» попала в тренды, и за 24 часа ее опубликовали 52 000 раз. Один родитель рассказал:
«Сегодня моей дочери трижды в кампусе сказали: «твое тело, МОЙ выбор». Друггая группа мальчиков сказала ей: «Сегодня спать с одним открытым глазом».
Today my daughter was told three separate times on campus ‘your body, MY choice.
‘sleep with one eye open tonight.
➡️ Количество постов об отмене 19-й поправки, выросло на 663% по сравнению с неделей до выборов.
➡️ 10 самых популярных на тот момент постов X* об отмене 19-й поправки, получили в общей сложности более 4 000 000 миллионов просмотров.
➡️ Часть сообщений в соцсетях содержала угрозы сексуального насилия в адрес женщин. Обнаружили 5 постов на X*, призывающих к созданию «отрядов по борьбе с изнасилованиями» или к «изнасилованию». Один из них набрал 18 000 просмотров и содержал фразу «твое тело — мой выбор».
“rape squads”
“rape”
➡️ Пост в сети Х* инфлюенсера Эндрю Тейта с заявлением: «Сегодня я видел женщину, переходившую дорогу, но не убрал ногу. Преимущество? У вас больше нет прав» набрал 688 000 просмотров менее чем за два часа.
I saw a woman crossing the road today but I just kept my foot down. Right of way? You no longer have rights.
➡️ Пост в сети Х* с заявлением «женщины угрожают сексуальными забастовками типа LMAO, как будто у вас есть право голоса» набрал 10 000 000 просмотров.
women threatening sex strikes like LMAO as if you have a say
Выводы?
На волне выданного агрессивному быдлу "разрешения" прогнозирую увеличение количества насильственных преступлений в адрес женщин, дальнейшее поражение женщин в правах, ухудшение финансового положения, увеличение смертности.
*Сети Х, Фейсбук - владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена. И проклята.
Alena Iva
Когда Трамп был президентом, он назначил трех консервативных судей Верховного суда. В итоге это привело к отмене решения по делу «Роу против Уэйда» 1973 года.
По факту это стало концом федеральной защиты права на аборт. Штаты стали вольны сами принимать решения на этот счет, чем они и поспешили воспользоваться:
- 24 штата ограничили доступ к абортам, 14 из них запретили аборт даже в случаях изнасилования, инцеста и угрозы жизни женщины. К тюремному заключению на 99 лет и штрафу $100К за проведение аборта могут приговорить жещину, врача и всех медсестер.
- несколько штатов ввели запрет на аборты после шестой недели. В этот период женщина может еще не знать о беременности.
Результаты отмены
▪️ Кэнди Миллер. Штат Джоржия. Умерла дома. Она испугалась обращаться за медицинской помощью из-за запрета на аборт. У нее остались дочь и сын.
▪️ Эмбер Николь Турман. Штат Джорджия умирала в течение 20 часов. Ей было отказано в аборте, который мог спасти ее. У нее остался 6-летний сын.
▪️ Джоссели Барника. Штат Техас. Умерла после выкидыша, потому что врачи 40 часов откладывали ее лечение. У нее осталась дочь.
Что происходило в американском сегменте соцсетей после победы Трампа на выборах
➡️ В сети на X* на 4600% увеличилось количество упоминаний выражений:
- your body, my choice - твое тело, мой выбор
- get back in the kitchen - возвращайся на кухню
➡️ Пост Ника Фуэнтеса, подкастера, в сети X* «Твое тело — мой выбор. Навсегда» набрал 35 миллионов просмотров.
Your body, my choice. Forever.
➡️ В Facebook* фраза «твое тело, мой выбор» попала в тренды, и за 24 часа ее опубликовали 52 000 раз. Один родитель рассказал:
«Сегодня моей дочери трижды в кампусе сказали: «твое тело, МОЙ выбор». Друггая группа мальчиков сказала ей: «Сегодня спать с одним открытым глазом».
Today my daughter was told three separate times on campus ‘your body, MY choice.
‘sleep with one eye open tonight.
➡️ Количество постов об отмене 19-й поправки, выросло на 663% по сравнению с неделей до выборов.
➡️ 10 самых популярных на тот момент постов X* об отмене 19-й поправки, получили в общей сложности более 4 000 000 миллионов просмотров.
➡️ Часть сообщений в соцсетях содержала угрозы сексуального насилия в адрес женщин. Обнаружили 5 постов на X*, призывающих к созданию «отрядов по борьбе с изнасилованиями» или к «изнасилованию». Один из них набрал 18 000 просмотров и содержал фразу «твое тело — мой выбор».
“rape squads”
“rape”
➡️ Пост в сети Х* инфлюенсера Эндрю Тейта с заявлением: «Сегодня я видел женщину, переходившую дорогу, но не убрал ногу. Преимущество? У вас больше нет прав» набрал 688 000 просмотров менее чем за два часа.
I saw a woman crossing the road today but I just kept my foot down. Right of way? You no longer have rights.
➡️ Пост в сети Х* с заявлением «женщины угрожают сексуальными забастовками типа LMAO, как будто у вас есть право голоса» набрал 10 000 000 просмотров.
women threatening sex strikes like LMAO as if you have a say
Выводы?
На волне выданного агрессивному быдлу "разрешения" прогнозирую увеличение количества насильственных преступлений в адрес женщин, дальнейшее поражение женщин в правах, ухудшение финансового положения, увеличение смертности.
*Сети Х, Фейсбук - владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена. И проклята.
Alena Iva
😢124💯23
Обсуждение категории «рассчитывать на себя» возникает в контексте проблематизации стабильности брака. Несмотря на то, что молодые женщины образованного среднего класса стремятся выстроить стабильные, «нормальные» отношения в долгосрочной перспективе, этапы которых планируются (брак, рождение ребенка, приобретение совместной собственности), они оценивают потенциальные риски брака, главным образом связанные с разводом. Логика прагматического индивидуализма позволяет женщинам представлять себя как субъектов, способных контролировать развитие брачного проекта:
Категория «рассчитывать только на себя» предполагает умение оперировать доступными ресурсами и возможностями для поддержания собственного благополучия и благополучия своих детей. В представленных ниже цитатах молодые женщины перечисляют источники стабильности, к которым относятся родительская семья, собственность, профессиональные позиции на рынке труда:
Таким образом, разделяя дискурс прагматического индивидуализма, информантки представляют себя независимыми субъектами, способными справляться с различными жизненными сложностями и прагматично оперирующими доступными ресурсами. Дискурс прагматического индивидуализма помогает справится с ситуацией потенциальной брачной нестабильности, экономической уязвимости, зависимости от доходов партнера и родительской семьи.
Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. «На других надейся, а сама не плошай». Прагматический индивидуализм как дискурсивная стратегия нормализации биографий молодых представительниц среднего класса
Только за свой счет выживать в случае развода. Я, конечно, могу рассчитывать на алименты, но мне не нравится, что сейчас очень часто бытует мнение, я читаю на Пикабу разные жизненные истории, что женщина считает, что ей должны, ей должен мужик, ей должны, кто-то еще должен. Соответственно, женщины разводятся, с мужика тянут алименты, мне это не нравится. У меня благо таких знакомых нет, и это чисто в теории, я сторонник того, что только сама.
(Мария, 31 год, замужем, ребенку 1 год)
Категория «рассчитывать только на себя» предполагает умение оперировать доступными ресурсами и возможностями для поддержания собственного благополучия и благополучия своих детей. В представленных ниже цитатах молодые женщины перечисляют источники стабильности, к которым относятся родительская семья, собственность, профессиональные позиции на рынке труда:
Я чувствую себя достаточно защищенной благодаря тому, что есть недвижимость, есть профессия, есть родители с двух сторон на ногах, есть муж, ребенок один — не больной.
(Наталья, 32 года, замужем, ребенку 4,5 года, ожидает второго ребенка)
Хотелось бы, чтобы помощь мужа была просто как... мне не хочется ее выпрашивать и слишком на нее рассчитывать—мало ли в каких отношениях мы могли бы развестись. Поэтому нет, я, наверно, склонна только на себя рассчитывать и на поддержку семьи —родительской в случае развода.
(Анжелика, 28 лет, замужем, ребенку 3,5 года)
Таким образом, разделяя дискурс прагматического индивидуализма, информантки представляют себя независимыми субъектами, способными справляться с различными жизненными сложностями и прагматично оперирующими доступными ресурсами. Дискурс прагматического индивидуализма помогает справится с ситуацией потенциальной брачной нестабильности, экономической уязвимости, зависимости от доходов партнера и родительской семьи.
Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. «На других надейся, а сама не плошай». Прагматический индивидуализм как дискурсивная стратегия нормализации биографий молодых представительниц среднего класса
😢50❤15💯14
Берясь за книгу, читательницы, по их словам, на время перестают служить членам своей семьи и погружаются в занятие, единственной целью которого является их личное удовольствие. Это позволяет каждой женщине заняться собой, создать для себя личное пространство в обществе, которое считает, что интересы окружающих есть ее интересы, и где бытует мнение, что женщина есть ресурс, всегда находящийся в распоряжении своих домашних. Таким образом, чтение несет и компенсаторную функцию, позволяя читательницам удовлетворять свои потребности, чего патриархальные институты и традиции воспитания сделать не в состоянии, хотя именно они эти потребности и создают.
Такой подход к чтению любовных романов, акцентирующий внимание на оппозиционном статусе этого занятия, которое дает женщинам возможность отвергнуть традиционные культурные требования и получить удовлетворение, несовместимое с ролью, предлагаемой им обществом, удивительно схож со взглядом на фольклорные традиции Луижи Ломбарди-Сатриани и Хосе Лимона.
<...>
Женщины, оставаясь в стенах своего дома, объединяются только символически и через посредников, в мало ценимой обществом сфере проведения досуга. Они не предпринимают никаких действий, чтобы сблизиться друг с другом, обойдя требования патриархальной культуры, которая настаивает, чтобы они не работали вне дома и не содержали себя сами, а существовали только в симбиозе с мужчиной, находясь под его опекой, как его собственность.
Коротко говоря, если взглянуть на любовный роман сточки зрения самих читательниц, вчьей системе взглядов институты моногамного брака и гетеросексуальности существуют как данность, его можно расценить как проявление слабого протеста и жажду перемен, вызванную неспособностью этих институтов удовлетворить потребности женщин. Чтение помогает им сначала осознать эту неспособность, а затем частично противодействовать ей. Отсюда проистекает утверждение участниц опроса, что чтение есть способ «утвердить свою независимость» и сказать окружающим: «Это мое время и мое пространство. Оставьте меня в покое».
Дженис Рэдуэй
Читая любовные романы: женщины, патриархат и популярное чтение
Такой подход к чтению любовных романов, акцентирующий внимание на оппозиционном статусе этого занятия, которое дает женщинам возможность отвергнуть традиционные культурные требования и получить удовлетворение, несовместимое с ролью, предлагаемой им обществом, удивительно схож со взглядом на фольклорные традиции Луижи Ломбарди-Сатриани и Хосе Лимона.
<...>
Женщины, оставаясь в стенах своего дома, объединяются только символически и через посредников, в мало ценимой обществом сфере проведения досуга. Они не предпринимают никаких действий, чтобы сблизиться друг с другом, обойдя требования патриархальной культуры, которая настаивает, чтобы они не работали вне дома и не содержали себя сами, а существовали только в симбиозе с мужчиной, находясь под его опекой, как его собственность.
Коротко говоря, если взглянуть на любовный роман сточки зрения самих читательниц, вчьей системе взглядов институты моногамного брака и гетеросексуальности существуют как данность, его можно расценить как проявление слабого протеста и жажду перемен, вызванную неспособностью этих институтов удовлетворить потребности женщин. Чтение помогает им сначала осознать эту неспособность, а затем частично противодействовать ей. Отсюда проистекает утверждение участниц опроса, что чтение есть способ «утвердить свою независимость» и сказать окружающим: «Это мое время и мое пространство. Оставьте меня в покое».
Дженис Рэдуэй
Читая любовные романы: женщины, патриархат и популярное чтение
👍67❤17
Реальная, то есть «видимая» рыночная, и «невидимая» домашняя экономики тесно взаимосвязаны. В них задействованы одни и те же люди – взрослое население страны, состоящее из мужчин и женщин трудоспособного возраста. Главное сходство этих двух экономик состоит в том, что их основу составляет труд, а важнейшее различие – кто и сколько трудится в каждой из этих сфер.
Цель моего выступления состоит в том, чтобы на примере гендерного разрыва в оплате труда показать отрицательные последствия для гендерного равенства сверхзанятости женщин в «невидимой» экономике. В сфере реальной экономики мужчин и женщин примерно поровну (51 и 49%, соответственно), но средняя рабочая неделя мужчин на 1 час продолжительнее, чем у женщин. А если аналогичный расчет сделать для «невидимой» домашней экономики, то окажется, что женщины в ней за неделю (в будни) отрабатывают в среднем 15,8 часа, а мужчины – 6,3 часа. Следовательно, в «невидимой» экономике «рабочая неделя» женщин на 9,5 часов длиннее, чем у мужчин.
Официальная статистика бюджетов времени показывает, что на домашний труд женщины ежедневно тратят 3 часа 10 минут, а мужчины 1 час 16 минут, то есть в 2,5 раза меньше. Таким образом, в будние дни женщины трудятся в реальной экономике в среднем на 12 минут меньше, чем мужчины, а в «невидимой» домашней экономике на 2 часа больше, чем мужчины. Такая глубокая асимметрия участия женщин и мужчин в «невидимой» домашней экономике является показателем высокого уровня гендерного неравенства в семейной сфере.
Материальная оценка «видимого» и «невидимого» труда в обществе принципиально отличается: видимый труд оплачивается, а невидимый – нет, и как следствие, социальный престиж и статус домашнего труда невысок. Например, если в реальной экономике много и успешно трудиться, то можно сделать карьеру, занять руководящий пост и получить высокую зарплату. В «невидимой» экономике все наоборот – чем больше времени и сил ей отдавать, тем меньше шансов будет на карьеру, высокую должность и зарплату. Таким образом, сверхзанятость женщин в «невидимой» экономике отражает не только гендерное неравенство в семейной сфере, но также усиливает гендерное неравенство на рынке труда и в обществе в целом. Собственно, в этом приумножении гендерного неравенства во всех сферах и состоят видимые отрицательные последствия «невидимой» экономики для положения женщин в обществе.
Безусловно, на общие показатели гендерного неравенства (ГН) в стране влияет не только несправедливое разделение труда в семейной сфере. Не менее важны дискриминация и сегрегация на рынке труда, а также устаревшие гендерные стереотипы о месте и роли женщин в обществе и др. Однако в контексте данного выступления нас интересует в основном экономическая сфера, а одним из важнейших индикаторов экономического гендерного неравенства является разрыв в оплате труда женщин и мужчин в реальной экономике. Негативное влияние высокой занятости женщин домашним трудом на их экономическое (зарплата, доход) и социальное (статус, власть) положение в обществе подтверждается многими исследованиями.
Причем это не только российская, но и общемировая проблема. Например, в исследовании «Экономика гендерного разрыва в оплате труда», проведенном правительством Австралии в 2019 г., оценивался удельный вес факторов, формирующих гендерный разрыв в зарплате мужчин и женщин. Было установлено, что наибольшее влияние на гендерный разрыв в оплате труда оказывают два рода факторов, которые почти на 80% обуславливают различия в зарплате женщин и мужчин. Во-первых, на 39% гендерный разрыв зависит от «дискриминации, гендерных стереотипов и предубеждений работодателей при найме персонала, а также при принятии решения об оплате труда женщин и мужчин». Во-вторых, «удельный вес факторов, относящихся к семье и детям, занимает также 39% гендерного разрыва в оплате труда». При этом в число «семейных» факторов исследователи включали не только неоплачиваемый домашний труд, но также перерывы в профессиональной карьере женщин в связи с рождением детей.
З.А. Хоткина
Видимые последствия «невидимой» экономики
Цель моего выступления состоит в том, чтобы на примере гендерного разрыва в оплате труда показать отрицательные последствия для гендерного равенства сверхзанятости женщин в «невидимой» экономике. В сфере реальной экономики мужчин и женщин примерно поровну (51 и 49%, соответственно), но средняя рабочая неделя мужчин на 1 час продолжительнее, чем у женщин. А если аналогичный расчет сделать для «невидимой» домашней экономики, то окажется, что женщины в ней за неделю (в будни) отрабатывают в среднем 15,8 часа, а мужчины – 6,3 часа. Следовательно, в «невидимой» экономике «рабочая неделя» женщин на 9,5 часов длиннее, чем у мужчин.
Официальная статистика бюджетов времени показывает, что на домашний труд женщины ежедневно тратят 3 часа 10 минут, а мужчины 1 час 16 минут, то есть в 2,5 раза меньше. Таким образом, в будние дни женщины трудятся в реальной экономике в среднем на 12 минут меньше, чем мужчины, а в «невидимой» домашней экономике на 2 часа больше, чем мужчины. Такая глубокая асимметрия участия женщин и мужчин в «невидимой» домашней экономике является показателем высокого уровня гендерного неравенства в семейной сфере.
Материальная оценка «видимого» и «невидимого» труда в обществе принципиально отличается: видимый труд оплачивается, а невидимый – нет, и как следствие, социальный престиж и статус домашнего труда невысок. Например, если в реальной экономике много и успешно трудиться, то можно сделать карьеру, занять руководящий пост и получить высокую зарплату. В «невидимой» экономике все наоборот – чем больше времени и сил ей отдавать, тем меньше шансов будет на карьеру, высокую должность и зарплату. Таким образом, сверхзанятость женщин в «невидимой» экономике отражает не только гендерное неравенство в семейной сфере, но также усиливает гендерное неравенство на рынке труда и в обществе в целом. Собственно, в этом приумножении гендерного неравенства во всех сферах и состоят видимые отрицательные последствия «невидимой» экономики для положения женщин в обществе.
Безусловно, на общие показатели гендерного неравенства (ГН) в стране влияет не только несправедливое разделение труда в семейной сфере. Не менее важны дискриминация и сегрегация на рынке труда, а также устаревшие гендерные стереотипы о месте и роли женщин в обществе и др. Однако в контексте данного выступления нас интересует в основном экономическая сфера, а одним из важнейших индикаторов экономического гендерного неравенства является разрыв в оплате труда женщин и мужчин в реальной экономике. Негативное влияние высокой занятости женщин домашним трудом на их экономическое (зарплата, доход) и социальное (статус, власть) положение в обществе подтверждается многими исследованиями.
Причем это не только российская, но и общемировая проблема. Например, в исследовании «Экономика гендерного разрыва в оплате труда», проведенном правительством Австралии в 2019 г., оценивался удельный вес факторов, формирующих гендерный разрыв в зарплате мужчин и женщин. Было установлено, что наибольшее влияние на гендерный разрыв в оплате труда оказывают два рода факторов, которые почти на 80% обуславливают различия в зарплате женщин и мужчин. Во-первых, на 39% гендерный разрыв зависит от «дискриминации, гендерных стереотипов и предубеждений работодателей при найме персонала, а также при принятии решения об оплате труда женщин и мужчин». Во-вторых, «удельный вес факторов, относящихся к семье и детям, занимает также 39% гендерного разрыва в оплате труда». При этом в число «семейных» факторов исследователи включали не только неоплачиваемый домашний труд, но также перерывы в профессиональной карьере женщин в связи с рождением детей.
З.А. Хоткина
Видимые последствия «невидимой» экономики
🔥55❤14😢13👍3
Эмоциональные нормы вездесущи, хотя часто невидимы
Трудно начать изучать социальные нормы, поскольку мы обычно их не замечаем. Когда друг разговаривает НЕМНОГО ГРОМЧЕ ОБЫЧНОГО или стоим ближе обычного – именно тогда мы осознаем, что мы и наши собеседники подчиняемся трудноуловимым ожиданиям, о которых мы обычно не задумываемся. Это верно и в случае эмоциональных норм. Когда кто-то благодарит нас за небольшую услугу, мы это едва замечаем. Но наступает «мертвая тишина», когда благодарность не последовала. Если вы когда-нибудь открывали дверь для группы людей, которые при этом совершенно не замечали вас, то вы, наверное, понимаете, что я имею в виду.
Эмоциональные нормы «становятся видимыми в те моменты, когда они нарушаются»
К примеру, выражения зависти должны максимально контролироваться. Друг, который постоянно говорит вам: «Я хочу выглядеть так же хорошо, как и ты!», – скорее всего, нарушает общепринятое правило о неприемлемости выражения завистливых чувств, если высказывание, конечно, не носит эксцентричного характера, а делается раздосадованным тоном.
Иногда мы подспудно осознаем эмоциональные нормы, когда понимаем, что наши собственные чувства рискуют оказаться неприемлемыми. Как пишет Хокшилд, люди испытывают что-то вроде «укола» всякий раз, когда есть несоответствие между тем, что они действительно чувствуют, и тем, какие чувства от них ожидаются. Например, на вечеринке в канун Нового года нормой является то, что люди будут радоваться, улыбаться, дудеть в бумажные рожки и обнимать окружающих, как только часы пробьют полночь. Участники вечеринки, которые находятся в сонном или пессимистическом настроении по поводу уходящего времени или испытывают дискомфорт, находясь с другими людьми, испытывающими радостное настроение, вероятно, не настроены на эмоциональный тон сборища (gathering). Поэтому они могут сами себя внутренне подбадривать: «Давай! Тебе должно все это нравиться!».
Поскольку эмоциональные нормы обычно принимаются на веру, их довольно трудно обнаружить. Но чем больше вы практикуетесь, тем легче сможете применять это понятие к анализу происходящего. Задача заключается в том, чтобы а) выделить специфические условия или социальное взаимодействие и б) представить эмоциональную реакцию (или наблюдать реальную), которая окажется неподходящей, аморальной или культурно «неестественной» для большинства людей, которых вы знаете.
Эмоциональные нормы приводятся в действие участниками взаимодействия посредством сильных и слабых санкций
Полицейские применяют санкции, например, штраф за превышение скорости, когда останавливают нас за нарушение правил на дороге. Эти санкции служат наказанием и механизмом, удерживающим от нарушения закона. Такая же, но немного менее формальная, «полиция взаимодействия» начинает действовать, когда дело доходит до имплицитных правил, регулирующих эмоции.
Наши собеседники могут использовать целое разнообразие стратегий, чтобы приводить в действие социальные и эмоциональные нормы. Люди могут одаривать нас неодобрительными взглядами или замечаниями; они могут разрушить нашу репутацию, распуская о нас сплетни. Остракизм – это максимально сильная санкция, которая может применяться за нарушение эмоциональных норм. Человек, который признается «слишком нервным» или «никогда не бывает счастливым», может не найти друзей, супруга(у) или иметь проблемы в общении с родственниками. В конце концов может быть задействовано даже экономическое давление. Следствием эмоциональной девиации могут стать низкие возможности на рынке труда или отсутствие финансовой поддержки собственной семьи. Несвоевременное выражение неприемлемых эмоций – тревоги, фрустрации или даже шутливого настроения – может способствовать провалу на собеседовании при приеме на работу.
Трудно начать изучать социальные нормы, поскольку мы обычно их не замечаем. Когда друг разговаривает НЕМНОГО ГРОМЧЕ ОБЫЧНОГО или стоим ближе обычного – именно тогда мы осознаем, что мы и наши собеседники подчиняемся трудноуловимым ожиданиям, о которых мы обычно не задумываемся. Это верно и в случае эмоциональных норм. Когда кто-то благодарит нас за небольшую услугу, мы это едва замечаем. Но наступает «мертвая тишина», когда благодарность не последовала. Если вы когда-нибудь открывали дверь для группы людей, которые при этом совершенно не замечали вас, то вы, наверное, понимаете, что я имею в виду.
Эмоциональные нормы «становятся видимыми в те моменты, когда они нарушаются»
К примеру, выражения зависти должны максимально контролироваться. Друг, который постоянно говорит вам: «Я хочу выглядеть так же хорошо, как и ты!», – скорее всего, нарушает общепринятое правило о неприемлемости выражения завистливых чувств, если высказывание, конечно, не носит эксцентричного характера, а делается раздосадованным тоном.
Иногда мы подспудно осознаем эмоциональные нормы, когда понимаем, что наши собственные чувства рискуют оказаться неприемлемыми. Как пишет Хокшилд, люди испытывают что-то вроде «укола» всякий раз, когда есть несоответствие между тем, что они действительно чувствуют, и тем, какие чувства от них ожидаются. Например, на вечеринке в канун Нового года нормой является то, что люди будут радоваться, улыбаться, дудеть в бумажные рожки и обнимать окружающих, как только часы пробьют полночь. Участники вечеринки, которые находятся в сонном или пессимистическом настроении по поводу уходящего времени или испытывают дискомфорт, находясь с другими людьми, испытывающими радостное настроение, вероятно, не настроены на эмоциональный тон сборища (gathering). Поэтому они могут сами себя внутренне подбадривать: «Давай! Тебе должно все это нравиться!».
Поскольку эмоциональные нормы обычно принимаются на веру, их довольно трудно обнаружить. Но чем больше вы практикуетесь, тем легче сможете применять это понятие к анализу происходящего. Задача заключается в том, чтобы а) выделить специфические условия или социальное взаимодействие и б) представить эмоциональную реакцию (или наблюдать реальную), которая окажется неподходящей, аморальной или культурно «неестественной» для большинства людей, которых вы знаете.
Эмоциональные нормы приводятся в действие участниками взаимодействия посредством сильных и слабых санкций
Полицейские применяют санкции, например, штраф за превышение скорости, когда останавливают нас за нарушение правил на дороге. Эти санкции служат наказанием и механизмом, удерживающим от нарушения закона. Такая же, но немного менее формальная, «полиция взаимодействия» начинает действовать, когда дело доходит до имплицитных правил, регулирующих эмоции.
Наши собеседники могут использовать целое разнообразие стратегий, чтобы приводить в действие социальные и эмоциональные нормы. Люди могут одаривать нас неодобрительными взглядами или замечаниями; они могут разрушить нашу репутацию, распуская о нас сплетни. Остракизм – это максимально сильная санкция, которая может применяться за нарушение эмоциональных норм. Человек, который признается «слишком нервным» или «никогда не бывает счастливым», может не найти друзей, супруга(у) или иметь проблемы в общении с родственниками. В конце концов может быть задействовано даже экономическое давление. Следствием эмоциональной девиации могут стать низкие возможности на рынке труда или отсутствие финансовой поддержки собственной семьи. Несвоевременное выражение неприемлемых эмоций – тревоги, фрустрации или даже шутливого настроения – может способствовать провалу на собеседовании при приеме на работу.
💯40👍8
В одном из хорошо известных исследований Саймон, Эдер и Эванс в течение трех лет вели наблюдение на среднем Западе за развитием эмоциональных норм у девушек-подростков из средней школы. Исследователи обнаружили, что юные девушки используют поддразнивание, сплетни и ссоры как способы социализации или усвоения «подходящих» чувств: «Следует иметь романтические чувства только к одному человеку противоположного пола» или «Не следует испытывать романтических чувств к парню, который уже встречается с кем-то другим». Например, такое выражение привязанности к подруге (человеку того же пола), как игриво присесть к ней на колени, может быть встречено с мягкой насмешкой («Ты точно не мой тип») или дразнящим хором вздохов «о-о-о!», намекающим на гомосексуальные отношения. Девочки, чей физический внешний вид или поведение обнаруживают недостаток интереса к мальчикам, уничижительно обзываются странными, «розовыми» или пацанками. Романтические чувства к мальчикам поощряются. Иногда группы сверстниц открыто обсуждают свою коллективную привязанность к одному мальчику. Однако как только одна из девушек этой группы начинает активно его добиваться или вступает в отношения с этим мальчиком, ни одна из подруг не сможет продолжать выражать чувства к нему, не подвергаясь санкциям.
Во взрослых отношениях эмоциональная девиация также имеет определенные последствия. Например, «нервное» поведение подозреваемого при даче показаний может быть понято присяжными как признак того, что он лжет; сдержанное или равнодушное поведение, с другой стороны, может рассматриваться как недостаток раскаяния или отсутствие совести. Жертвы, которые выражают чувства несоразмерно событию – недостаточно потрясены тяжким преступлением и слишком потрясены не тяжким преступлением, – зачастую менее благосклонно воспринимаются присяжными. Представьте себе финансового советника, который проявляет признаки зависти при виде больших денег своих клиентов: «О, пусть мой пенсионный счет будет таким же большим, как Ваш! Вам повезло получить такие деньги по наследству». Финансовые советники, которые, не стесняясь, нарушают нормы выражения зависти, могут поставить под вопрос доверие клиента и способность соблюдать правила этикета. Такой работник быстро потеряет своих клиентов или по крайней мере получит меньше положительных рекомендаций.
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
Во взрослых отношениях эмоциональная девиация также имеет определенные последствия. Например, «нервное» поведение подозреваемого при даче показаний может быть понято присяжными как признак того, что он лжет; сдержанное или равнодушное поведение, с другой стороны, может рассматриваться как недостаток раскаяния или отсутствие совести. Жертвы, которые выражают чувства несоразмерно событию – недостаточно потрясены тяжким преступлением и слишком потрясены не тяжким преступлением, – зачастую менее благосклонно воспринимаются присяжными. Представьте себе финансового советника, который проявляет признаки зависти при виде больших денег своих клиентов: «О, пусть мой пенсионный счет будет таким же большим, как Ваш! Вам повезло получить такие деньги по наследству». Финансовые советники, которые, не стесняясь, нарушают нормы выражения зависти, могут поставить под вопрос доверие клиента и способность соблюдать правила этикета. Такой работник быстро потеряет своих клиентов или по крайней мере получит меньше положительных рекомендаций.
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
❤51👍16😢4
Самосострадание — это не вымученные аффирмации. Человек, который сочувствует себе, не притворяется, что никогда не ошибался, и не заставляет себя терпеть невзгоды с улыбкой. Очень важно научиться различать спектр эмоций-самозванцев: они могут оказывать краткосрочный положительный эффект, но отличаются от самосострадания и далеко не так эффективны.
Итак, чем же самосострадание НЕ является?
Это не фантазия старого сбрендившего хиппи.
Самосострадание — это не просто прекрасная идея, которая пришла в голову счастливому беззаботному хиппи, пока тот попивал комбучу и настраивал ветряные колокольчики. Это решение активно реагировать на самые болезненные моменты жизни, выстраивать связи с другими, проявляя любопытство и доброту.
Это не жалость к себе.
Давайте вернемся к нашему походу, который не задался, и представим, как выглядела бы жалость к себе. Вот вы садитесь на бревно и начинаете рыдать, потому что все валится из рук. «Я хуже всех, — кричите вы своим спутникам. — У меня ничего никогда не получается! Зачем я пытаюсь что-то сделать? Вы все правы. Не надо было затевать этот ужасный поход. Я плохая жена, я ужасная мать! Иди! Забирай детей, и езжайте на свое поле для мини-гольфа! А я просто останусь здесь. Я заслужила вечно блуждать в этом богом забытом лесу!»
Жалость к себе и сочувствие к себе легко перепутать. И то и то подразумевает признание своих страданий. Разница в том, что, испытывая сочувствие к себе, мы пытаемся облегчить свою боль; испытывая жалость, мы упиваемся болью. Мы заводимся и начинаем перечислять все причины, почему мы несчастные и жалкие, почему наша жизнь ужасна и мы заслуживаем всех стрел, что посылает в нашу сторону вселенная. Наши трудности и страдания поглощают нас настолько, что мы не видим вокруг никаких перспектив и возможностей. Иногда поныть может быть даже приятно, но нельзя делать это бесконечно. Ведь когда нытье закончится, мы лишь уверимся в собственной никчемности и успеем взбесить всех вокруг.
Это не самопотакание.
Самопотакание — тоже вариант жалости к себе, потому что человек решает, что, раз он все равно ужасный и никогда не станет лучше, пропади все пропадом: можно съесть килограмм мороженого, выпить дюжину бутылок пива или наконец купить ту дорогую футболку с волком, воющим на луну. Мы заглушаем презрение к себе так быстро, что даже не замечаем, что презираем себя. Бежим сразу на кухню, к клавиатуре или туда, где, как нам кажется, найдем лекарство от неприятных мыслей и чувств, что скрываются в темном углу нашего существования.
Как и жалость к себе, самопотакание — одна из третьих стрел. Потворство всем своим желаниям и капризам умеет быть очень эффективным отвлекающим фактором, по крайней мере временным. Но ключевое слово здесь «временное», и чем быстрее, дальше и чаще мы сбегаем от самых темных уголков своей души, тем сильнее подкрепляется (осознанно или неосознанно) ложное убеждение в том, что в этих темных уголках живет нечто ужасное и глубоко проблемное, с чем мы никогда не справимся, столкнувшись лицом к лицу.
Сочувствие к себе, напротив, призывает заглянуть в темные углы, но не осуждать то, что там увидишь, а отнестись к этому с пониманием, принять себя и простить.
Это не игнорирование своих недостатков.
Привычка втыкать в себя вторые стрелы сразу после того, как в них попали первые, есть у большинства людей. Почему-то самобичевание представляется нам самой эффективной реакцией на ошибку или неверную оценку ситуации. Оно может принимать обличие жестокой самокритики, вспышек гнева и постоянных напоминаний, что, если мы немедленно что-то не изменим в своей жизни, страдать нам до скончания дней.
Это полная ерунда; такой подход лишь укрепляет популярный и очень проблемный стереотип о том, что, проявляя сочувствие к себе, мы спускаем себе с рук все свои косяки. Разве за ошибки не надо платить? Если не будет дисциплины, не будет наказания и последствий, как мы усвоим урок? И что помешает нам снова накосячить?
Итак, чем же самосострадание НЕ является?
Это не фантазия старого сбрендившего хиппи.
Самосострадание — это не просто прекрасная идея, которая пришла в голову счастливому беззаботному хиппи, пока тот попивал комбучу и настраивал ветряные колокольчики. Это решение активно реагировать на самые болезненные моменты жизни, выстраивать связи с другими, проявляя любопытство и доброту.
Это не жалость к себе.
Давайте вернемся к нашему походу, который не задался, и представим, как выглядела бы жалость к себе. Вот вы садитесь на бревно и начинаете рыдать, потому что все валится из рук. «Я хуже всех, — кричите вы своим спутникам. — У меня ничего никогда не получается! Зачем я пытаюсь что-то сделать? Вы все правы. Не надо было затевать этот ужасный поход. Я плохая жена, я ужасная мать! Иди! Забирай детей, и езжайте на свое поле для мини-гольфа! А я просто останусь здесь. Я заслужила вечно блуждать в этом богом забытом лесу!»
Жалость к себе и сочувствие к себе легко перепутать. И то и то подразумевает признание своих страданий. Разница в том, что, испытывая сочувствие к себе, мы пытаемся облегчить свою боль; испытывая жалость, мы упиваемся болью. Мы заводимся и начинаем перечислять все причины, почему мы несчастные и жалкие, почему наша жизнь ужасна и мы заслуживаем всех стрел, что посылает в нашу сторону вселенная. Наши трудности и страдания поглощают нас настолько, что мы не видим вокруг никаких перспектив и возможностей. Иногда поныть может быть даже приятно, но нельзя делать это бесконечно. Ведь когда нытье закончится, мы лишь уверимся в собственной никчемности и успеем взбесить всех вокруг.
Это не самопотакание.
Самопотакание — тоже вариант жалости к себе, потому что человек решает, что, раз он все равно ужасный и никогда не станет лучше, пропади все пропадом: можно съесть килограмм мороженого, выпить дюжину бутылок пива или наконец купить ту дорогую футболку с волком, воющим на луну. Мы заглушаем презрение к себе так быстро, что даже не замечаем, что презираем себя. Бежим сразу на кухню, к клавиатуре или туда, где, как нам кажется, найдем лекарство от неприятных мыслей и чувств, что скрываются в темном углу нашего существования.
Как и жалость к себе, самопотакание — одна из третьих стрел. Потворство всем своим желаниям и капризам умеет быть очень эффективным отвлекающим фактором, по крайней мере временным. Но ключевое слово здесь «временное», и чем быстрее, дальше и чаще мы сбегаем от самых темных уголков своей души, тем сильнее подкрепляется (осознанно или неосознанно) ложное убеждение в том, что в этих темных уголках живет нечто ужасное и глубоко проблемное, с чем мы никогда не справимся, столкнувшись лицом к лицу.
Сочувствие к себе, напротив, призывает заглянуть в темные углы, но не осуждать то, что там увидишь, а отнестись к этому с пониманием, принять себя и простить.
Это не игнорирование своих недостатков.
Привычка втыкать в себя вторые стрелы сразу после того, как в них попали первые, есть у большинства людей. Почему-то самобичевание представляется нам самой эффективной реакцией на ошибку или неверную оценку ситуации. Оно может принимать обличие жестокой самокритики, вспышек гнева и постоянных напоминаний, что, если мы немедленно что-то не изменим в своей жизни, страдать нам до скончания дней.
Это полная ерунда; такой подход лишь укрепляет популярный и очень проблемный стереотип о том, что, проявляя сочувствие к себе, мы спускаем себе с рук все свои косяки. Разве за ошибки не надо платить? Если не будет дисциплины, не будет наказания и последствий, как мы усвоим урок? И что помешает нам снова накосячить?
👍34❤7😢4
На самом деле, сочувствуя себе, мы не прячем голову в песок и не игнорируем свои проблемы. Напротив, зная, что любая, даже самая тяжелая и непредсказуемая ситуация заслуживает понимания и принятия, мы можем честно и реалистично оценивать происходящее. Внутренняя мудрость и спокойная ясность позволяют разобраться и предпринять осмысленные шаги.
Когда мы учим детей не торопиться, принимать осмысленные решения, хорошо себя вести и уважать наши просьбы, неизбежно встает вопрос дисциплины. Стоит ли ударить кулаком о стол, забрать у детей гаджеты и отправить маленьких негодников в угол, чтобы они подумали о своей провинности? Или следует реагировать с сочувствием и пониманием? Оба метода хороши и не исключают друг друга. Можно общаться с детьми, интересоваться их опытом и относиться к ним по-доброму, одновременно устанавливая границы, предъявляя требования и пользуясь необходимыми дисциплинарными методами.
Это не самооценка.
Самооценка — всего лишь более модное название мнения человека о себе, то, как мы себя оцениваем. При высокой самооценке мы чувствуем себя хорошо, верим в себя, знаем, что делаем все возможное. В этом нет ничего плохого, кроме одного. Оценка собственной значимости почти полностью зависит от внешних обстоятельств и успеха во внешнем мире, а эти две сферы мы не контролируем или контролируем слабо. Можно все время поступать правильно и трудиться не покладая рук, а жизнь все равно покатится к чертям. Можно сидеть в своем тихом уголке и не высовываться, а катастрофа все равно разразится у порога вашего дома и разрушит вам жизнь, а вместе с ней и самооценку.
У родительской самооценки есть коварная особенность: она неразрывно связана с поведением детей и их успехами. Родители гордятся собой, когда дети делают первый шаг, приносят домой дневник с пятерками и без боя уступают место братику на переднем сиденье. Другими словами, когда детям хорошо, то и нам хорошо. И это было бы прекрасно, если бы у нас росли идеальные дети, которые развивались бы как по календарю, никогда не рисовали на стенах и не кидались ручками на уроке математики. Увы, идеальных детей не бывает, и, если наше самоощущение привязано к чувствам и поступкам детей, жди беды. Причем беда наступит не потому, что дети плохие или с нами что-то не так. Просто нельзя основывать самооценку на ожидании, что дети будут всегда вести себя хорошо. Это кончится плохо.
К счастью, самосостраданию все равно, чем все кончится, каких успехов достигнут дети и как они себя чувствуют. Самосострадание — это умение реагировать на боль добротой и принятием, даже когда все очень плохо.
Это не саморазвитие.
Если человек искренне верит, что жизненные трудности и хаос возникают по его вине, легко понять, почему многие ищут прибежище в практиках саморазвития. Людям кажется, что, если прийти в хорошую физическую форму, научиться медитировать, пойти на курсы для родителей или к психотерапевту, наконец получится взять себя в руки и стать хорошим родителем.
И тут легко здорово запутаться, потому что спорт, курсы для родителей, медитация и психотерапия могут быть очень эффективными. В моей жизни все эти практики и привычки играют важную роль, и я часто рекомендую их родителям. Но когда нашими действиями руководит непоколебимая, глубинная вера в собственную фундаментальную ущербность и необходимость «улучшать» себя, саморазвитие легко превращается во вторую и даже третью стрелу и даже лучший тренер по кроссфиту или книга по психологии приносят больше вреда, чем пользы.
Когда мы учим детей не торопиться, принимать осмысленные решения, хорошо себя вести и уважать наши просьбы, неизбежно встает вопрос дисциплины. Стоит ли ударить кулаком о стол, забрать у детей гаджеты и отправить маленьких негодников в угол, чтобы они подумали о своей провинности? Или следует реагировать с сочувствием и пониманием? Оба метода хороши и не исключают друг друга. Можно общаться с детьми, интересоваться их опытом и относиться к ним по-доброму, одновременно устанавливая границы, предъявляя требования и пользуясь необходимыми дисциплинарными методами.
Это не самооценка.
Самооценка — всего лишь более модное название мнения человека о себе, то, как мы себя оцениваем. При высокой самооценке мы чувствуем себя хорошо, верим в себя, знаем, что делаем все возможное. В этом нет ничего плохого, кроме одного. Оценка собственной значимости почти полностью зависит от внешних обстоятельств и успеха во внешнем мире, а эти две сферы мы не контролируем или контролируем слабо. Можно все время поступать правильно и трудиться не покладая рук, а жизнь все равно покатится к чертям. Можно сидеть в своем тихом уголке и не высовываться, а катастрофа все равно разразится у порога вашего дома и разрушит вам жизнь, а вместе с ней и самооценку.
У родительской самооценки есть коварная особенность: она неразрывно связана с поведением детей и их успехами. Родители гордятся собой, когда дети делают первый шаг, приносят домой дневник с пятерками и без боя уступают место братику на переднем сиденье. Другими словами, когда детям хорошо, то и нам хорошо. И это было бы прекрасно, если бы у нас росли идеальные дети, которые развивались бы как по календарю, никогда не рисовали на стенах и не кидались ручками на уроке математики. Увы, идеальных детей не бывает, и, если наше самоощущение привязано к чувствам и поступкам детей, жди беды. Причем беда наступит не потому, что дети плохие или с нами что-то не так. Просто нельзя основывать самооценку на ожидании, что дети будут всегда вести себя хорошо. Это кончится плохо.
К счастью, самосостраданию все равно, чем все кончится, каких успехов достигнут дети и как они себя чувствуют. Самосострадание — это умение реагировать на боль добротой и принятием, даже когда все очень плохо.
Это не саморазвитие.
Если человек искренне верит, что жизненные трудности и хаос возникают по его вине, легко понять, почему многие ищут прибежище в практиках саморазвития. Людям кажется, что, если прийти в хорошую физическую форму, научиться медитировать, пойти на курсы для родителей или к психотерапевту, наконец получится взять себя в руки и стать хорошим родителем.
И тут легко здорово запутаться, потому что спорт, курсы для родителей, медитация и психотерапия могут быть очень эффективными. В моей жизни все эти практики и привычки играют важную роль, и я часто рекомендую их родителям. Но когда нашими действиями руководит непоколебимая, глубинная вера в собственную фундаментальную ущербность и необходимость «улучшать» себя, саморазвитие легко превращается во вторую и даже третью стрелу и даже лучший тренер по кроссфиту или книга по психологии приносят больше вреда, чем пользы.
👍34
Те же самые практики становятся совершенно иным опытом, когда мы смотрим на них как на заботу о себе и сочувствие к себе, как на желание позаботиться, а не исправить. Тогда мы не направляем в себя новые стрелы, а обрабатываем раны и делаем все возможное, чтобы минимизировать появление первых стрел в будущем, понимая, что совсем избежать их невозможно и это нормально. Когда друг говорит, что мы выглядим ужасно и должны начать следить за собой, или он же выслушивает наши проблемы и приглашает на прогулку, это две большие разницы. Знаменитый психолог Карл Роджерс однажды сказал: «Любопытный парадокс: лишь начав принимать себя таким, какой я есть, я могу измениться».
Карла Наумбург
Родитель, отстань от себя! Практики сочувствия для всех, у кого есть дети
Карла Наумбург
Родитель, отстань от себя! Практики сочувствия для всех, у кого есть дети
❤51👍8
Эмоциональным нормам обучаются в процессе прямой и непрямой социализации
Есть искушение определить эмоциональные нормы как просто естественные или логичные паттерны поведения. Некоторые виды выражения эмоций, или эмоционального дисплея (emotional displays), могут показаться очевидными и неизбежными – «конечно», выпускник колледжа должен выразить благодарность своим родителям за денежную поддержку. Чтобы определить нормативный аспект эмоционального поведения, попробуйте следующий прием: представьте себе группу людей, обладающих другой «конечно»-культурной перспективой. Вообразите себе благополучную и финансово обеспеченную семью, в которой платить за образование детей считается обычным обязательством, а не существенной или значительной финансовой нагрузкой. В этой гипотетической группе людей, возможно, от выпускника не требуется и не ожидается выражение большой или публичной благодарности родителям.
Для дальнейшего прояснения культурного измерения эмоциональных норм давайте проведем аналогию с гендерными нормами, касающимися наготы. Жарким летним днем маленькие дети могут играть на виду в разных состояниях «раздетости». В большинстве районов в США плавки являются достаточным прикрытием для детей, бегающих около разбрызгивателей воды или играющих в салки. В определенный момент дети начинают осознавать свою наготу. Это относится в основном к девочкам, для которых ходить раздетыми становится в большей степени запрещено. Когда девочка приближается к шестилетнему возрасту, ее родители могут сказать ей, что она теперь «большая» и должна, в отличие от мальчиков, носить не только плавки, но и верхнюю часть купальника. Так протекает прямой процесс социализации: когда другие открыто говорят нам, каковы нормы в данном контексте. В другом случае девочка может и не нуждаться в прямых указаниях, а просто оглядеться вокруг и заметить, что ни одна из старших девочек и взрослых женщин не показываются на людях без верхней части купальника. Это непрямой или опосредованный процесс социализации: когда другие косвенным образом передают нам социальные нормы.
Некоторым американцам нормы, касающиеся одежды, могут казаться естественными, неизбежными или просто «логичными». Однако они таковыми не являются. В некоторых культурах отсутствует табу на обнаженную женскую грудь, тогда как в других – институционализируются гораздо более строгие нормы, согласно которым требуется закрывать ноги, руки и голову. Эти правила социально конструируются, и мы усваиваем их, рассматривая эти искусственные конвенции, как будто просто так и есть или должно быть.
Как и в случае с нормами о допустимой наготе, усвоение эмоциональных норм в процессе социализации может происходить прямо или косвенно (а между ними часто размещаются смешанные способы). Некоторые утверждения представляют собой прямые указания или инструкции по поводу чувств, которые культура (или субкультура) считает приемлемыми:
• «Не забудь сказать «спасибо!»
• «Ты должен гордиться тем, что…»
• «И не стыдно тебе..?»
• «Бьюсь об заклад, что ты будешь волноваться, когда…»
• «Не будь таким мрачным!»
Другие выражения могут быть более неопределенными, но также указывать на культурно ожидаемые эмоциональные состояния:
• «У тебя дурной характер!»
• «Что с тобой (не так)?»
• «Успокойся – ничего страшного!»
• «Твой положительный настрой так мотивирует!»
• «Ты неисправимый оптимист!»
Так прямая и непрямая эмоциональная социализация происходит посредством позитивных и негативных подкреплений. Люди вознаграждаются за «позитивный» эмоциональный дисплей (например, посредством комплиментов) или наказываются за «негативный» (например, через критику).
Все негативные санкции, которые мы обсуждали ранее, включая вербальные замечания, сплетни, остракизм, физическое насилие и финансовое давление, могут способствовать согласию с эмоциональными нормами. Даже ребенок, который устраивает истерики, может получить шлепок или потерять расположение.
Непрямое усвоение эмоциональных норм в процессе социализации также является довольно распространенным механизмом.
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
Есть искушение определить эмоциональные нормы как просто естественные или логичные паттерны поведения. Некоторые виды выражения эмоций, или эмоционального дисплея (emotional displays), могут показаться очевидными и неизбежными – «конечно», выпускник колледжа должен выразить благодарность своим родителям за денежную поддержку. Чтобы определить нормативный аспект эмоционального поведения, попробуйте следующий прием: представьте себе группу людей, обладающих другой «конечно»-культурной перспективой. Вообразите себе благополучную и финансово обеспеченную семью, в которой платить за образование детей считается обычным обязательством, а не существенной или значительной финансовой нагрузкой. В этой гипотетической группе людей, возможно, от выпускника не требуется и не ожидается выражение большой или публичной благодарности родителям.
Для дальнейшего прояснения культурного измерения эмоциональных норм давайте проведем аналогию с гендерными нормами, касающимися наготы. Жарким летним днем маленькие дети могут играть на виду в разных состояниях «раздетости». В большинстве районов в США плавки являются достаточным прикрытием для детей, бегающих около разбрызгивателей воды или играющих в салки. В определенный момент дети начинают осознавать свою наготу. Это относится в основном к девочкам, для которых ходить раздетыми становится в большей степени запрещено. Когда девочка приближается к шестилетнему возрасту, ее родители могут сказать ей, что она теперь «большая» и должна, в отличие от мальчиков, носить не только плавки, но и верхнюю часть купальника. Так протекает прямой процесс социализации: когда другие открыто говорят нам, каковы нормы в данном контексте. В другом случае девочка может и не нуждаться в прямых указаниях, а просто оглядеться вокруг и заметить, что ни одна из старших девочек и взрослых женщин не показываются на людях без верхней части купальника. Это непрямой или опосредованный процесс социализации: когда другие косвенным образом передают нам социальные нормы.
Некоторым американцам нормы, касающиеся одежды, могут казаться естественными, неизбежными или просто «логичными». Однако они таковыми не являются. В некоторых культурах отсутствует табу на обнаженную женскую грудь, тогда как в других – институционализируются гораздо более строгие нормы, согласно которым требуется закрывать ноги, руки и голову. Эти правила социально конструируются, и мы усваиваем их, рассматривая эти искусственные конвенции, как будто просто так и есть или должно быть.
Как и в случае с нормами о допустимой наготе, усвоение эмоциональных норм в процессе социализации может происходить прямо или косвенно (а между ними часто размещаются смешанные способы). Некоторые утверждения представляют собой прямые указания или инструкции по поводу чувств, которые культура (или субкультура) считает приемлемыми:
• «Не забудь сказать «спасибо!»
• «Ты должен гордиться тем, что…»
• «И не стыдно тебе..?»
• «Бьюсь об заклад, что ты будешь волноваться, когда…»
• «Не будь таким мрачным!»
Другие выражения могут быть более неопределенными, но также указывать на культурно ожидаемые эмоциональные состояния:
• «У тебя дурной характер!»
• «Что с тобой (не так)?»
• «Успокойся – ничего страшного!»
• «Твой положительный настрой так мотивирует!»
• «Ты неисправимый оптимист!»
Так прямая и непрямая эмоциональная социализация происходит посредством позитивных и негативных подкреплений. Люди вознаграждаются за «позитивный» эмоциональный дисплей (например, посредством комплиментов) или наказываются за «негативный» (например, через критику).
Все негативные санкции, которые мы обсуждали ранее, включая вербальные замечания, сплетни, остракизм, физическое насилие и финансовое давление, могут способствовать согласию с эмоциональными нормами. Даже ребенок, который устраивает истерики, может получить шлепок или потерять расположение.
Непрямое усвоение эмоциональных норм в процессе социализации также является довольно распространенным механизмом.
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
👍38❤24
Обсуждали тут недавно мужей-жрунов, которые по ночам съедают котлеты на всю семью. И, конечно, появился комментарий: «А что, сложно сразу приготовить котлет больше?»
Не могу молчать: ДА, БЛЯДЬ, СЛОЖНО! Серьезно, сколько можно транслировать миф о том, что не имеет значения, на одного человека готовить, двух или трех? ИМЕЕТ, И ЕЩЕ КАКОЕ. Да, пять литров борща готовятся не в два раза дольше, чем десять, но дольше. Потому что капусты больше резать, картошки — чистить.
Помните загадку: «Сколько будут вариться десять яиц, если одно яйцо варится пять минут?» Так вот ответ: «Пять, если варить в одной кастрюле», — неправильный. Чем больше кастрюля, тем больше времени понадобится, чтобы вода закипела.
Всегда, почти всегда есть разница. Перемешивать килограмм фарша проще, чем три — я знаю, я пробовала, потому что в свое время была одержима идеей «один раз приготовить, две трети заморозить, потом есть две недели». Если на сковородку помещается пять котлет, то десять будут жариться вдвое дольше. Если их запекать на одном противне, то всё равно умножайте на два время на лепку.
Аналогично ситуация обстоит практически с любыми домашними делами. Набирать корзину в супермаркете надо дольше, если в доме живут несколько человек. Практически ко всему прибавятся лишние минуты — от сортировки грязной одежды до загрузки посудомоечной машины.
Конечно, есть задачи, которые останутся неизменными: например, кот сколько гадил в лоток, столько и будет (если, конечно, появление непонятного мужика в доме не доведет бедного котика до стресса). Но в среднем работы прибавится, а менеджмента — в разы: только свои потребности контролировать гораздо проще, чем свои и «того парня»: надо помнить, кто что ест, кому когда и что стирать, и так далее, и тому подобное.
Конечно, в случае с парой есть простой выход — каждый за себя. Но, удивительное дело, услышав такое предложение, мужчины орут чайкой: «Тебе что, сложно?» Потом они убедительно доказывают, что сто литров борща — это как один, только сто.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то отвечайте, что согласны, и делать всё за двоих также просто, как за одного. И нечего так орать, пусть мужчина и дальше стирает, убирает и готовит для себя, но только теперь и еще для тебя, разницы же нет, только себе или на двоих. Если не согласится, откройте окно и выпизди… Выпустите чайку на волю.
Екатерина Попова
Не могу молчать: ДА, БЛЯДЬ, СЛОЖНО! Серьезно, сколько можно транслировать миф о том, что не имеет значения, на одного человека готовить, двух или трех? ИМЕЕТ, И ЕЩЕ КАКОЕ. Да, пять литров борща готовятся не в два раза дольше, чем десять, но дольше. Потому что капусты больше резать, картошки — чистить.
Помните загадку: «Сколько будут вариться десять яиц, если одно яйцо варится пять минут?» Так вот ответ: «Пять, если варить в одной кастрюле», — неправильный. Чем больше кастрюля, тем больше времени понадобится, чтобы вода закипела.
Всегда, почти всегда есть разница. Перемешивать килограмм фарша проще, чем три — я знаю, я пробовала, потому что в свое время была одержима идеей «один раз приготовить, две трети заморозить, потом есть две недели». Если на сковородку помещается пять котлет, то десять будут жариться вдвое дольше. Если их запекать на одном противне, то всё равно умножайте на два время на лепку.
Аналогично ситуация обстоит практически с любыми домашними делами. Набирать корзину в супермаркете надо дольше, если в доме живут несколько человек. Практически ко всему прибавятся лишние минуты — от сортировки грязной одежды до загрузки посудомоечной машины.
Конечно, есть задачи, которые останутся неизменными: например, кот сколько гадил в лоток, столько и будет (если, конечно, появление непонятного мужика в доме не доведет бедного котика до стресса). Но в среднем работы прибавится, а менеджмента — в разы: только свои потребности контролировать гораздо проще, чем свои и «того парня»: надо помнить, кто что ест, кому когда и что стирать, и так далее, и тому подобное.
Конечно, в случае с парой есть простой выход — каждый за себя. Но, удивительное дело, услышав такое предложение, мужчины орут чайкой: «Тебе что, сложно?» Потом они убедительно доказывают, что сто литров борща — это как один, только сто.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то отвечайте, что согласны, и делать всё за двоих также просто, как за одного. И нечего так орать, пусть мужчина и дальше стирает, убирает и готовит для себя, но только теперь и еще для тебя, разницы же нет, только себе или на двоих. Если не согласится, откройте окно и выпизди… Выпустите чайку на волю.
Екатерина Попова
❤97💯84👏17🔥12👍6
Повседневность жительниц Магнитогорска, какой изобразил ее А.А. Фадеев в своем романе «Черная металлургия» (имея в виду «мужью жену», домашнюю хозяйку) состояла из домашней работы, ухода за детьми, размышлений о себе и отношениях с мужем, что было весьма далеко от надежд тех женщин, которые приезжали в Магнитогорск в поисках пусть тяжелой, но высокооплачиваемой работы и жилья.
Достаточно напомнить, что именно на довоенном Магнитогорском металлургическом комбинате появилась первая в истории женщина-сталевар Татьяна Ипполитова, которая 2 января 1940 г. провела первую одиночную (самостоятельную) плавку. Итог подобного эксперимента был печален: уже в 1944 г. женщине пришлось уволиться с работы по инвалидности, но лишь в 1960-е гг. она получила однушку в новом районе, где недолго проработала диспетчером на железнодорожном транспорте .
К концу хрущевской оттепели на предприятиях города все также работали (уже не в горячих цехах, не на плавках) тысячи женщин, в одном только Магнитогорском металлургическом комбинате - 23 тыс., в том числе в горячих цехах. За один только 1965 г. было принято на работу 2137 женщин, уволилось 1103 женщины, мотивируя увольнения рождением ребенка, выходом на пенсию, болезнями, инвалидностью, затягиванием с решением жилищного вопроса, неудовлетворенностью зарплатой .
В то же время призыв ВКП(б) 1939 г. «Женщины Магнитогорска - на производство! Дадим для завода и строительства комбината новые сотни, тысячи рабочих рук!» никто не отменял. При всех попытках государства ограничить или запретить использование женского труда на опасных производствах число работниц, готовых рисковать жизнью и здоровьем, не сокращалось.
На фотографиях тех лет -множество женских лиц шлифовальщиц, мотористок, сверлильщиц, разнорабочих, на головах которых по-деревенски повязаны платки. Краеведы с трудом разыскали их имена. Это - штукатур П. Бахтиярова (прожила 81 год), коксовыливательница П. Вяльцева (кавалер Ордена Ленина, прожила 75 лет), вырубщица цеха отделки А. Жаворонкова.
На шихтовых дворах мартеновских цехов (где работало 80 крановщиц) была критическая запыленность воздуха (4500 мг на куб); 150 женщин, подручных каменщиков, трудились в местах ремонта ковшей и желобов при температуре +52 градуса по Цельсию в летний период, и при минусовой температуре в зимний. 101 женщина работала на ремонте путей магнитогорского рудника, и именно женщины таскали по двое шпалы весом 80 кг, вручную забивали костыли под них и за смену переносили от 15 до 25 т грузов при слабой освещенности, повышенном шуме. Мойщиками цистерн из-под химпродуктов в отделении ректификации работали тоже женщины.
Практика запрета профессий, несовместимых с репродуктивной функцией работниц, взяв начало в 1918 г. в первом Кодексе законов о труде и найдя выражение в списке запрещенных для женщин профессий (с 1932 г. до 1978 г. он не пересматривался), была сильно скорректирована во время войны. При формальном запрете на практике многое допускалось и более того: женщины-передовики, выполнявшие самые тяжелые операции, воспевались в местной печати. Известна судьба Е.П. Винницкой - бригадира каменщиц треста «Магнитострой», впоследствии ставшей депутатом Верховного Совета РСФСР и основательницей династии: ее дети и внуки стали металлургами.
Производственная повседневность работниц была далека от нормы. Санитарные требования предполагали наличие на предприятии не менее 15-ти комнат женской гигиены; фактически их оказалось 9, но и они использовались не по назначению. Одна «комната гигиены женщин мартенов» была отдана под здравпункт, другая -под класс технической учебы, третья была обычной раздевалкой. Безразличие к нормативам и запросам работниц проявила и администрация коксохимического производства: там работало свыше 300 женщин, но их гигиеническая комната была оборудована в километре от их рабочего места. В цехе металлической посуды (где работало 1166 женщин) вовсе отсутствовали женская комната, как и медицинский надзор.
Достаточно напомнить, что именно на довоенном Магнитогорском металлургическом комбинате появилась первая в истории женщина-сталевар Татьяна Ипполитова, которая 2 января 1940 г. провела первую одиночную (самостоятельную) плавку. Итог подобного эксперимента был печален: уже в 1944 г. женщине пришлось уволиться с работы по инвалидности, но лишь в 1960-е гг. она получила однушку в новом районе, где недолго проработала диспетчером на железнодорожном транспорте .
К концу хрущевской оттепели на предприятиях города все также работали (уже не в горячих цехах, не на плавках) тысячи женщин, в одном только Магнитогорском металлургическом комбинате - 23 тыс., в том числе в горячих цехах. За один только 1965 г. было принято на работу 2137 женщин, уволилось 1103 женщины, мотивируя увольнения рождением ребенка, выходом на пенсию, болезнями, инвалидностью, затягиванием с решением жилищного вопроса, неудовлетворенностью зарплатой .
В то же время призыв ВКП(б) 1939 г. «Женщины Магнитогорска - на производство! Дадим для завода и строительства комбината новые сотни, тысячи рабочих рук!» никто не отменял. При всех попытках государства ограничить или запретить использование женского труда на опасных производствах число работниц, готовых рисковать жизнью и здоровьем, не сокращалось.
На фотографиях тех лет -множество женских лиц шлифовальщиц, мотористок, сверлильщиц, разнорабочих, на головах которых по-деревенски повязаны платки. Краеведы с трудом разыскали их имена. Это - штукатур П. Бахтиярова (прожила 81 год), коксовыливательница П. Вяльцева (кавалер Ордена Ленина, прожила 75 лет), вырубщица цеха отделки А. Жаворонкова.
На шихтовых дворах мартеновских цехов (где работало 80 крановщиц) была критическая запыленность воздуха (4500 мг на куб); 150 женщин, подручных каменщиков, трудились в местах ремонта ковшей и желобов при температуре +52 градуса по Цельсию в летний период, и при минусовой температуре в зимний. 101 женщина работала на ремонте путей магнитогорского рудника, и именно женщины таскали по двое шпалы весом 80 кг, вручную забивали костыли под них и за смену переносили от 15 до 25 т грузов при слабой освещенности, повышенном шуме. Мойщиками цистерн из-под химпродуктов в отделении ректификации работали тоже женщины.
Практика запрета профессий, несовместимых с репродуктивной функцией работниц, взяв начало в 1918 г. в первом Кодексе законов о труде и найдя выражение в списке запрещенных для женщин профессий (с 1932 г. до 1978 г. он не пересматривался), была сильно скорректирована во время войны. При формальном запрете на практике многое допускалось и более того: женщины-передовики, выполнявшие самые тяжелые операции, воспевались в местной печати. Известна судьба Е.П. Винницкой - бригадира каменщиц треста «Магнитострой», впоследствии ставшей депутатом Верховного Совета РСФСР и основательницей династии: ее дети и внуки стали металлургами.
Производственная повседневность работниц была далека от нормы. Санитарные требования предполагали наличие на предприятии не менее 15-ти комнат женской гигиены; фактически их оказалось 9, но и они использовались не по назначению. Одна «комната гигиены женщин мартенов» была отдана под здравпункт, другая -под класс технической учебы, третья была обычной раздевалкой. Безразличие к нормативам и запросам работниц проявила и администрация коксохимического производства: там работало свыше 300 женщин, но их гигиеническая комната была оборудована в километре от их рабочего места. В цехе металлической посуды (где работало 1166 женщин) вовсе отсутствовали женская комната, как и медицинский надзор.
😢69❤21
Казалось бы, спецодеждой и спецобувью все предприятия города так или иначе обеспечивались, но реального контроля не было, никаких особых фасонов для женщин не предусматривалось, мартеновкам выдавали мужскую спецодежду, часто не по размеру
Женщины на Магнитогорском металлургическом комбинате часто болели. Свыше 23 тыс. работниц обслуживало всего 7 врачей женской консультации. Годовой перегруз больниц составлял 402 дня - и больным часто отказывали в госпитализации, женщины лечились амбулаторно, а зачастую вообще пускали заболевания на самотек (в начале 1965 г. из 2956 дней нетрудоспособности, выписанных в бюллетенях, лишь 1637 дней было проведено женщинами в стационаре). То есть болели работницы не только сезонными заболеваниями: ухудшались показатели нетрудо-способностями в связи с абортами, по уходу за заболевшими детьми. На излете оттепели (данные за 1964 г.) из числа беременных под наблюдением медсанчасти комбината родили детей 1036 чел., а искусственно прервали беременность в 4 раза больше, 4276. Опрос 90 женщин в гинекологическом отделении выявил: основной причиной абортов были неудовлетворительные материально-бытовые условия, трудности с устройством детей в ясли.
Дети часто рождались и до брака, и их матери оказывались перед выбором: стать одиночками, сдавая на большую часть дня детей в ясли, или избавиться от беременности. Невозможность иметь сносные жилищные условия диктовали отдаленность потенциальных мам от потенциальных бабушек, которые могли бы помогать ставить детей на ноги, раз яслей и садов не хватало. И слова журналистов того времени о «нежной мужественности» женщин Магнитогорска, получается, были правдой - но правдой неполной, не вполне раскрывающей трудности женской повседневности.
Наталья Львовна Пушкарева
Александр Владимирович Жидченко
«Создали себя и город»: женский вклад в развитие Магнитогорска 1950–1960-х гг._
Женщины на Магнитогорском металлургическом комбинате часто болели. Свыше 23 тыс. работниц обслуживало всего 7 врачей женской консультации. Годовой перегруз больниц составлял 402 дня - и больным часто отказывали в госпитализации, женщины лечились амбулаторно, а зачастую вообще пускали заболевания на самотек (в начале 1965 г. из 2956 дней нетрудоспособности, выписанных в бюллетенях, лишь 1637 дней было проведено женщинами в стационаре). То есть болели работницы не только сезонными заболеваниями: ухудшались показатели нетрудо-способностями в связи с абортами, по уходу за заболевшими детьми. На излете оттепели (данные за 1964 г.) из числа беременных под наблюдением медсанчасти комбината родили детей 1036 чел., а искусственно прервали беременность в 4 раза больше, 4276. Опрос 90 женщин в гинекологическом отделении выявил: основной причиной абортов были неудовлетворительные материально-бытовые условия, трудности с устройством детей в ясли.
Дети часто рождались и до брака, и их матери оказывались перед выбором: стать одиночками, сдавая на большую часть дня детей в ясли, или избавиться от беременности. Невозможность иметь сносные жилищные условия диктовали отдаленность потенциальных мам от потенциальных бабушек, которые могли бы помогать ставить детей на ноги, раз яслей и садов не хватало. И слова журналистов того времени о «нежной мужественности» женщин Магнитогорска, получается, были правдой - но правдой неполной, не вполне раскрывающей трудности женской повседневности.
Наталья Львовна Пушкарева
Александр Владимирович Жидченко
«Создали себя и город»: женский вклад в развитие Магнитогорска 1950–1960-х гг._
😢99❤29👍4