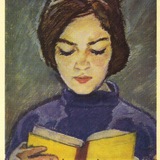Занятость или оплачиваемый труд вне дома, с которым в основном связываются понятие "работа", это лишь один из ее видов. "Работа" - это деятельность по производству предметов потребления и услуг. Люди работают для того, чтобы удовлетворить свои материальные, прежде всего, жизненно необходимые потребности, а также другие потребности, связанные, например, с общением, самореализацией, повышением своего социального статуса.
Домашняя работа также направлена на производство потребительских благ и связана с оказанием услуг членам семьи. При этом домашняя работа, во-первых, не оплачивается, в связи с чем ее в большинстве случаев не считают "настоящей работой" и поэтому о домохозяйке обычно говорят - "она сидит дома, не работает"; и, наконец, предполагается, что домашняя работа должна выполняться женщинами.
Такое разделение работы на два вида, по мнению экономиста Кристин Дельфи, является искусственным и не имеет экономического смысла, поскольку конечной целью и той и другой работы является потребление. Что же касается бесплатности работы по обслуживанию домочадцев, то она является таковой лишь в силу подчиненного положения женщины, если бы женщины не выполняли ее бесплатно, то пришлось бы обращаться к соответствующим службам сервиса и это бы стоило денег.
Таким образом, два вида работы, а именно, работа в общественном производстве и бесплатная работа дома, имеют достаточно выраженные гендерные особенности: занятость мужчин, связана с первым видом работы, а работа женщин - с обоими видами работ. Нельзя не согласиться с мнением Хейди Хартман, которая считает, что современная семья по-прежнему остается сферой, в которой власть над женским трудом принадлежит мужчине, а мерилом мужской власти является их свобода от домашнего труда и семейных обязанностей.
Хоткина З.А
Новый век - новые проблемы: гендерные аспекты труда и занятости в России
Домашняя работа также направлена на производство потребительских благ и связана с оказанием услуг членам семьи. При этом домашняя работа, во-первых, не оплачивается, в связи с чем ее в большинстве случаев не считают "настоящей работой" и поэтому о домохозяйке обычно говорят - "она сидит дома, не работает"; и, наконец, предполагается, что домашняя работа должна выполняться женщинами.
Такое разделение работы на два вида, по мнению экономиста Кристин Дельфи, является искусственным и не имеет экономического смысла, поскольку конечной целью и той и другой работы является потребление. Что же касается бесплатности работы по обслуживанию домочадцев, то она является таковой лишь в силу подчиненного положения женщины, если бы женщины не выполняли ее бесплатно, то пришлось бы обращаться к соответствующим службам сервиса и это бы стоило денег.
Таким образом, два вида работы, а именно, работа в общественном производстве и бесплатная работа дома, имеют достаточно выраженные гендерные особенности: занятость мужчин, связана с первым видом работы, а работа женщин - с обоими видами работ. Нельзя не согласиться с мнением Хейди Хартман, которая считает, что современная семья по-прежнему остается сферой, в которой власть над женским трудом принадлежит мужчине, а мерилом мужской власти является их свобода от домашнего труда и семейных обязанностей.
Хоткина З.А
Новый век - новые проблемы: гендерные аспекты труда и занятости в России
💯109🔥18❤5
Культурный идеал «хорошей матери» в повседневной жизни нереализуем: выполняя родительскую работу, никто не может демонстрировать 24 часа в сутки без выходных желание заботиться, терпение и оптимизм, в соответствии с предписаниями действующей морали.
Отталкиваясь от тех качеств и признаков, которые подвергаются критике, можно попытаться составить портрет «хорошей матери».
«Хорошая мать» не слишком молода, но и не слишком стара. Состоит в браке, и у нее отличные отношения с супругом, которые не мешают ей заботиться о детях. Она не небрежна, но и не слишком опекает. Она белая, здоровая, гетеросексуальная, ее внешность соответствует глянцевым стандартам»
Мать «в засаленном халате», «не имеющая других интересов» — уже «плохая мать».
«Хорошая мать» обладает навыками врача, повара, медсестры, психолога, менеджера, учительницы. Она компетентна настолько, что ее не может заменить интернет-поисковик. У нее активная гражданская позиция. Ее дети здоровы и демонстрируют выдающиеся успехи во всех областях.
Недосягаемость эталона «хорошей матери» делает реальных женщин легко уязвимыми для идеологических спекуляций. Современная поп-культура, наводненная тривиальными интерпретациями психоанализа, объясняет любые проблемы личности последствиями пережитого в детстве. Поскольку в действующем социальном порядке модель асимметричного родительства оправдывается «природной потребностью» женщин заботиться о детях, у матери фактически нет шансов избежать обвинений во «всех грехах общества».
Анна Шадрина
Можно ли быть «хорошей матерью»?
Отталкиваясь от тех качеств и признаков, которые подвергаются критике, можно попытаться составить портрет «хорошей матери».
«Хорошая мать» не слишком молода, но и не слишком стара. Состоит в браке, и у нее отличные отношения с супругом, которые не мешают ей заботиться о детях. Она не небрежна, но и не слишком опекает. Она белая, здоровая, гетеросексуальная, ее внешность соответствует глянцевым стандартам»
Мать «в засаленном халате», «не имеющая других интересов» — уже «плохая мать».
«Хорошая мать» обладает навыками врача, повара, медсестры, психолога, менеджера, учительницы. Она компетентна настолько, что ее не может заменить интернет-поисковик. У нее активная гражданская позиция. Ее дети здоровы и демонстрируют выдающиеся успехи во всех областях.
Недосягаемость эталона «хорошей матери» делает реальных женщин легко уязвимыми для идеологических спекуляций. Современная поп-культура, наводненная тривиальными интерпретациями психоанализа, объясняет любые проблемы личности последствиями пережитого в детстве. Поскольку в действующем социальном порядке модель асимметричного родительства оправдывается «природной потребностью» женщин заботиться о детях, у матери фактически нет шансов избежать обвинений во «всех грехах общества».
Анна Шадрина
Можно ли быть «хорошей матерью»?
💯122😢45❤9
Политические формы сознательности также могут быть рассмотрены как своеволие: сложно говорить о том, что игнорируется, а нужно еще и помешать этому игнорированию. Вторая волна феминизма выдвинула аргумент (который она разделяла с марксизмом и борьбой за права черных), за который и нам, как мне кажется, стоит держаться. Он заключается в том, что политическая сознательность — это нечто приобретенное, и повышение этой сознательности есть ключевой аспект коллективной политической работы. Повышать сознательность нелегко, потому что это сознательность в отношении того, что игнорируется. Если смысл игнорирования заключается в том, чтобы дать некоторым власть занимать место (занятие места воспроизводится через сокрытие следов оккупации), то повышение сознательности — это противостояние этой оккупации.
<...>
Даже упоминание о несправедливости, насилии, власти и подчинении в мире, где «счастливое разнообразие» используется как технология описания социума, может сделать тебя помехой — той, которая стоит на пути у счастья других. Вашу речь воспринимают так, как будто вы все трясетесь над какой-то своей зудящей ссадиной, держитесь за нее, за индивидуальное или коллективное воспоминание, за ощущение истории как незавершенного процесса — потому что вы сами как ссадина. Часто говорят, что политическая борьба против расизма — это все равно, что биться головой об стену. Стена-то остается на месте, а вот вы зарабатываете ссадины. Нам нужно саднить так же, как и тому, о чем мы говорим. Конечно, это не все, о чем мы говорим или делаем. Не мы причина несчастья, которое нам приписывают, но мы осознаем, какой эффект достигается этим приписыванием. Мы можем говорить о бытии своевольными субъектами, недовольными феминистками, рассерженными черными женщинами, мы можем завладеть этими образами. Мы можем говорить о разговорах, которые вели за обеденными столами или на семинарах и встречах. Мы можем смеяться от узнавания схожести занимаемой позиции, даже если на самом деле мы не населяем одно и то же место (и мы его не населяем). Есть кайф в том, чтобы обламывать кайф. Обламывайте кайф — мы на это способны и мы будем это делать. Будьте своевольны — мы будем ими, мы уже такие.
Сара Ахмед
Феминистки-кайфоломщицы (и другие своевольные субъекты)
<...>
Даже упоминание о несправедливости, насилии, власти и подчинении в мире, где «счастливое разнообразие» используется как технология описания социума, может сделать тебя помехой — той, которая стоит на пути у счастья других. Вашу речь воспринимают так, как будто вы все трясетесь над какой-то своей зудящей ссадиной, держитесь за нее, за индивидуальное или коллективное воспоминание, за ощущение истории как незавершенного процесса — потому что вы сами как ссадина. Часто говорят, что политическая борьба против расизма — это все равно, что биться головой об стену. Стена-то остается на месте, а вот вы зарабатываете ссадины. Нам нужно саднить так же, как и тому, о чем мы говорим. Конечно, это не все, о чем мы говорим или делаем. Не мы причина несчастья, которое нам приписывают, но мы осознаем, какой эффект достигается этим приписыванием. Мы можем говорить о бытии своевольными субъектами, недовольными феминистками, рассерженными черными женщинами, мы можем завладеть этими образами. Мы можем говорить о разговорах, которые вели за обеденными столами или на семинарах и встречах. Мы можем смеяться от узнавания схожести занимаемой позиции, даже если на самом деле мы не населяем одно и то же место (и мы его не населяем). Есть кайф в том, чтобы обламывать кайф. Обламывайте кайф — мы на это способны и мы будем это делать. Будьте своевольны — мы будем ими, мы уже такие.
Сара Ахмед
Феминистки-кайфоломщицы (и другие своевольные субъекты)
👍41💯16❤12
Потому что женская работа никогда не кончается и не оплачивается или оплачивается ниже или она скучна и однообразна и нас первыми увольняют и то как мы выглядим важнее того что мы делаем и если нас изнасилуют то это наша вина и если нас избили значит мы это спровоцировали и если мы повышаем голос то мы скандалистки и если мы получаем удовольствие от секса значит мы нимфоманки а если нет то фригидны а если мы ждём от общества заботы о наших детях то мы эгоистичны и если мы отстаиваем свои права то мы агрессивны и неженственны а если нет то мы типичные слабые женщины и если мы хотим замуж значит мы охотимся на мужчину а если не хотим то мы ненормальные и потому что мы до сих пор не имеем надёжных и безопасных контрацептивов когда мужчины ни за что не отвечают и если мы боимся ответственности или отказываемся от беременности нас делают виновницами абортов и... по многим другим причинам мы участвуем в женском движении.
Джойс Стивенс
Джойс Стивенс
❤107💯74😢13
Forwarded from Уравнение оптимизма
Агрессор, выбирающий необщительность, ощущает больший контроль и власть, если сохраняет дистанцию и не дает женщине подступить ближе. Он также может испытывать удовлетворение от чувства превосходства, снижая ее энтузиазм своей холодностью. Он стремится к Силе подчинения, чтобы защитить себя от собственного чувства бессилия и неполноценности.
Точно так же агрессор защищает себя от подавляющего чувства беспомощности, возражая партнеру. Заявляя, что он прав, а женщина не права, он верит в то, что остается победителем — более властным и контролирующим других.
Сказать «я думаю», «мне кажется» или «согласно моему мнению» означало бы для него утрату ощущения победы; ему тогда пришлось бы согласиться с тем, что возможны разные взгляды на жизнь. Но агрессор не может допустить это, потому что, если у женщины появится свой взгляд на вещи, он уже не сможет контролировать ее. А он испытывает всепоглощающую потребность контролировать ее, потому что она является его проекцией. Если он не будет ощущать свой контроль, то вся его реальность разрушится.
Агрессор дает себе разрешение действовать исходя из подавленных чувств и в то же время защищает свой идеальный образ, сбрасывая со счетов последствия агрессивного поведения. Обесценивание — это основная форма защиты.
Блокирование и отвлечение — другие средства защиты, посредством которых агрессор контролирует межличностную реальность. Полностью избегая текущей темы, он не дает исследовать мотивы своего поведения. В результате он поддерживает свой идеальный образ и облегчает скрытое ощущение беспомощности. Потребность в контроле бывает настолько сильной, что некоторые агрессоры гневно восклицают: «Я не понимаю, к чему весь этот разговор! Прекратим его!»
Обвинение и порицание — также средства защиты и характерные симптомы проекции. Агрессор избегает ответственности за свое поведение и поддерживает собственный идеальный образ, обвиняя женщину и перекладывая на нее ответственность за свои чувства. Например, когда он набрасывается на нее, то это оказывается «ее вина». Таким образом он «оправдывает» агрессию.
Другой способ, с помощью которого агрессор пытается защитить себя от своих скрытых чувств неполноценности и беспомощности — это критика и осуждение. Заявляя о собственном превосходстве и «правоте», он укрепляет как свой идеальный образ, так и всю свою систему защиты.
Агрессия под видом шутки — это способ одержать победу и ощутить Силу подчинения. Это скрытая атака, отрицаемая стандартной фразой: «Ты не понимаешь шуток». Такое осуждение жертвы порождает в агрессоре чувство превосходства, благодаря которому он ощущает больше власти. Это выстрел, который срабатывает всегда. Прежде чем жертва успеет осознать, урон уже нанесен. «Победа» гарантирована, а враг — проекция — снова унижен.
Тривиализация, пренебрежение, угрозы и обзывание — всё это защита против подавленных чувств неполноценности и беспомощности. Это демонстрация своей силы агрессором с целью унизить и подчинить партнера (свою проекцию).
Когда чувство проекции велико, агрессор угрожает женщине, как если бы она была его продолжением — перчаткой на его руке — под его контролем, обязанной выполнять его приказы. Пока он сохраняет контроль над своей проекцией, он ощущает себя защищенным от собственных чувств.
Забывая, агрессор отрицает ответственность за свое поведение, проявляя враждебный настрой. Таким образом он защищает свой идеальный образ и поддерживает свою оборону.
Патрисия Эванс
Бунт удобной жены
Точно так же агрессор защищает себя от подавляющего чувства беспомощности, возражая партнеру. Заявляя, что он прав, а женщина не права, он верит в то, что остается победителем — более властным и контролирующим других.
Сказать «я думаю», «мне кажется» или «согласно моему мнению» означало бы для него утрату ощущения победы; ему тогда пришлось бы согласиться с тем, что возможны разные взгляды на жизнь. Но агрессор не может допустить это, потому что, если у женщины появится свой взгляд на вещи, он уже не сможет контролировать ее. А он испытывает всепоглощающую потребность контролировать ее, потому что она является его проекцией. Если он не будет ощущать свой контроль, то вся его реальность разрушится.
Агрессор дает себе разрешение действовать исходя из подавленных чувств и в то же время защищает свой идеальный образ, сбрасывая со счетов последствия агрессивного поведения. Обесценивание — это основная форма защиты.
Блокирование и отвлечение — другие средства защиты, посредством которых агрессор контролирует межличностную реальность. Полностью избегая текущей темы, он не дает исследовать мотивы своего поведения. В результате он поддерживает свой идеальный образ и облегчает скрытое ощущение беспомощности. Потребность в контроле бывает настолько сильной, что некоторые агрессоры гневно восклицают: «Я не понимаю, к чему весь этот разговор! Прекратим его!»
Обвинение и порицание — также средства защиты и характерные симптомы проекции. Агрессор избегает ответственности за свое поведение и поддерживает собственный идеальный образ, обвиняя женщину и перекладывая на нее ответственность за свои чувства. Например, когда он набрасывается на нее, то это оказывается «ее вина». Таким образом он «оправдывает» агрессию.
Другой способ, с помощью которого агрессор пытается защитить себя от своих скрытых чувств неполноценности и беспомощности — это критика и осуждение. Заявляя о собственном превосходстве и «правоте», он укрепляет как свой идеальный образ, так и всю свою систему защиты.
Агрессия под видом шутки — это способ одержать победу и ощутить Силу подчинения. Это скрытая атака, отрицаемая стандартной фразой: «Ты не понимаешь шуток». Такое осуждение жертвы порождает в агрессоре чувство превосходства, благодаря которому он ощущает больше власти. Это выстрел, который срабатывает всегда. Прежде чем жертва успеет осознать, урон уже нанесен. «Победа» гарантирована, а враг — проекция — снова унижен.
Тривиализация, пренебрежение, угрозы и обзывание — всё это защита против подавленных чувств неполноценности и беспомощности. Это демонстрация своей силы агрессором с целью унизить и подчинить партнера (свою проекцию).
Когда чувство проекции велико, агрессор угрожает женщине, как если бы она была его продолжением — перчаткой на его руке — под его контролем, обязанной выполнять его приказы. Пока он сохраняет контроль над своей проекцией, он ощущает себя защищенным от собственных чувств.
Забывая, агрессор отрицает ответственность за свое поведение, проявляя враждебный настрой. Таким образом он защищает свой идеальный образ и поддерживает свою оборону.
Патрисия Эванс
Бунт удобной жены
❤65💯19
Представьте, насколько иначе был бы устроен социальный мир, если бы вокруг не было мужчин (воспроизводство населения каким-либо образом продолжалось бы) и большинство рабочих, включая тех, кто работает на высших уровнях в правительстве и промышленности, определенный период своей взрослой жизни были бы беременны или заботились о детях. В этом случае вся система осуществления трудовой деятельности настолько очевидно нуждалась бы в приведении ее в соответствие с вынашиванием и рождением детей, что создание институтов, координирующих эти два аспекта жизни, стало бы само собой разумеющимся.
Были бы оплачиваемые дни по уходу за больным ребенком, оплачиваемое время по уходу за маленькими детьми и соответствие, а не несоответствие, как сейчас, рабочего дня со временем пребывания детей в школе. Возможно, была бы другой вся организация рабочей жизни, когда нормой являлись бы не 40-часовые или более рабочие недели от начала трудовой деятельности до старости, а переход от рабочей недели меньшей, чем 40 часов, — в период, когда дети еще маленькие — к сорокачасовым и более рабочим неделям, когда дети вырастают.
Урок такого альтернативного решения должен быть ясным. Биологическая и историческая роль женщины как матери не ограничивает доступ к экономическим и политическим ресурсам. Его ограничивает андроцентрический социальный мир, который институциализирует только один механизм координации оплачиваемой работы с обязанностью быть родителем: иметь дома жену, которая заботится о детях.
Сандра Бем
К вопросу о гендерной нейтральности: распространение андроцентризма
Были бы оплачиваемые дни по уходу за больным ребенком, оплачиваемое время по уходу за маленькими детьми и соответствие, а не несоответствие, как сейчас, рабочего дня со временем пребывания детей в школе. Возможно, была бы другой вся организация рабочей жизни, когда нормой являлись бы не 40-часовые или более рабочие недели от начала трудовой деятельности до старости, а переход от рабочей недели меньшей, чем 40 часов, — в период, когда дети еще маленькие — к сорокачасовым и более рабочим неделям, когда дети вырастают.
Урок такого альтернативного решения должен быть ясным. Биологическая и историческая роль женщины как матери не ограничивает доступ к экономическим и политическим ресурсам. Его ограничивает андроцентрический социальный мир, который институциализирует только один механизм координации оплачиваемой работы с обязанностью быть родителем: иметь дома жену, которая заботится о детях.
Сандра Бем
К вопросу о гендерной нейтральности: распространение андроцентризма
❤108💯55😢7
Основанный 12 апреля 1919 г., Баухаус являл собой одно из наиболее прогрессивных учебных заведений XX века и стремилась оставаться таковым во всем. Основатель и первый директор школы, Вальтер Гропиус, следуя тенденциям того времени, «Манифесте» Баухауса пишет: «При наличии свободных мест в школу принимается любой человек с незапятнанной репутацией, независимо от пола и возраста...». Данная цитата служит доказательством того факта, что школа заявляет о себе, как об образцовой модели равенства и истинного прогресса не только в высшем образовании, но и в социальной жизни общества и открывает свои двери для нового типа немецких женщин, свободных и эмансипированных.
Несмотря на это представительницы «прекрасного пола» оказывались подвержены сексизму и ограничениям. Если студенты могли жить в одном из зданий при школе, то студенткам приходилось снимать комнаты в городе. Распределение по направлениям проводилось еще на этапе поступления: преподаватели настоятельно рекомендовали абитуриенткам выбирать не промышленный дизайн или работу по металлу (т.к. эти направления предназначались в Баухаусе для мужчин), и уж тем более не архитектуру, которая виделась им доминантой, конечной целью Баухауса, а традиционно женские ремесла: ткачество, гончарное мастерство, т.к. любое, созданное женщинами искусство расценивалось лишь как «рукоделие».
Так, спустя два года первый директор, В. Гропиус, изменил свое мнение: «Мы абсолютно против того, чтобы давать им, женщинам, архитектурное образование». В результате женщины, стремящие реализовать свой творческий потенциал, оказались в маргинальном положении в самом прогрессивном учебном заведении XX в. Однако, несмотря на все существующие ограничения некоторым студенткам удалось не только преодолеть негласный запрет школы на работу женщин в более «сложных» областях и заявить о себе, как о высококвалифицированных профессионалах, абсолютно самостоятельных профессиональных единицах, но и оказать влияние на развитие школы.
Говоря о влиянии, которое было оказано женщинами на развитие и формирование Баухауса нельзя не затронуть историю трансформации текстильной мастерской или, как ее по — другому называли, «женского отделения» из традиционно— ремесленнической в, пожалуй, самую экспериментальную мастерскую школы. Основанная в мае 1919 г. текстильная мастерская унаследовала традиции, оборудование и руководство старой ткацкой мастерской Веймарской школы художественных ремесел Анри ван де Вельде. Первым руководителем мастерской стала Хелена Бёрнер — опытная художница —вышивальщица и преподаватель школы Анри ван де Вельде. Что касается ее вклада в развитие школы, то в 1921 году она составила учебный план мастерской, обозначив тем самым путь дальнейшего развития на ближайшие 4 года. До переезда из Веймара в Дессау Хелена Бёрнер оставалась технической помощницей Георга Мухе. Однако в 1925 г., приняла решение оставить пост помощницы. Являясь приверженцем традиционного ремесленного производства, она была против радикального экспериментаторства, захлестывавшего мастерскую.
На ее место была назначена Гунта Штёльцль — одна из самых давних и способных учениц — ткачих. Будучи «сосланной» в «женское отделение», она превратила непопулярный филиал в один из самых коммерчески — развитых отделов школы, достигнув невиданного ранее для Баухауса уровня производительности. Она была одной из тех 84 женщин, принятых в Баухаус на самый первый полугодовой вводный курс, который вел Иоганнес Иттен. После прохождения вводного курса Г. Штёльцль поступила в ткатскую мастерскую, руководителем которой являлся Георг Муха. Он не был увлечен ткачеством, а следовательно лишь числился руководителем. Фактическим же лидером была Г. Штёльцль. В 1927 г. после охватившего мастерскую недовольства и требования студенток сменить руководство отделения она официально вступила на должность руководителя.
Несмотря на это представительницы «прекрасного пола» оказывались подвержены сексизму и ограничениям. Если студенты могли жить в одном из зданий при школе, то студенткам приходилось снимать комнаты в городе. Распределение по направлениям проводилось еще на этапе поступления: преподаватели настоятельно рекомендовали абитуриенткам выбирать не промышленный дизайн или работу по металлу (т.к. эти направления предназначались в Баухаусе для мужчин), и уж тем более не архитектуру, которая виделась им доминантой, конечной целью Баухауса, а традиционно женские ремесла: ткачество, гончарное мастерство, т.к. любое, созданное женщинами искусство расценивалось лишь как «рукоделие».
Так, спустя два года первый директор, В. Гропиус, изменил свое мнение: «Мы абсолютно против того, чтобы давать им, женщинам, архитектурное образование». В результате женщины, стремящие реализовать свой творческий потенциал, оказались в маргинальном положении в самом прогрессивном учебном заведении XX в. Однако, несмотря на все существующие ограничения некоторым студенткам удалось не только преодолеть негласный запрет школы на работу женщин в более «сложных» областях и заявить о себе, как о высококвалифицированных профессионалах, абсолютно самостоятельных профессиональных единицах, но и оказать влияние на развитие школы.
Говоря о влиянии, которое было оказано женщинами на развитие и формирование Баухауса нельзя не затронуть историю трансформации текстильной мастерской или, как ее по — другому называли, «женского отделения» из традиционно— ремесленнической в, пожалуй, самую экспериментальную мастерскую школы. Основанная в мае 1919 г. текстильная мастерская унаследовала традиции, оборудование и руководство старой ткацкой мастерской Веймарской школы художественных ремесел Анри ван де Вельде. Первым руководителем мастерской стала Хелена Бёрнер — опытная художница —вышивальщица и преподаватель школы Анри ван де Вельде. Что касается ее вклада в развитие школы, то в 1921 году она составила учебный план мастерской, обозначив тем самым путь дальнейшего развития на ближайшие 4 года. До переезда из Веймара в Дессау Хелена Бёрнер оставалась технической помощницей Георга Мухе. Однако в 1925 г., приняла решение оставить пост помощницы. Являясь приверженцем традиционного ремесленного производства, она была против радикального экспериментаторства, захлестывавшего мастерскую.
На ее место была назначена Гунта Штёльцль — одна из самых давних и способных учениц — ткачих. Будучи «сосланной» в «женское отделение», она превратила непопулярный филиал в один из самых коммерчески — развитых отделов школы, достигнув невиданного ранее для Баухауса уровня производительности. Она была одной из тех 84 женщин, принятых в Баухаус на самый первый полугодовой вводный курс, который вел Иоганнес Иттен. После прохождения вводного курса Г. Штёльцль поступила в ткатскую мастерскую, руководителем которой являлся Георг Муха. Он не был увлечен ткачеством, а следовательно лишь числился руководителем. Фактическим же лидером была Г. Штёльцль. В 1927 г. после охватившего мастерскую недовольства и требования студенток сменить руководство отделения она официально вступила на должность руководителя.
❤32👍8❤🔥4🔥1
Как и другие преподаватели, Г. Штёльцль писала теоретические статьи, и в одной из них объявила, что работа с текстилем тоже может быть искусством: ткачество — это эстетическая система, единство формы, композиции, цвета и материала. Как раз такое отношение к ткачеству и текстильной промышленности и было свойственно для ее творчества. Весь текстиль был составлен из сложно — составных композиций. Она экспериментировала с композицией и цветом, изучала различные производственные техники, осваивала новые материалы и проверяла их износостойкость. И руководствовалась в своей работе она главным принципом Баухауса: творить вещи для нового мира, совмещая простоту и сложность, красоту и функциональность. Г. Штёльцль дважды побывала на ремесленных курсах, на которых обучилась техникам покраски тканей, новейшим ткацким и волоконным технологиям. Позже, основываясь на полученных актуальных знаниях она разработала трехлетнюю учебную программу, включив в нее такие дисциплины как ручное ткачество на простейших механических ремизных и сложных жаккардовых станках, гобеленоплетение, ковроткачество, узелковое ковроткачество. Большое внимание уделялось изучению материаловедения, различных переплетений, способов окрашивания сырья. Главными же преобразованиями мастерской в годы ее руководства стали направленность на серийное, а затем промышленное производство, и, как следствие, изменение ассортимента выпускаемой продукции: вместо ковров начали производить напольные покрытия, вместо декоративных панно — «практические» ткани, иначе те, что использовались в быту или изготовлении одежды.
Анни Фляйшман, будущая Альберс, приехала в Баухаус в надежде продолжить занятия живописью. Однако, как и все абитуриентки, она столкнулась с реалиями, в которых предвзятое отношение к женщинам было нормой, и настойчивым предложением поступить в текстильную мастерскую. Выбор перед ней стоял не большой: принять предложение или в противном случае отказаться от права на получение образования и возможности профессиональной реализации, так как поступление на другое направление считалось невозможным. Объяснялось это отсутствием свободных мест. С недовольством Альберс соглашается быть студенткой — ткачихой. «Я думала, что ткачество — для слабаков, — говорит она в своем интервью 50 лет спустя. — Одни нитки, и ничего больше». Ко времени этого интервью Анни Альберс уже считалась одним из самых выдающихся художниц по текстилю XX в, а ее отношение к «ниткам» сильно изменилось. На своей персональной выставке в 1949 г. в Музее современного искусства в Нью — Йорке (MoMA) она продемонстрировала всему миру новые для текстиля материалы: черный целлофан, рафия и медная шениль, пшеница, трава и бечевка, деревянные рейки и шканты.
Анни Фляйшман, будущая Альберс, приехала в Баухаус в надежде продолжить занятия живописью. Однако, как и все абитуриентки, она столкнулась с реалиями, в которых предвзятое отношение к женщинам было нормой, и настойчивым предложением поступить в текстильную мастерскую. Выбор перед ней стоял не большой: принять предложение или в противном случае отказаться от права на получение образования и возможности профессиональной реализации, так как поступление на другое направление считалось невозможным. Объяснялось это отсутствием свободных мест. С недовольством Альберс соглашается быть студенткой — ткачихой. «Я думала, что ткачество — для слабаков, — говорит она в своем интервью 50 лет спустя. — Одни нитки, и ничего больше». Ко времени этого интервью Анни Альберс уже считалась одним из самых выдающихся художниц по текстилю XX в, а ее отношение к «ниткам» сильно изменилось. На своей персональной выставке в 1949 г. в Музее современного искусства в Нью — Йорке (MoMA) она продемонстрировала всему миру новые для текстиля материалы: черный целлофан, рафия и медная шениль, пшеница, трава и бечевка, деревянные рейки и шканты.
👍38❤8❤🔥4
Однако первый серьезный эксперимент, позволяющий заявить о радикальных переменах в сфере текстиля произошел много ранее. Это случилось в результате тихого переворота, который совершила Альберс. В 1927 г. после открытия в Баухаусе факультета архитектуры, заявок на поступление на данное направление от представительниц «прекрасного пола» было подано большое количество. Однако женщинам в их желании обучаться архитектуре руководство в лице директора школы отказывало, объясняя это тем, что все места уже заняты. Представительницам «прекрасного пола», по словам Вальтера Гропиуса, следовало заниматься не строительством, а внутренним убранством: быть украшением в доме и украшать его. Реакция Альберс на подобное отношение к женской проектной деятельности прослеживается в ее дипломной работе 1929 г., когда директором Баухауса уже являлся преемник Гропиуса — Ханнес Мейер. Заданием Альберс, полученное ей от нового директора стало настенное полотно для нового лектория. Однако Альберс не просто выполнила заказ, но и переосмыслила ткачество для себя и всех последующих поколений. Спроектировав штору с функционалом стены: сотканная из хлопка, шенили и целлофана, она не только отражала свет, но и поглощала звук, художница соприкоснулась с запретной для женщин областью. Технологии, использованные в создании полотна она назвала «текстильной инженерией». Такой обладающий весьма революционным характером поступок был совершен Альберс после презентации Зигфридом Эбелингом, одним из блестящих учеников Баухауса, его учебного проекта. Он переосмыслил стену как мембрану, «пористую… формальную, а не субстанциональную». Таким образом, если мужчина — баухаусовец говорит о мембранных стенах, то студентка столь экспериментально — направленной текстильной мастерской может также обратиться к это вопросу, но посмотреть на ситуацию с другой стороны. И спроектировать мембраны, которые стенами являются.
<...>
Основные выводы нашего исследования заключаются в том, что вопреки тому факту, что Баухаус придерживался курса на гендерное равенство в образовании, он часто был подвержен критике, обоснованной тем, что многие студентки, а позже выпускники оставались незамеченными как во время обучения, так и после окончания школы. Существует мнение, что несмотря на прописанные в «Манифесте» прогрессивные идеи, касающиеся гендерного равенства, руководство школы придерживалось патриархальных взглядов на роль и место женщины в обществе. Убеждения об отличном от мужского восприятия мира женщинами не могло измениться так же быстро как законы, дающие ей право встать рядом с мужчиной.
Для того, чтобы женщины свободно вошли в мир мужчин требовалось время. Каждому, столкнувшемуся с эмансипированной, свободной, стремящейся реализовать свои амбиции женщиной, необходимо было время привыкнуть к новым реалиям. Таким образом возникшие противоречия не обеспечивали полного равенства между студентами обоих полов, лишая студенток возможности обучения в, так называемых, «мужских» мастерских. Кроме ограничений женщины часто сталкивались с нескрываемым пренебрежением к их профессиональной проектной деятельности. Однако, некоторым студенткам, например Гунте Штёльцль, удалось стереть грань между мужскими и женскими сферами деятельности, начав тем самым процесс преобразования художественного проектирования, архитектуры и дизайна во внегендерные профессии. Именно благодаря им теперь нам, людям XXI в, известны имена таких значимых фигур мира архитектуры как Заха Хадид. Стоит отметить, что Заха Хадид опиралась на разработки русского авангарда и школы Баухаус.
<...>
Основные выводы нашего исследования заключаются в том, что вопреки тому факту, что Баухаус придерживался курса на гендерное равенство в образовании, он часто был подвержен критике, обоснованной тем, что многие студентки, а позже выпускники оставались незамеченными как во время обучения, так и после окончания школы. Существует мнение, что несмотря на прописанные в «Манифесте» прогрессивные идеи, касающиеся гендерного равенства, руководство школы придерживалось патриархальных взглядов на роль и место женщины в обществе. Убеждения об отличном от мужского восприятия мира женщинами не могло измениться так же быстро как законы, дающие ей право встать рядом с мужчиной.
Для того, чтобы женщины свободно вошли в мир мужчин требовалось время. Каждому, столкнувшемуся с эмансипированной, свободной, стремящейся реализовать свои амбиции женщиной, необходимо было время привыкнуть к новым реалиям. Таким образом возникшие противоречия не обеспечивали полного равенства между студентами обоих полов, лишая студенток возможности обучения в, так называемых, «мужских» мастерских. Кроме ограничений женщины часто сталкивались с нескрываемым пренебрежением к их профессиональной проектной деятельности. Однако, некоторым студенткам, например Гунте Штёльцль, удалось стереть грань между мужскими и женскими сферами деятельности, начав тем самым процесс преобразования художественного проектирования, архитектуры и дизайна во внегендерные профессии. Именно благодаря им теперь нам, людям XXI в, известны имена таких значимых фигур мира архитектуры как Заха Хадид. Стоит отметить, что Заха Хадид опиралась на разработки русского авангарда и школы Баухаус.
👍40❤🔥13❤6
Что касается гендерного соотношения на факультете, то по мере развития школы существенных изменений в сторону равного и доступного для всех образования не произошло. Провозглашение гендерного равенства оставалось теоретическим в области обучения. Такая же ситуация была и с преподавательским составом: до переезда в Дессау только шесть из сорока пяти преподавателей были женщинами. Более того, прослеживается обратная тенденция. Число преподавателей — женщин только уменьшалось, и происходило это параллельно с сокращением приема женщин на обучение. Кроме того, критике подвергались принятые в школе учебные программы. Как уже упоминалось ранее, почти каждая из студенток Баухауса начинала свой творческий путь в текстильных мастерских. Однако школа не выдавала свидетельства об обучении ткачеству, что означало, что женщины не могли зарегистрировать свою профессию в Торговой палате. Это мешало им в получении диплома магистра, а как следствие в развитии карьеры.
Козловский В.Д., Пушкарева С.А.
Художественное проектирование начала XX столетия. Женщины Баухауса
Козловский В.Д., Пушкарева С.А.
Художественное проектирование начала XX столетия. Женщины Баухауса
❤49😢23👍11
Более высокую оплату мужского труда до сих пор порой обосновывают мифом о том, что мужчины являются кормильцами семьи. Именно на таком основании мужчинами-рабочими выдвигалось требование «семейной зарплаты». Последняя, с перспективы Х. Хартманн, представляла собой межклассовый патриархатный договор по поводу
женской рабочей силы.
В результате в начале двадцатого века в Великобритании оплата женского труда в размере 50-54% от мужской была закреплена законодательно. Когда мужчины добились «семейной зарплаты» в Австралии, 45% работников-мужчин были холостыми. Это оправдывалось тем, что женщины не обеспечивают иждивенцев, в то время как в действительности по подсчетам Э. Рэтбоун до и после первой мировой войны в Великобритании треть работающих на оплачиваемой работе женщин полностью или частично отвечали за содержание иждивенцев, и такое же соотношение имело место в рамках викторианской обрабатывающей промышленности в Австралии. Утверждение о том, что женщины не ответственны за содержание (в сущности – выживание) своих детей или других родственниц никогда не было правдой.
Трансформации самого характера труда в современном обществе наглядно продемонстрировали подлинное значение женского труда, выполняемого в сфере приватного. Так, К. Морини в своей концепции когнитивного биокапитализма указывает на то, что современный тип труда по своему содержанию стал близок к тому, который ранее выполняли женщины в кругу семьи. Последний характеризуется
единым для работы и жизни пространством, отсутствием четкой границы между работой и отдыхом во времени и большой эмоциональной вовлеченностью в труд. Работа, таким образом, может претендовать на захват всей жизни подобно тому, как труд по воспроизводству человеческой жизни при патриархате полностью заполняет жизни женщин.
К. Морини в этой связи сравнивает оплачиваемую работу с живым телом, которое постоянно нуждается в заботе о себе. При этом от работниц и работников прямо требуют полной вовлеченности в труд на благо компании-семьи. Л. Кайшета, Э. Г. Родригес, Ш. Тейт и К. В. Солис также утверждают, что ранее ассоциированная с домашним трудом эмоциональная работа особенно необходима в оплачиваемых трудовых отношениях (в сфере информации, СМИ или услуг)
В конечном итоге сама жизнь вовлекается в производство, в силу чего разграничение труда на репродуктивный и продуктивный еще больше выявляет собственную условность. Современность преобразует содержание всего труда по модели труда, исторически выполняемого женщинами, демонстрируя его подлинную, фундаментальную (для патриархатного общества), значимость. Домашний труд как таковой по-прежнему лежит в основе экономики. Так, уничтожение государства всеобщего благосостояния влечет за собой увеличение спроса на труд по уходу. В Италии проблема решается посредством низкооплачиваемого труда мигранток в качестве домашних сиделок, который позволил итальянкам сохранить возможность работать вне дома. Умиротворение классового конфликта происходит уже не за счет постоянного прироста общественного продукта, а за счет глобального экономического неравенства, эксплуатации внутри семьи и патриархатным оценкам «женского» труда по уходу, благодаря которым семьи в принципе могут себе позволить труд мигранток
Кострицкая Таиса
Влияние дихотомии публичного и приватного на оценку и содержание женского труда
женской рабочей силы.
В результате в начале двадцатого века в Великобритании оплата женского труда в размере 50-54% от мужской была закреплена законодательно. Когда мужчины добились «семейной зарплаты» в Австралии, 45% работников-мужчин были холостыми. Это оправдывалось тем, что женщины не обеспечивают иждивенцев, в то время как в действительности по подсчетам Э. Рэтбоун до и после первой мировой войны в Великобритании треть работающих на оплачиваемой работе женщин полностью или частично отвечали за содержание иждивенцев, и такое же соотношение имело место в рамках викторианской обрабатывающей промышленности в Австралии. Утверждение о том, что женщины не ответственны за содержание (в сущности – выживание) своих детей или других родственниц никогда не было правдой.
Трансформации самого характера труда в современном обществе наглядно продемонстрировали подлинное значение женского труда, выполняемого в сфере приватного. Так, К. Морини в своей концепции когнитивного биокапитализма указывает на то, что современный тип труда по своему содержанию стал близок к тому, который ранее выполняли женщины в кругу семьи. Последний характеризуется
единым для работы и жизни пространством, отсутствием четкой границы между работой и отдыхом во времени и большой эмоциональной вовлеченностью в труд. Работа, таким образом, может претендовать на захват всей жизни подобно тому, как труд по воспроизводству человеческой жизни при патриархате полностью заполняет жизни женщин.
К. Морини в этой связи сравнивает оплачиваемую работу с живым телом, которое постоянно нуждается в заботе о себе. При этом от работниц и работников прямо требуют полной вовлеченности в труд на благо компании-семьи. Л. Кайшета, Э. Г. Родригес, Ш. Тейт и К. В. Солис также утверждают, что ранее ассоциированная с домашним трудом эмоциональная работа особенно необходима в оплачиваемых трудовых отношениях (в сфере информации, СМИ или услуг)
В конечном итоге сама жизнь вовлекается в производство, в силу чего разграничение труда на репродуктивный и продуктивный еще больше выявляет собственную условность. Современность преобразует содержание всего труда по модели труда, исторически выполняемого женщинами, демонстрируя его подлинную, фундаментальную (для патриархатного общества), значимость. Домашний труд как таковой по-прежнему лежит в основе экономики. Так, уничтожение государства всеобщего благосостояния влечет за собой увеличение спроса на труд по уходу. В Италии проблема решается посредством низкооплачиваемого труда мигранток в качестве домашних сиделок, который позволил итальянкам сохранить возможность работать вне дома. Умиротворение классового конфликта происходит уже не за счет постоянного прироста общественного продукта, а за счет глобального экономического неравенства, эксплуатации внутри семьи и патриархатным оценкам «женского» труда по уходу, благодаря которым семьи в принципе могут себе позволить труд мигранток
Кострицкая Таиса
Влияние дихотомии публичного и приватного на оценку и содержание женского труда
😢69💯32❤8