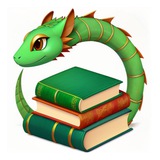#новинка #нонфикшн #мифыотидо
Марина Голубева. Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света / науч. ред. Павел Руднев. — М.: МИФ, 2025. — 336 с.
Прекрасное исследование всех аспектов славянской нечисти — не только увлекательно написанное, но и взвешенное, с опорой на источники и научные работы в этой области, с впечатляющими цитатами, наконец, с хорошим психологическим разбором самой сути этого явления. Это и рассказ о самих «нечистиках», как их называет автор (классное слово!), и анализ взаимоотношений с ними, объяснение неиссякаемой народной веры в них — вплоть до наших дней, несмотря на постоянную борьбу православной церкви с этим чисто языческим явлением, и научное объяснение этой веры, и даже попытка на этом основании лучше понять славянский менталитет.
Как сообщает скупая справка на сайте издательства, Марина Голубева — кандидат философских наук, доцент психологии, преподаватель, в том числе на факультете искусств. Из текста понятно так же, что, несмотря на искреннее увлечение предметом (она с большой любовью пишет обо всех этих чудиках — домовых, русалках, кикиморах, ведьмах), исследовательница верна научному подходу и старается объяснить природу «нечистиков» с позиции современных научных знаний. Например, полудница, «олицетворявшая карающую силу солнца», приходила в самую жару, в летний полдень, в солнцепек и наводила морок, путала так, что человек кругами ходил по ржаному полю, пока не падал без сил, крала детей, могла и защекотать до смерти. По сути, это объяснение солнечного удара, и защита от полудницы такая же, как от агрессивного солнца, — не работать в полдень, не спать в поле, не оставлять без присмотра детей, стараться не выходить в такое время из дома, закрывать ставни.
Автор останавливается на основных представителях славянской нечисти: духах-хранителях (леших, водяных, домовых и т.д.), атмосферных и стихийных духах (ветрах, планетниках, огненных демонах, полудницах и т.д.), нежити (упырях, кикиморах, заложных покойниках, нави и др.), двойниках (отражениях в зеркале, тенях, оборотнях), наконец, о людях, впустивших в себя тьму осознанно, — колдунах и ведьмах. Исследовательница дает достаточно емкое представление о мифологическом устройстве славянского мира в целом — тесной связи с загробным миром, его особенностях, способах проникновения из одного мира в другой, методах защиты от вредоносных существ и колдовства, мерах, предпринимаемых для относительно мирного сосуществования людей и демонов. Вынесенное в заголовок прилагательное «славянская» неслучайно — хотя основное внимание уделено мифологии восточных славян, автор не забывает и о специфических особенностях западно- и южнославянской нечисти.
Самый интересный момент в исследовании — попытка с помощью анализа низшей мифологии, победившей в сознании простого народа надежно забытых языческих богов и даже изрядно потеснившей православные установки, осознать славянский менталитет и выявить разницу с европейским. Так, на Руси колдуны и ведьмы преследовались судом не за использование черной магии самой по себе, как это происходило в Европе, «а за то, что ее применяли для нанесения вреда».
↓
Марина Голубева. Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света / науч. ред. Павел Руднев. — М.: МИФ, 2025. — 336 с.
Прекрасное исследование всех аспектов славянской нечисти — не только увлекательно написанное, но и взвешенное, с опорой на источники и научные работы в этой области, с впечатляющими цитатами, наконец, с хорошим психологическим разбором самой сути этого явления. Это и рассказ о самих «нечистиках», как их называет автор (классное слово!), и анализ взаимоотношений с ними, объяснение неиссякаемой народной веры в них — вплоть до наших дней, несмотря на постоянную борьбу православной церкви с этим чисто языческим явлением, и научное объяснение этой веры, и даже попытка на этом основании лучше понять славянский менталитет.
Как сообщает скупая справка на сайте издательства, Марина Голубева — кандидат философских наук, доцент психологии, преподаватель, в том числе на факультете искусств. Из текста понятно так же, что, несмотря на искреннее увлечение предметом (она с большой любовью пишет обо всех этих чудиках — домовых, русалках, кикиморах, ведьмах), исследовательница верна научному подходу и старается объяснить природу «нечистиков» с позиции современных научных знаний. Например, полудница, «олицетворявшая карающую силу солнца», приходила в самую жару, в летний полдень, в солнцепек и наводила морок, путала так, что человек кругами ходил по ржаному полю, пока не падал без сил, крала детей, могла и защекотать до смерти. По сути, это объяснение солнечного удара, и защита от полудницы такая же, как от агрессивного солнца, — не работать в полдень, не спать в поле, не оставлять без присмотра детей, стараться не выходить в такое время из дома, закрывать ставни.
Автор останавливается на основных представителях славянской нечисти: духах-хранителях (леших, водяных, домовых и т.д.), атмосферных и стихийных духах (ветрах, планетниках, огненных демонах, полудницах и т.д.), нежити (упырях, кикиморах, заложных покойниках, нави и др.), двойниках (отражениях в зеркале, тенях, оборотнях), наконец, о людях, впустивших в себя тьму осознанно, — колдунах и ведьмах. Исследовательница дает достаточно емкое представление о мифологическом устройстве славянского мира в целом — тесной связи с загробным миром, его особенностях, способах проникновения из одного мира в другой, методах защиты от вредоносных существ и колдовства, мерах, предпринимаемых для относительно мирного сосуществования людей и демонов. Вынесенное в заголовок прилагательное «славянская» неслучайно — хотя основное внимание уделено мифологии восточных славян, автор не забывает и о специфических особенностях западно- и южнославянской нечисти.
Самый интересный момент в исследовании — попытка с помощью анализа низшей мифологии, победившей в сознании простого народа надежно забытых языческих богов и даже изрядно потеснившей православные установки, осознать славянский менталитет и выявить разницу с европейским. Так, на Руси колдуны и ведьмы преследовались судом не за использование черной магии самой по себе, как это происходило в Европе, «а за то, что ее применяли для нанесения вреда».
«В славянской традиции существовал разумный, на мой взгляд, подход: маги, колдовство, чародейство не могут быть хорошими или плохими, добрыми или злыми; это человек может использовать магию в добро или во зло. Причем часто это один и тот же человек».
↓
Что касается духов, густо населявших землю наших предков, их, напротив, по умолчанию всех считали враждебными, так как они были
А образы милых домовых и леших, как и мечты о добрых духах, «бескорыстно и безвозмездно помогающих человеку», нашли отражение в волшебных сказках, а в современном мире уже в массовой культуре (вспомним домовенка Кузю или мультфильм про обескураженных наступлением цивилизации, немного нелепых и как будто совершенно безобидных лешего и водяного).
В реальной жизни славяне боялись нечисть и знали, что она всегда готова им навредить, поэтому
Но мир был возможен далеко не всегда, поэтому применялись многочисленные средства защиты — о них автор тоже подробно рассказывает. Мне как человеку, практически живущему в мире слов, симпатичен вот этот момент:
(Кстати, речь не только о заговорах и заклинаниях, но и о матерной ругани 😉).
Книга вроде бы небольшая, читается за пару вечеров, но при этом насыщена информацией, интересными рассуждениями, яркими примерами из источников. Это действительно качественный, научно обоснованный нонфикшен, хорошо структурированный, к тому же еще и увлекательно написанный.
Ω
«олицетворением страхов человека, живущего в недобром мире, который граничит с потусторонним и еще более опасным миром мрака и смерти. И персонификации этих инфернальных страхов никак не могут быть добрыми, бескорыстными и благостными».
А образы милых домовых и леших, как и мечты о добрых духах, «бескорыстно и безвозмездно помогающих человеку», нашли отражение в волшебных сказках, а в современном мире уже в массовой культуре (вспомним домовенка Кузю или мультфильм про обескураженных наступлением цивилизации, немного нелепых и как будто совершенно безобидных лешего и водяного).
В реальной жизни славяне боялись нечисть и знали, что она всегда готова им навредить, поэтому
«стремились установить с демоническими сущностями добрососедские отношения, наладить контакт и тем самым не только избежать угрозы, но, возможно, и заручиться помощью нечистой силы. <…> Вместо борьбы славяне выбирали мирное сосуществование, и не только потому, что "плетью обуха не перешибешь", но и потому, что "худой мир лучше доброй ссоры"».
Но мир был возможен далеко не всегда, поэтому применялись многочисленные средства защиты — о них автор тоже подробно рассказывает. Мне как человеку, практически живущему в мире слов, симпатичен вот этот момент:
«Важную роль в системе защиты от нечисти играла вербальная (речевая) магия. Преобладание этого вида магии над ритуальной вообще характерно для славян, которые уважали силу слова, считая его лучшим методом магического воздействия и лучшим оберегом».
(Кстати, речь не только о заговорах и заклинаниях, но и о матерной ругани 😉).
Книга вроде бы небольшая, читается за пару вечеров, но при этом насыщена информацией, интересными рассуждениями, яркими примерами из источников. Это действительно качественный, научно обоснованный нонфикшен, хорошо структурированный, к тому же еще и увлекательно написанный.
Ω
❤🔥9👍3
Идеальное продолжение предыдущей книги. Сами понимаете, это лучшая художественная иллюстрация ко всем этим нечистикам, чертям, колдунам и кладам. Так что с огромным удовольствием перечитываю, обращая внимание на описание нечистой силы и всяких чудачеств и чудес.
🔥10❤5
#чтотопишу #ссылки
Вышел мой рассказ на портале «Текстура».
Спасибо за публикацию редактору отдела прозы Елене Черниковой.
Читать полностью
Изображение от freepik
Вышел мой рассказ на портале «Текстура».
Спасибо за публикацию редактору отдела прозы Елене Черниковой.
«Почти одиннадцать лет хожу этой дорогой — из дома в школу. Главное, не забыть, что сегодня не в школу, и свернуть в нужный момент.
Шла медленно, разглядывая людей, деревья, россыпь одуванчиков на зеленых газонах. Радовалась теплу — когда в последний раз выходила на улицу, было еще холодно, зелень только проклевывалась, одета я была в куртку и шапку. Но прошло буквально две недели, которые я просидела взаперти, и вдруг вышла в лето. В легких хлопковых штанах, в футболке и с небольшой сумкой через плечо вместо тяжелого школьного рюкзака почувствовала себя совсем взрослой. Скоро выпускные экзамены, потом поступление в институт, и начнется какая-то новая жизнь. В прошлом останется не только школа — ее коридоры с пятнистым желто-коричневым линолеумом, рядами одинаковых дверей, — но и все эти люди. Одноклассники, учителя. Не верится, что можно будет начать с чистого листа.
Я прошла уже почти полдороги, как меня окликнули.
— Марина, привет!»
Читать полностью
Изображение от freepik
❤🔥11
Также слова весьма демократичны; они полагают, что ни одно слово не хуже прочих; неученые слова ничем не хуже ученых слов, некультурные — культурных, в их обществе нет ни сословий, ни титулов. А еще они не любят, когда какое-нибудь слово подцепляют кончиком пера и, поднося к глазам, изучают в отрыве от других. Слова держатся кучно — фразами, абзацами, иногда периодами на несколько страниц. Им претит приносить пользу; им претит погоня за наживой; им претят публичные лекции о них самих. Короче, им претят любые попытки навесить им ярлыки, приписать каждому слову какой-то единственный смысл или однозначную позицию — ведь по самой своей природе слова ветрены и изменчивы.
Вирджиния Вулф. Мастерство (из сборника «Мысли о мире во время воздушного налета»)
#конеццитаты
❤5❤🔥2
#новинка #эссеистика
Вирджиния Вулф. Мысли о мире во время воздушного налета / пер. с англ. Светланы Силаковой. — М.: Ad Marginem, 2024. —112 с.
Иногда хочется вместо развернутого отзыва написать что-то вроде: «Это очень классная книжка, всем читать». К Вирджинии Вулф у меня давняя любовь, хотя началось не с ее текстов, а с «Часов» Майкла Каннингема (интересно, сколько вообще людей так же подсели на Вулф — через книгу и фильм с Николь Кидман). Прочитала я у нее практически всё и не по одному разу, кроме одного романа, до которого вечно «не доходят руки», наверное, подсознательно берегу на потом. Романам ее — совершенным, филигранным — вторит эссеистика. Самая известная вещь в этом жанре, конечно, «Своя комната», ее, наверное, читали даже те, кто не любит романы Вулф. Но для меня самыми любимыми остаются дневники. Когда Вулф не озабочена созданием чего-то цельного и безупречного и просто записывает мысли (простите, что я о ней, как о живой), получается настолько выразительный и дышащий текст, что собственное дыхание замирает. В случае эссе, или текстов выступлений, или статей это все та же Вулф, но не совсем непричесанная, как в дневниках, и не в идеально вылизанной броне слов, как в романах. Эти небольшие тексты стоят где-то посередине — в них есть и отточенное мастерство, и удаль экспромта.
Так вот, про этот конкретный сборник эссеистики: часть текстов публикуется впервые, часть уже была опубликована, но для этого издания сделаны новые переводы. Переводы, к слову, замечательные. Как ни странно, самым неинтересным мне показалось эссе, давшее название сборнику, — «Мысли о мире во время воздушного налета». Страшно представлять, в какой момент Вулф его писала, находясь под бомбежками, но сам текст получился почти банальным: война — это плохо, давайте воспитывать новые поколения так, чтобы у них не было потребности воевать. То, что текст не теряет актуальности и войны не заканчиваются, не делает само эссе интересным с художественной точки зрения. Разве что интересно сравнение боевой удали у мужчин с материнским инстинктом у женщин — нечто врожденное, что сложно преодолеть, нечто нутряное, что тянет мужчин геройствовать и идти на войну. Но этот текст все же теряется на фоне остальных.
Потому что эссе Вирджинии Вулф — это всегда неожиданный, необычный ход мысли, нестандартные образы и повороты, осаживающие привычно скачущие мысли и заставляющие задуматься о том, что проносится мимо. О мимолетном, да. О чем-то, что кажется обыденным и естественным, чтобы посмотреть на это отстраненно и увидеть в новом свете и под другим углом.
В эссе «Мастерство» писательница рассуждает об изменчивой, игривой природе слова:
(в отрывке цитируются стихи Кристины Россети и Альфреда Теннисона)
↓
Вирджиния Вулф. Мысли о мире во время воздушного налета / пер. с англ. Светланы Силаковой. — М.: Ad Marginem, 2024. —112 с.
Иногда хочется вместо развернутого отзыва написать что-то вроде: «Это очень классная книжка, всем читать». К Вирджинии Вулф у меня давняя любовь, хотя началось не с ее текстов, а с «Часов» Майкла Каннингема (интересно, сколько вообще людей так же подсели на Вулф — через книгу и фильм с Николь Кидман). Прочитала я у нее практически всё и не по одному разу, кроме одного романа, до которого вечно «не доходят руки», наверное, подсознательно берегу на потом. Романам ее — совершенным, филигранным — вторит эссеистика. Самая известная вещь в этом жанре, конечно, «Своя комната», ее, наверное, читали даже те, кто не любит романы Вулф. Но для меня самыми любимыми остаются дневники. Когда Вулф не озабочена созданием чего-то цельного и безупречного и просто записывает мысли (простите, что я о ней, как о живой), получается настолько выразительный и дышащий текст, что собственное дыхание замирает. В случае эссе, или текстов выступлений, или статей это все та же Вулф, но не совсем непричесанная, как в дневниках, и не в идеально вылизанной броне слов, как в романах. Эти небольшие тексты стоят где-то посередине — в них есть и отточенное мастерство, и удаль экспромта.
Так вот, про этот конкретный сборник эссеистики: часть текстов публикуется впервые, часть уже была опубликована, но для этого издания сделаны новые переводы. Переводы, к слову, замечательные. Как ни странно, самым неинтересным мне показалось эссе, давшее название сборнику, — «Мысли о мире во время воздушного налета». Страшно представлять, в какой момент Вулф его писала, находясь под бомбежками, но сам текст получился почти банальным: война — это плохо, давайте воспитывать новые поколения так, чтобы у них не было потребности воевать. То, что текст не теряет актуальности и войны не заканчиваются, не делает само эссе интересным с художественной точки зрения. Разве что интересно сравнение боевой удали у мужчин с материнским инстинктом у женщин — нечто врожденное, что сложно преодолеть, нечто нутряное, что тянет мужчин геройствовать и идти на войну. Но этот текст все же теряется на фоне остальных.
Потому что эссе Вирджинии Вулф — это всегда неожиданный, необычный ход мысли, нестандартные образы и повороты, осаживающие привычно скачущие мысли и заставляющие задуматься о том, что проносится мимо. О мимолетном, да. О чем-то, что кажется обыденным и естественным, чтобы посмотреть на это отстраненно и увидеть в новом свете и под другим углом.
В эссе «Мастерство» писательница рассуждает об изменчивой, игривой природе слова:
«Например, когда мы спускаемся в метро, когда мы на платформе ждем поезда, перед нами висят на подсвеченном табло слова "Минует „Рассел-cквер“". Мы смотрим на эти слова, повторяем их, силимся врезать этот полезный факт в память; следующий поезд минует „Рассел-сквер“. Снова и снова проговариваем, меряя шагами платформу: "Минует „Рассел-сквер“, минует „Рассел-сквер“". А затем, пока мы их проговариваем, слова тасуются и изменяются, и мы обнаруживаем, что говорим: "Минует понемногу, молвил мир… Истлеет лес, истлеет лес и ляжет, туман придет и выплачется в почву; Придет, уйдет под землю земледелец…" А затем, очнувшись, обнаруживаем себя на "Кингс-Кросс"».
(в отрывке цитируются стихи Кристины Россети и Альфреда Теннисона)
↓
❤7
А как насчет способности человека уноситься на крыльях воображения в другие места и времена, быть в нескольких одновременно?
Или держите неожиданный прогноз на будущее — не от философа или аналитика, а от поэта:
Эссе Вулф — короткие, но неожиданные приключения в самом обычном мире, внутри казавшейся скучной и ничем не озаряемой жизни. Прогулка по городу зимним вечером, ссора в букинистической лавке, поездка на машине по сельской местности, размышления о мотыльке, что бьется в окно, — всё становится поводом для поиска смысла и красоты, для тысячи странных вопросов, для пристального вглядывания в себя. Читая такие тексты, обогащаешься, учишься смотреть вокруг с любопытством, а на себя как на незнакомца. В голове теснятся новые и новые вопросы (эссе «Зачем?»), чужая неразгаданная уникальность при первом соприкосновении выглядит как статичное изображение («Три картины»):
Читаешь это и ловишь себя на мысли: как можно было додуматься до такого, какой живой и гибкий ум подарил нам эти размышления, дал заглянуть в святая святых — свои блуждания без карты и маршрута. Только такие незапланированные мысленные прогулки помогают ломать шаблоны и преодолевать въевшиеся привычки. Вулф делится и тем, как боролась с собственными паттернами, засевшими в голове (эссе «Профессии для женщин»), и тем, как внутри себя взращивала безапелляционную честность, без которой вообще невозможно писать:
А как прекрасна ее классификация, делящая людей на высоколобых, низколобых и среднелобых (последние, конечно, и становятся мишенью ее острословия и иронии). Не буду портить удовольствия и пересказывать это искрометное эссе («Middlebrow»).
Закончу тем, с чего начала: читайте Вирджинию Вулф, она классная. Мне сложно писать о ней, но ее тексты, даже цитатно вырванные из контекста, говорят сами за себя.
Ω
«Когда природа взялась за свой величайший труд — сотворение человека, ей следовало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Но она зазевалась, озиралась по сторонам и допустила, чтобы в каждого из нас заползли инстинкты и желания, прямо противоположные его коренной сущности; ох, чего в нас только не понамешано: сплошная рябь да пестрота, краски выцвели и полиняли. Которое из «я» — истинное: стоящее на тротуаре в январе или опирающееся о балконные перила в июне? Где я: здесь или там? А может, истинное «я» — ни то и ни другое, не здесь и не там, но нечто настолько переменчивое и непоседливое, что лишь отдавшись на волю его желаний и позволяя ему невозбранно выбирать себе дорогу, мы действительно становимся самими собой? Цельность — результат давления обстоятельств; для удобства окружающих человек вынужден быть единым существом».
Или держите неожиданный прогноз на будущее — не от философа или аналитика, а от поэта:
«Мне вдруг показалось, что я соединена нитью не с прошлым, а с будущим. Я задумалась о Сассексе спустя пятьсот лет. Полагаю, к тому времени много пошлого исчезнет начисто. Многое будет выжжено каленым железом, искоренено. Появятся волшебные ворота. Прибираться в домах станут сквозняки на электрической тяге. Яркие, скрупулезно управляемые огни будут двигаться над землей и выполнять всю работу. Взгляни на огонек, бегущий по холму; это же автомобильные фары. Спустя пять веков Сассекс будет денно и нощно кишеть очаровательными мыслями, проворными, ловкими лучами».
Эссе Вулф — короткие, но неожиданные приключения в самом обычном мире, внутри казавшейся скучной и ничем не озаряемой жизни. Прогулка по городу зимним вечером, ссора в букинистической лавке, поездка на машине по сельской местности, размышления о мотыльке, что бьется в окно, — всё становится поводом для поиска смысла и красоты, для тысячи странных вопросов, для пристального вглядывания в себя. Читая такие тексты, обогащаешься, учишься смотреть вокруг с любопытством, а на себя как на незнакомца. В голове теснятся новые и новые вопросы (эссе «Зачем?»), чужая неразгаданная уникальность при первом соприкосновении выглядит как статичное изображение («Три картины»):
«…понимаете, если мой отец был кузнец, а ваш — пэр Англии, мы с вами обязательно будем картинами в глазах друг дружки. И никакими усилиями не вырвемся из рам, хотя оба произносим абсолютно естественные для нас слова. Вы видите меня в дверях кузницы: как я стою с подковой в руках, прислонившись к косяку, — видите и думаете, проезжая мимо: «Картинно!» А я увижу, как вы вальяжно расселись в своем автомобиле и, кажется, вот-вот милостиво кивнете простолюдинам, увижу и подумаю: вот живая картина старой роскошной аристократической Англии! Конечно, мы оба глубоко заблуждаемся, но наши заблуждения неизбежны».
Читаешь это и ловишь себя на мысли: как можно было додуматься до такого, какой живой и гибкий ум подарил нам эти размышления, дал заглянуть в святая святых — свои блуждания без карты и маршрута. Только такие незапланированные мысленные прогулки помогают ломать шаблоны и преодолевать въевшиеся привычки. Вулф делится и тем, как боролась с собственными паттернами, засевшими в голове (эссе «Профессии для женщин»), и тем, как внутри себя взращивала безапелляционную честность, без которой вообще невозможно писать:
«Ведь я тотчас, едва взяв в руки перо, обнаружила: невозможно отрецензировать даже роман, если не имеешь собственного мнения, не высказываешь свою правду об людских взаимоотношениях, морали, сексе».
А как прекрасна ее классификация, делящая людей на высоколобых, низколобых и среднелобых (последние, конечно, и становятся мишенью ее острословия и иронии). Не буду портить удовольствия и пересказывать это искрометное эссе («Middlebrow»).
Закончу тем, с чего начала: читайте Вирджинию Вулф, она классная. Мне сложно писать о ней, но ее тексты, даже цитатно вырванные из контекста, говорят сами за себя.
Ω
❤🔥5❤1👍1
#новинка #нонфикшн #мифыотидо
Владимир Печенкин. Мифы драгоценных камней. От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза. — М: МИФ, 2025. — 352 с.
Это одна из самых странных книг серии, прочитанных мной. С одной стороны, автор — профессионал, геолог, эксперт по полезным ископаемым. О минералах, самоцветах, их добыче пишет со знанием дела, рассказывает невероятно интересные факты для человека совершенно вне темы вроде меня (бусики-браслетики — вот и вся моя минералогия). С другой стороны, речь ведь о мифологии. И тут происходит странное: мифы, легенды, истории, байки Печенкин не просто пересказывает — он их художественно переписывает, с диалогами, описаниями, додумывая речь персонажей, их чувства и мысли. И делает это, скажем так, не очень талантливо. Еще один недостаток: фактографические ошибки. Некоторые вылавливает научный редактор, но не все. К середине книги поймала себя на том, что уже не очень доверяю автору и рука тянется к гуглу перепроверять вообще всё.
Самое сильное впечатление произвела пересказанная Печенкиным история с жемчужными серьгами Клеопатры. Это яркая иллюстрация, как вредит научно-популярному тексту такой вот «художественный» подход. Источник этой легенды — «Естественная история» Плиния Старшего. Но Печенкин дважды повторяет, что описал ее не Плиний, а Плутарх. У Плиния этот эпизод занимает три небольших абзаца, Печенкин же растягивает историю на две с половиной страницы, и пересказывает ее не только «высокохудожественно», но и неточно.
Он сочиняет целый диалог между влюбленными и выставляет щедрый жест Клеопатры в романтическом ключе:
Плиний же рассказывает лишь о циничном споре между царицей и римлянином:
Это самый зашкварный момент, встреченный в книге, но, к сожалению, бесталанной художественной обработке подверглись и другие мифы, и читать это, простите, кринжово.
Зато в тех местах, где автор не пытается играть в романиста, книга оказалась очень увлекательной (но я, честно говоря, дальше уже ничего не проверяла — решила воспринимать ее как чистое развлечение). Самыми интересными оказались главы о минералах священных писаний (о черном камне мусульман, у которого оказалась длиннейшая история в четыре тысячи лет, о двенадцати камнях, упомянутых в Библии и др.), о знаменитых перстнях и их приключениях, о мифических существах и призраках, обитающих в шахтах, о мифологии горняков и о том, как она отразилась в названиях вновь открытых металлов вроде никеля и вольфрама. Отдельно посмеялась над развенчиванием литотерапии и фальшивых псевдонаучных учений о целебной силе камней — Печенкин замечательно отделяет зерна от плевел и объясняет, в каких случаях минералы действительно обладают определенными лечебными свойствами, а в каких это просто ни на чем не основанная вера в некие высшие силы.
↓
Владимир Печенкин. Мифы драгоценных камней. От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза. — М: МИФ, 2025. — 352 с.
Это одна из самых странных книг серии, прочитанных мной. С одной стороны, автор — профессионал, геолог, эксперт по полезным ископаемым. О минералах, самоцветах, их добыче пишет со знанием дела, рассказывает невероятно интересные факты для человека совершенно вне темы вроде меня (бусики-браслетики — вот и вся моя минералогия). С другой стороны, речь ведь о мифологии. И тут происходит странное: мифы, легенды, истории, байки Печенкин не просто пересказывает — он их художественно переписывает, с диалогами, описаниями, додумывая речь персонажей, их чувства и мысли. И делает это, скажем так, не очень талантливо. Еще один недостаток: фактографические ошибки. Некоторые вылавливает научный редактор, но не все. К середине книги поймала себя на том, что уже не очень доверяю автору и рука тянется к гуглу перепроверять вообще всё.
Самое сильное впечатление произвела пересказанная Печенкиным история с жемчужными серьгами Клеопатры. Это яркая иллюстрация, как вредит научно-популярному тексту такой вот «художественный» подход. Источник этой легенды — «Естественная история» Плиния Старшего. Но Печенкин дважды повторяет, что описал ее не Плиний, а Плутарх. У Плиния этот эпизод занимает три небольших абзаца, Печенкин же растягивает историю на две с половиной страницы, и пересказывает ее не только «высокохудожественно», но и неточно.
Он сочиняет целый диалог между влюбленными и выставляет щедрый жест Клеопатры в романтическом ключе:
Она сняла свои огромные жемчужные серьги нежного телесного цвета и опустила в кубок с вином.
— Их стоимость как раз миллион сестерциев или что-то около этого. Одна жемчужина — это я, другая — это ты. Сейчас серьги растворятся в вине… Это мы растворимся друг в друге.
Плиний же рассказывает лишь о циничном споре между царицей и римлянином:
Клеопатра подала Антонию обед сам по себе великолепный, <…> и тот, отпуская насмешки, потребовал, чтобы ему подсчитали, в какую сумму обошлись все эти приготовления. Однако царица ответила, что все, что он видит, это лишь дополнение к основному, и продолжая настаивать на том, что обед обойдется именно в ту сумму, о которой они договорились, и что она одна съест на десять миллионов сестерциев, отдала приказ внести следующее блюдо. Следуя полученным заранее указаниям, слуги поставили перед ней всего лишь один сосуд, наполненный уксусом, который был настолько кислым и крепким, что разжижал жемчуг. Клеопатра носила в ушах серьги в высшей степени необычные — действительно, неповторимые творения природы. И пока Антоний ожидал, что же будет сделано, Клеопатра сняла с себя одну из жемчужин, опустила ее в жидкость, и когда та растворилась, проглотила ее.
Это самый зашкварный момент, встреченный в книге, но, к сожалению, бесталанной художественной обработке подверглись и другие мифы, и читать это, простите, кринжово.
Зато в тех местах, где автор не пытается играть в романиста, книга оказалась очень увлекательной (но я, честно говоря, дальше уже ничего не проверяла — решила воспринимать ее как чистое развлечение). Самыми интересными оказались главы о минералах священных писаний (о черном камне мусульман, у которого оказалась длиннейшая история в четыре тысячи лет, о двенадцати камнях, упомянутых в Библии и др.), о знаменитых перстнях и их приключениях, о мифических существах и призраках, обитающих в шахтах, о мифологии горняков и о том, как она отразилась в названиях вновь открытых металлов вроде никеля и вольфрама. Отдельно посмеялась над развенчиванием литотерапии и фальшивых псевдонаучных учений о целебной силе камней — Печенкин замечательно отделяет зерна от плевел и объясняет, в каких случаях минералы действительно обладают определенными лечебными свойствами, а в каких это просто ни на чем не основанная вера в некие высшие силы.
↓
❤2👍1😭1
Так что впечатление от книги двоякое: в своем деле автор, конечно, ас и рассказывает много интересного как о самих минералах, так и о многочисленных легендах и историях, которые с ними связаны. Но как только он начинает сочинять по мотивам, возникает вопрос: зачем? Что мне, читателю, даст такой псевдохудожественный пересказ с фразами вроде:
Согласитесь, выглядит комично.
Ω
«Что ты жуешь, человек? Уж не запретный ли плод? — зычно пробасил ангел».
Согласитесь, выглядит комично.
Ω
❤🔥5😁2👍1
#художка #новинка
Элисон Маклауд. Нежность / пер. с англ. Татьяны Боровиковой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2024. — 800 с.
Залипательный и очень длинный роман, в котором, несмотря на заявленную центральную тему, сказано о многом другом, важном: о любви, одиночестве, внутренней творческой кухне, взаимоотношениях, вере в себя и других, уникальном мире большой семьи и не менее уникальном семьи маленькой, полуразрушенной. Да обо всем: и о природе, и о войне, и о литературе. Я читала его урывками в течение двух недель, но, думаю, если бы не было отвлекающих дел и дней, выпавших из-за нездоровья, могла бы прочитать взахлеб за несколько вечеров.
Центральная тема — судьба романа Д.Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли», невинного по нынешним временам, но в то время считавшегося непристойным, пережившего запреты, судебные разбирательства, изъятия тиража. События «Нежности» (таково было первоначальное название «Любовника леди Чаттерли») включают как моменты жизни самого писателя, так и события после его смерти, связанные с нашумевшей книгой, — вплоть до знаменитого суда в Лондоне в 1960 году, оправдавшего дерзкое издательство «Пингвин», «освободившего» роман и открывшего ему путь к широкому читателю. Книга здесь полноценный персонаж наравне с самим Лоуренсом, его женой Фридой, возлюбленной Розалиндой, ставшей прототипом Констанции Чаттерли, и множеством героев, каждый из которых что-то привносит в общий узор. Книга о книге становится чем-то большим — книгой о судьбах людей в переломные моменты истории и о моментах затишья, когда они могут по-своему спокойно жить свою жизнь.
Помимо основной истории в романе множество дополнительных линий: вот большая «арка» о семье Мейнеллов, у которых полгода гостил Лоуренс и которых детально, можно сказать, бесстыдно «использовал» для рассказа «Англия моя, Англия», из-за чего его имя в этой семье на долгие годы оказалось под запретом. Вот арка «шпионская»: о супруге сенатора, но возможной первой леди Жаклин Кеннеди, увлеченной запрещенным романом, и агенте ФБР Хардинге, который должен ее «пасти», чтобы, обрушив ее репутацию, снять кандидатуру мужа с предвыборной гонки, но при этом разрываем и угнетен собственными проблемами. Великолепно выписаны сцены суда, на котором удалось защитить и книгу, и издателя, и леди Чаттерли с Мэллорсом, и самого тридцать лет как умершего Лоуренса — уже пожилая Розалинда-Констанция так живо представляет его сидящим на скамье подсудимых все в том же вельветовом пиджаке.
«Нежность» обладает всеми качествами настоящего романа: объемностью, эпическим охватом затронутых вопросов и проблем, стилистическим своеобразием и многомерной фокусировкой: достойными взгляда автора оказываются и ромашки с лютиками, и философские размышления, и исторические события, и рулон зеленого линолеума. Как и в жизни нечто маленькое всегда оказывается частью чего-то большего или вдруг оказывается важнее чего-то большого.
Хочется поразмышлять о том, как «сделано» это довольно сложное произведение. Несмотря на общее очень хорошее впечатление, оно неоднородно. Композиция нелинейная, линии вклиниваются одна в другую, перемешивая времена, судьбы, истории — это сделано хорошо. Первые главы идеальны, подлинно художественны, зримы, образны: «вчерашняя вода в чашке сияла», «свет согрел голые половицы и замешкался на тумбочке, собравшись лужицей на открытом развороте "Жизни Колумба"», «день падал, подобно взгляду древнего провансальского бога», «от лающей собаки на улице остался только лай».
И дальше в тексте встречаются неожиданные тропы, как красивые цветы в лаконичном интерьере: «он слышит сквозь годы хрупкий тамбурин листьев оливы», «ветер с пролива хлопал калиткой ее сердца», «к писателю книга не приезжает аккуратно разложенной по ящичкам: отдельно форма, отдельно тема. Она приходит единой волной, мерцающим светом», «свои личные мысли нужно прятать в голове и прикрывать фетровой шляпой с загнутыми полями».
↓
Элисон Маклауд. Нежность / пер. с англ. Татьяны Боровиковой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2024. — 800 с.
Залипательный и очень длинный роман, в котором, несмотря на заявленную центральную тему, сказано о многом другом, важном: о любви, одиночестве, внутренней творческой кухне, взаимоотношениях, вере в себя и других, уникальном мире большой семьи и не менее уникальном семьи маленькой, полуразрушенной. Да обо всем: и о природе, и о войне, и о литературе. Я читала его урывками в течение двух недель, но, думаю, если бы не было отвлекающих дел и дней, выпавших из-за нездоровья, могла бы прочитать взахлеб за несколько вечеров.
Центральная тема — судьба романа Д.Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли», невинного по нынешним временам, но в то время считавшегося непристойным, пережившего запреты, судебные разбирательства, изъятия тиража. События «Нежности» (таково было первоначальное название «Любовника леди Чаттерли») включают как моменты жизни самого писателя, так и события после его смерти, связанные с нашумевшей книгой, — вплоть до знаменитого суда в Лондоне в 1960 году, оправдавшего дерзкое издательство «Пингвин», «освободившего» роман и открывшего ему путь к широкому читателю. Книга здесь полноценный персонаж наравне с самим Лоуренсом, его женой Фридой, возлюбленной Розалиндой, ставшей прототипом Констанции Чаттерли, и множеством героев, каждый из которых что-то привносит в общий узор. Книга о книге становится чем-то большим — книгой о судьбах людей в переломные моменты истории и о моментах затишья, когда они могут по-своему спокойно жить свою жизнь.
Помимо основной истории в романе множество дополнительных линий: вот большая «арка» о семье Мейнеллов, у которых полгода гостил Лоуренс и которых детально, можно сказать, бесстыдно «использовал» для рассказа «Англия моя, Англия», из-за чего его имя в этой семье на долгие годы оказалось под запретом. Вот арка «шпионская»: о супруге сенатора, но возможной первой леди Жаклин Кеннеди, увлеченной запрещенным романом, и агенте ФБР Хардинге, который должен ее «пасти», чтобы, обрушив ее репутацию, снять кандидатуру мужа с предвыборной гонки, но при этом разрываем и угнетен собственными проблемами. Великолепно выписаны сцены суда, на котором удалось защитить и книгу, и издателя, и леди Чаттерли с Мэллорсом, и самого тридцать лет как умершего Лоуренса — уже пожилая Розалинда-Констанция так живо представляет его сидящим на скамье подсудимых все в том же вельветовом пиджаке.
«Нежность» обладает всеми качествами настоящего романа: объемностью, эпическим охватом затронутых вопросов и проблем, стилистическим своеобразием и многомерной фокусировкой: достойными взгляда автора оказываются и ромашки с лютиками, и философские размышления, и исторические события, и рулон зеленого линолеума. Как и в жизни нечто маленькое всегда оказывается частью чего-то большего или вдруг оказывается важнее чего-то большого.
Хочется поразмышлять о том, как «сделано» это довольно сложное произведение. Несмотря на общее очень хорошее впечатление, оно неоднородно. Композиция нелинейная, линии вклиниваются одна в другую, перемешивая времена, судьбы, истории — это сделано хорошо. Первые главы идеальны, подлинно художественны, зримы, образны: «вчерашняя вода в чашке сияла», «свет согрел голые половицы и замешкался на тумбочке, собравшись лужицей на открытом развороте "Жизни Колумба"», «день падал, подобно взгляду древнего провансальского бога», «от лающей собаки на улице остался только лай».
И дальше в тексте встречаются неожиданные тропы, как красивые цветы в лаконичном интерьере: «он слышит сквозь годы хрупкий тамбурин листьев оливы», «ветер с пролива хлопал калиткой ее сердца», «к писателю книга не приезжает аккуратно разложенной по ящичкам: отдельно форма, отдельно тема. Она приходит единой волной, мерцающим светом», «свои личные мысли нужно прятать в голове и прикрывать фетровой шляпой с загнутыми полями».
↓
❤5👍2
В первых главах описаны последние дни умирающего на чужбине, отвергнутого родиной Лоуренса — так просто и страшно:
и дальше:
Волшебство исчезает, когда Маклауд, отступив во времени чуть назад, описывает знакомство Лоуренса с Розалиндой и с этого момента начиняет текст цитатами из текстов своего героя (романов, рассказов, стихов): они выглядят как искусная вышивка на бледном полотне вымышленных писательницей сцен и диалогов. Ее собственный язык вдруг становится бледен и безыскусен. Задача понятна: показать, как из жизненного материала рождается художественный текст, что автор переносит точно, а что меняет, дополняет. Показать, что литература на самом деле не повторяет жизнь, а создает ее заново. Решение задачи, впрочем, спорное — уступив часть повествования Лоуренсу, писательница как будто тушуется, ее стиль, так ярко раскрывшийся в первых главах, скукоживается до скупой биографической справки, пояснений, описаний. К середине книги она находит баланс, пишет смело, как в начале, цитат из Лоуренса становится меньше, но все же они далеко не все оправданы: порой вписаны идеально, Маклауд и Лоуренс словно ведут слаженное двухголосие, а чаще втиснуты насильно, как в прокрустово ложе.
Когда Маклауд рассказывает историю сотрудника ФБР, пытающегося нарыть компромат на миссис Кеннеди, она снова переключает регистр, и начинается шпионский триллер. Завершающие главы, посвященные суду над книгой, опять написаны иначе: в форме то ли газетной хроники, то ли дневниковых заметок рядового посетителя слушаний. Смены стилей могут происходить столь внезапно, что бывает сложно переключиться. Словно множество книг в одной книге. Но до конца держит авторская интонация, неизменная во всех проявлениях — спокойная, все принимающая как должное, подсматривающий глазок, немного отрешенный, но любопытный к мелочам.
И как бы Маклауд ни распылялась на множество тем и историй, основную мысль о ценности и витальности литературы она высказывает неоднократно голосами разных героев:
«Нежность» Элисон Маклауд безусловно «искрит сочувствием» и к конкретному роману, и к писателю со сложной судьбой, и ко всем, кто открывает через литературу мир, себя, другого. В послесловии она просит не воспринимать свою книгу как биографическую, и действительно получилось необычное произведение: на фундаменте подробно и тщательно изученного исторического материала писательница возвела воздушное здание фантазии, в котором Лоуренс не только живший когда-то реальный человек, но и выдуманный персонаж (впрочем, как и все остальные герои книги, реальные и одновременно вымышленные).
Ω
«Он умирал от уныния, от поражения, от разбитого сердца. Это Англия его убивала»,
и дальше:
«Порой, часа в два ночи, его так мучил кашель, что он застрелился бы, будь у него пистолет. Но вот это, пронзительная красота обыденного, его прикончит. Он знал отчаяние, глубокое отчаяние, но оно ничтожно в сравнении с сегодняшним сияющим осознанием жизни, которая продолжается в прекрасном и проклятом неведении о нем, умирающем».
Волшебство исчезает, когда Маклауд, отступив во времени чуть назад, описывает знакомство Лоуренса с Розалиндой и с этого момента начиняет текст цитатами из текстов своего героя (романов, рассказов, стихов): они выглядят как искусная вышивка на бледном полотне вымышленных писательницей сцен и диалогов. Ее собственный язык вдруг становится бледен и безыскусен. Задача понятна: показать, как из жизненного материала рождается художественный текст, что автор переносит точно, а что меняет, дополняет. Показать, что литература на самом деле не повторяет жизнь, а создает ее заново. Решение задачи, впрочем, спорное — уступив часть повествования Лоуренсу, писательница как будто тушуется, ее стиль, так ярко раскрывшийся в первых главах, скукоживается до скупой биографической справки, пояснений, описаний. К середине книги она находит баланс, пишет смело, как в начале, цитат из Лоуренса становится меньше, но все же они далеко не все оправданы: порой вписаны идеально, Маклауд и Лоуренс словно ведут слаженное двухголосие, а чаще втиснуты насильно, как в прокрустово ложе.
Когда Маклауд рассказывает историю сотрудника ФБР, пытающегося нарыть компромат на миссис Кеннеди, она снова переключает регистр, и начинается шпионский триллер. Завершающие главы, посвященные суду над книгой, опять написаны иначе: в форме то ли газетной хроники, то ли дневниковых заметок рядового посетителя слушаний. Смены стилей могут происходить столь внезапно, что бывает сложно переключиться. Словно множество книг в одной книге. Но до конца держит авторская интонация, неизменная во всех проявлениях — спокойная, все принимающая как должное, подсматривающий глазок, немного отрешенный, но любопытный к мелочам.
И как бы Маклауд ни распылялась на множество тем и историй, основную мысль о ценности и витальности литературы она высказывает неоднократно голосами разных героев:
«Слова на клочке бумаги — своего рода волшебство»;
«Я до сих пор точно так же, как в детстве, считаю, что литература — чудесна. А также странна, поскольку она каким-то непостижимым образом живая. Истинная литература неподвластна попыткам ее анализировать, перефразировать, тематически интерпретировать. Я верю: книги читают нас точно так же, как мы — их»;
«Он давно пришел к выводу, что хороший сюжет — разновидность общения: души с душой, духа с духом. Хороший рассказ пересылает искру жизни от одного человека к другому, незнакомому, сквозь пространство, сквозь десятилетия и века. В человеческом сочувствии — человеческом внимании друг к другу — есть волшебство. А любой настоящий сюжет искрит сочувствием — через года, через ряды типографских значков. Помогает перескочить низкие межевые изгороди фантазии».
«Нежность» Элисон Маклауд безусловно «искрит сочувствием» и к конкретному роману, и к писателю со сложной судьбой, и ко всем, кто открывает через литературу мир, себя, другого. В послесловии она просит не воспринимать свою книгу как биографическую, и действительно получилось необычное произведение: на фундаменте подробно и тщательно изученного исторического материала писательница возвела воздушное здание фантазии, в котором Лоуренс не только живший когда-то реальный человек, но и выдуманный персонаж (впрочем, как и все остальные герои книги, реальные и одновременно вымышленные).
Ω
❤7❤🔥2
#ссылки
В журнале Prosodia вышла замечательная статья Владимира Козлова о поэтике Вячеслава Куприянова, одного из самых любимых моих поэтов.
О личной истории, связанной с Куприяновым, я писала здесь.
В журнале Prosodia вышла замечательная статья Владимира Козлова о поэтике Вячеслава Куприянова, одного из самых любимых моих поэтов.
О личной истории, связанной с Куприяновым, я писала здесь.
prosodia.ru
Одическое донкихотство Вячеслава Куприянова | Просодия
Одический взгляд на мир для Вячеслава Куприянова органичен, он часто использует образ как точку, вокруг которой мир собирается во всём его многообразии. Но в современном мире быть одическим поэтом — все равно что быть Дон Кихотом. Куприянов это понимает,…
❤🔥4❤2🔥1
Сегодня прямо день ссылок))
Но пройти мимо не могу.
«Мир смерти» лет в 12-13 запоем и наизусть. Чуть позже «Стальная крыса». Вайбы чужой дачи, жаркого лета, прохладного деревянного дома, где нашлось это чудо, и я читала, читала, смеялась и не могла оторваться.
Немного страшно и вообще-то некогда, но перечитать что ли?😊
⤵️
Но пройти мимо не могу.
«Мир смерти» лет в 12-13 запоем и наизусть. Чуть позже «Стальная крыса». Вайбы чужой дачи, жаркого лета, прохладного деревянного дома, где нашлось это чудо, и я читала, читала, смеялась и не могла оторваться.
Немного страшно и вообще-то некогда, но перечитать что ли?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Яндекс Книги
100 лет Гарри Гаррисону!
А мы круглые даты любим, особенно если отмечается день рождения одного из самых известных мастеров научной фантастики.
Плутовская сага «Стальная Крыса», фантастический боевик «Мир смерти», антивоенная пародия «Билл — герой галактики» — Гаррисон был многогранен. За это и любим!
А за что конкретно — в нашем материале.
А мы круглые даты любим, особенно если отмечается день рождения одного из самых известных мастеров научной фантастики.
Плутовская сага «Стальная Крыса», фантастический боевик «Мир смерти», антивоенная пародия «Билл — герой галактики» — Гаррисон был многогранен. За это и любим!
А за что конкретно — в нашем материале.
Кинопоиск
За что мы любим фантаста Гарри Гаррисона — Статьи на Кинопоиске
12 марта исполняется 100 лет со дня рождения фантаста Гарри Гаррисона — автора саги «Стальная Крыса» и других романов, рассказов и комиксов. Рассказываем, почему это важный автор, и рекомендуем его книги.
#староедоброе #художка
На волне «Нежности» Элисон Маклауд решила обратиться к малой прозе и эссеистике Д.Г. Лоуренса. Прочитала повесть «Лис» из сборника «Меня никто не любит» (М.: ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2011, перевод с англ. Николая Пальцева).
Жуткая история о неправильной, разрушающей любви (или нет?), насильно навязанной другому человеку.
Две одинокие девушки Нелли Марч и Джилл Бэнфорд (по тем временам уже старые девы, под тридцать) живут вдвоем на ферме. Их отношения крепкие, почти супружеские, разве что без постели — уже поднадоели друг другу, привычно цепляются к словам и взглядам, ворчат, но так долго живут вместе, что уже плохо представляют себя порознь. Однажды на ферме появляется солдат по имени Генри — молодой, обаятельный, наглый. И вбивает клин между Нелли и Джилл. Бэнфорд вызывает у него отвращение и неказистой внешностью, и характером (она вечно ноет и жалуется), и, главное, своим огромным влиянием на Марч, которое ему (почему-то!) не удается перехватить. А он хочет любой ценой заполучить ее. Сначала чтобы остаться на ферме, потом, узнав, что ферму арендует Бэнфорд и, если он женится на Нелли, им обоим придется уйти, решает, что и это отличный план. Лоуренс ничего прямо не пишет о чувствах Генри, но из того, как описаны его мысли и действия, очевидно, что это не любовь (хотя он уверяет самого себя, что влюблен по уши), на самом деле он просто хочет получить ее в собственность, как вещь, как игрушку.
Между Генри и Бэнфорд начинается настоящая психологическая война. Это потрясающе написано, в ход идет всё: оттенки интонаций, немые сцены вечером в гостиной, тонкие диалоги, внешне вежливые, но максимально напряженные. Джилл пускает в ход и нытье, и слезы, и взывает к разуму Нелли, ведь парня они знают без году неделю. Генри же занимается откровенным обольщением, красуется как мужчина, которого, как можно догадаться из контекста, у Марч никогда не было. Нелли здесь описана как личность созерцательная, глубоко в себе: она хороша в делах, но не в чувствах и психологии. И еще как склонная к созависимости: Лоуренс для этого вводит в повествование лиса, который ворует у девушек кур. Это происходит еще до появления Генри:
Марч несколько раз пытается уйти в лес на поиски лиса, чтобы убить его. И каждый раз возвращается, потому что ее зовет Бэнфорд. Это очевидная метафора. Когда появляется Генри, Нелли тут же сама сравнивает его с лисом. И первым, кого убивает Генри, тоже оказывается лис. Генри убивает лиса и сам им становится, и теперь Марч заворожена им — как притягательным красивым врагом, чужаком. И будучи завороженной им, все равно возвращается на голос Джилл.
Нелли как будто вообще не понимает, что с ней происходит и чего она хочет — и это тоже передано непрямолинейно, через ее поведение и мысли (не знаю, как объяснить: Лоуренс описывает ее мысли и состояние, но читателю ясно, что Марч не понимает саму себя, и ее мысли как бы противоречат реальному положению дел, в том числе тому, что происходит внутри нее самой).
Уже только этой части хватило бы, чтобы надолго задуматься над человеческими отношениями, мотивацией и причинами выглядящих благородно и красиво поступками. Но Лоуренс идет дальше. Джилл и Генри продолжают играть в перетягивание каната, и Нелли, привязанная к обоим, мечется между ними. В какой-то момент она принимает решение остаться с Бэнфорд. Для Генри это удар (по самолюбию), и он под предлогом помощи изощренно убивает Джилл, имитируя несчастный случай. Вообще Генри с самого начала показан отвратительной беспринципной сволочью, но этот эпизод раскрывает его как полного ублюдка. Такие люди просто не умеют любить.
↓
На волне «Нежности» Элисон Маклауд решила обратиться к малой прозе и эссеистике Д.Г. Лоуренса. Прочитала повесть «Лис» из сборника «Меня никто не любит» (М.: ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2011, перевод с англ. Николая Пальцева).
Жуткая история о неправильной, разрушающей любви (или нет?), насильно навязанной другому человеку.
Две одинокие девушки Нелли Марч и Джилл Бэнфорд (по тем временам уже старые девы, под тридцать) живут вдвоем на ферме. Их отношения крепкие, почти супружеские, разве что без постели — уже поднадоели друг другу, привычно цепляются к словам и взглядам, ворчат, но так долго живут вместе, что уже плохо представляют себя порознь. Однажды на ферме появляется солдат по имени Генри — молодой, обаятельный, наглый. И вбивает клин между Нелли и Джилл. Бэнфорд вызывает у него отвращение и неказистой внешностью, и характером (она вечно ноет и жалуется), и, главное, своим огромным влиянием на Марч, которое ему (почему-то!) не удается перехватить. А он хочет любой ценой заполучить ее. Сначала чтобы остаться на ферме, потом, узнав, что ферму арендует Бэнфорд и, если он женится на Нелли, им обоим придется уйти, решает, что и это отличный план. Лоуренс ничего прямо не пишет о чувствах Генри, но из того, как описаны его мысли и действия, очевидно, что это не любовь (хотя он уверяет самого себя, что влюблен по уши), на самом деле он просто хочет получить ее в собственность, как вещь, как игрушку.
Между Генри и Бэнфорд начинается настоящая психологическая война. Это потрясающе написано, в ход идет всё: оттенки интонаций, немые сцены вечером в гостиной, тонкие диалоги, внешне вежливые, но максимально напряженные. Джилл пускает в ход и нытье, и слезы, и взывает к разуму Нелли, ведь парня они знают без году неделю. Генри же занимается откровенным обольщением, красуется как мужчина, которого, как можно догадаться из контекста, у Марч никогда не было. Нелли здесь описана как личность созерцательная, глубоко в себе: она хороша в делах, но не в чувствах и психологии. И еще как склонная к созависимости: Лоуренс для этого вводит в повествование лиса, который ворует у девушек кур. Это происходит еще до появления Генри:
«Она опустила глаза и вдруг увидела лиса. Он смотрел вверх, на нее. <…> Вот он глянул ей в глаза, и душа ее дрогнула. Он узнал ее и не устрашился. В ней шла борьба, она ошарашенно пришла в себя и увидела, как он удаляется медленными прыжками через опавшие сучья, нахальными, медленными прыжками».
Марч несколько раз пытается уйти в лес на поиски лиса, чтобы убить его. И каждый раз возвращается, потому что ее зовет Бэнфорд. Это очевидная метафора. Когда появляется Генри, Нелли тут же сама сравнивает его с лисом. И первым, кого убивает Генри, тоже оказывается лис. Генри убивает лиса и сам им становится, и теперь Марч заворожена им — как притягательным красивым врагом, чужаком. И будучи завороженной им, все равно возвращается на голос Джилл.
Нелли как будто вообще не понимает, что с ней происходит и чего она хочет — и это тоже передано непрямолинейно, через ее поведение и мысли (не знаю, как объяснить: Лоуренс описывает ее мысли и состояние, но читателю ясно, что Марч не понимает саму себя, и ее мысли как бы противоречат реальному положению дел, в том числе тому, что происходит внутри нее самой).
Уже только этой части хватило бы, чтобы надолго задуматься над человеческими отношениями, мотивацией и причинами выглядящих благородно и красиво поступками. Но Лоуренс идет дальше. Джилл и Генри продолжают играть в перетягивание каната, и Нелли, привязанная к обоим, мечется между ними. В какой-то момент она принимает решение остаться с Бэнфорд. Для Генри это удар (по самолюбию), и он под предлогом помощи изощренно убивает Джилл, имитируя несчастный случай. Вообще Генри с самого начала показан отвратительной беспринципной сволочью, но этот эпизод раскрывает его как полного ублюдка. Такие люди просто не умеют любить.
↓
❤2
Нелли остается без подруги и дома, одна без руля и ветрил, и ей ничего не остается, как выйти замуж за Генри. Он называет это победой, а она поражением. Пассивно следуя за ним, внутренне она остается самостоятельной и начинает лучше понимать собственную личность. Он считает, что все только началось, и однажды он снова победит ее, уже внутренне, подчинит себе полностью. Для нее же это конец:
Последние несколько страниц повести драгоценны, печальны, красивы. В них вообще нет никакого действия, только мысли Нелли и Генри. Его разочарование, ее скорбь. Их полное несовпадение. Ее разрушенная жизнь, осознание себя личностью деятельной, активной, у которой отняли все это. Его нетерпение и желание, чтобы она метафорически заснула в его руках, стала «водорослью» (эти образы у Лоуренса как будто безумные, но невероятно точные и ошарашивающие):
В небольшой повести (меньше ста страниц) столько всего сказано или, скорее, показано. Текст поэтичный: встречаются множественные повторы, характерные для поэзии, а в прозе дающее эффект кружения на месте; много описаний: описана каждая эмоция и интонация (за которыми всегда видна другая, истинная эмоция, словно психологическая матрешка), и вроде бы почти ничего не происходит, но из-за малейших перемен, неосторожных слов, неконтролируемых чувств, неумения прислушаться к себе и другим рушатся жизни.
Ω
«Она была рада, что все это закончилось. Рада сидеть на берегу, смотреть на запад, за море, и знать, что великие старания закончились. Никогда больше не устремится она в погоню за любовью и счастьем. И Джилл в надежном укрытии смерти. Бедная Джилл, бедная Джилл. Быть мертвой, должно быть, очень сладко».
Последние несколько страниц повести драгоценны, печальны, красивы. В них вообще нет никакого действия, только мысли Нелли и Генри. Его разочарование, ее скорбь. Их полное несовпадение. Ее разрушенная жизнь, осознание себя личностью деятельной, активной, у которой отняли все это. Его нетерпение и желание, чтобы она метафорически заснула в его руках, стала «водорослью» (эти образы у Лоуренса как будто безумные, но невероятно точные и ошарашивающие):
«Она должна быть подобна водорослям, <…> никогда не поднимающимся на поверхность и не выглядывающим из воды. <…> Под водой они могут быть крепче, несокрушимее стойких дубов на земле. Но всегда под водой, всегда под водой. И, будучи женщиной, она должна быть подобна им».
В небольшой повести (меньше ста страниц) столько всего сказано или, скорее, показано. Текст поэтичный: встречаются множественные повторы, характерные для поэзии, а в прозе дающее эффект кружения на месте; много описаний: описана каждая эмоция и интонация (за которыми всегда видна другая, истинная эмоция, словно психологическая матрешка), и вроде бы почти ничего не происходит, но из-за малейших перемен, неосторожных слов, неконтролируемых чувств, неумения прислушаться к себе и другим рушатся жизни.
Ω
❤10
Москвичи, приходите послушать хорошую поэзию в Центральный дом литераторов!
21 марта в Большом зале ЦДЛ пройдет завершение большого поэтического фестиваля и празднование Всемирного дня поэзии.
Я в числе выступающих😊
Если вы недавно на канале и впервые слышите, что я еще и стихи пишу (к слову, не только стихи), то вот и вот пара подборок для знакомства😉
#события #чтотопишу
21 марта в Большом зале ЦДЛ пройдет завершение большого поэтического фестиваля и празднование Всемирного дня поэзии.
Я в числе выступающих
Если вы недавно на канале и впервые слышите, что я еще и стихи пишу (к слову, не только стихи), то вот и вот пара подборок для знакомства
#события #чтотопишу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍3
Вдруг вспомнила это стихотворение. Прочитала в детстве даже не знаю где (но это были времена, когда стихи печатали в обычных газетах целыми подборками, так что, наверное, в газете). Я переписала его в дневник. А потом просто выучила наизусть. И знаете, до сих пор что-то есть в нем отзывающееся, правильное. Что, несмотря ни на что, можно просто быть счастливой. Или, если не получается, хотя бы дождаться следующего дня.
***
Еще отчаиваться рано -
Еще есть время горевать,
Над вечереющим обрывом
В оглохшем воздухе стоять.
Еще тоски достанет вволю
Прожить в уже незванном дне,
И вновь рассориться с судьбою,
И удержаться в вышине.
Еще есть время кем-то слыть,
Еще есть время быть убитой,
Измученной или забытой,
Иль попросту счастливой быть.
Еще есть время верить зря,
Еще есть время робко, смутно
Всего-то сделать, что под утро
Сорвать листок календаря.
Елена Скульская
***
Еще отчаиваться рано -
Еще есть время горевать,
Над вечереющим обрывом
В оглохшем воздухе стоять.
Еще тоски достанет вволю
Прожить в уже незванном дне,
И вновь рассориться с судьбою,
И удержаться в вышине.
Еще есть время кем-то слыть,
Еще есть время быть убитой,
Измученной или забытой,
Иль попросту счастливой быть.
Еще есть время верить зря,
Еще есть время робко, смутно
Всего-то сделать, что под утро
Сорвать листок календаря.
Елена Скульская
❤🔥7