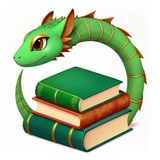Из Питера я уже уехала, а мое стихотворение осталось там — стало частью выставки «ЕЩЁ ОДНА ВЕСНА», которая проходит с 16 мая по 16 июня 2025 года в Библиотечном центре искусства и поэзии им. С. Есенина (Лиговский проспект, д. 215).
Питерцы, будет оказия, зайдите, насладитесь красотой (на фото). А еще в рамках выставки проходит зеленый своп — можно обменяться растениями.
Собственно стихотворение:
***
Однажды выходишь во двор — там хозяйничает весна,
все запахи разом: листвы и травы; черемухи пышная белизна
и неба какая-то нереальная, невозможная голубизна,
как из забытого сна.
А вдруг все исчезнет, когда проснешься. Качнет пушистой веткой сосна —
она что зимой что летом густо-зеленым цветом, а в рамке окна
парит то ли пух, то ли снег, трепещет, колеблется вышина,
как озеро. Луч мелькает в ней, как блесна.
И кажется, не было жизни до этого дня, на память накинута пелена.
Можно сыграть сначала, с нуля подбирая мелодию, добавляя полутона,
убирая ненужные паузы, исправляя ошибки — иллюзорная новизна.
И если небо похоже на озеро, попытаться достать до дна.
Такая легкость и нежность, невесомость и глубина.
Как в черной влажной земле просыпаются семена,
так в пустой голове, очищенной от сомнений, вины, излишка вина,
проявляется осторожная тишина.
В нее врываются птичьи и детские голоса, песни и смех допоздна,
и так умеет только весна, так умеет только весна.
Как резинка, растягивается вечер, небо цвета сирени, и даль ясна,
и выходишь из сна в реальность. Выходишь из сна.
#события #личное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10❤🔥2🔥1
#староедоброе #художка
Иоганнес Роберт Бехер. Прощание / пер. с нем. И. Горкина и И. Горкиной. — М.: Художественная литература, 1974.
Очень интересный роман доселе совершенно незнакомого мне автора. А ведь тираж этой книги, куда помимо «Прощания» включены избранные стихотворения, — 50 тысяч экземпляров. Все почему? Потому что Бехер был коммунистом, жил в СССР и ГДР, был уважаемым в соцлагере писателем. Эта конкретная книга выходила в серии «Библиотека литературы ГДР».
О Бехере я узнала из сборника «Сумерки человечества» (все-таки хочу о нем подробнее написать), там опубликовано несколько его стихотворений. Читая сборник, я гуглила отдельных понравившихся мне авторов, увидела, что книги Бехера продаются совсем недорого и закинула в корзину первую попавшуюся. И с удовольствием прочитала роман «Прощание», несмотря на его явную советскую ангажированность. Вообще вайбами он напомнил и Гайдара, и Катаева, и другие книжки, на которых обычно росли советские школьники, и я в том числе.
Главный герой — Ганс Гастль, на первых страницах еще ребенок, потом подросток, и к началу Первой мировой войны он становится взрослым. Это совершенно потрясающе написано, от первого лица и именно глазами ребенка, изнутри процесса взросления. Не воспоминания взрослого о детских травмах и переживаниях, когда именно взрослый ранжирует их, придает значение одним событиями и отбрасывает другие, а от лица ребенка, который здесь и сейчас проживает свою трудную детскую жизнь — трудную уже потому, что все впервые, чувства выкручены на максимум, все ужасает и удивляет, постоянно приходится делать выбор, протискиваясь между собственными желаниями и установками взрослых, обуревают сомнения и мечется душа. Не бывает легкого детства, и Бехер хорошо это передает, хотя Ганс из хорошей, пусть и небогатой семьи, и его жизнь со стороны должна казаться легкой и спокойной.
Повествование начинается с празднования Нового года, встречи двадцатого века, и мальчик, которому в этот момент лет семь или восемь, ждет, что старый век умрет и сразу начнется новая, другая жизнь. Он обещает себе перестать хулиганить и стать хорошим человеком, но после нового года совершенно ничего не меняется:
Это непосредственное живое впечатление о мире, который только начинает открываться ребенку, и это очаровательно написано. Ганс по-детски одушевляет предметы, дома, даже темноту:
Олицетворение как постоянный прием делает текст невероятно образным: «От дома пахло, как от умирающего», «Луна лопнула и пролилась в ночь бульоном тусклого света», «Я всячески оберегал родительский сон. Снимал ботинки, чтобы не вспугнуть тишину, урезонивал капающий водопроводный кран и ссорился с окном, которое не желало угомониться и бессовестно скрипело».
Через предметы быта Ганс постигает и разницу в благополучии, например, их семьи и его более бедного друга:
↓
Иоганнес Роберт Бехер. Прощание / пер. с нем. И. Горкина и И. Горкиной. — М.: Художественная литература, 1974.
Очень интересный роман доселе совершенно незнакомого мне автора. А ведь тираж этой книги, куда помимо «Прощания» включены избранные стихотворения, — 50 тысяч экземпляров. Все почему? Потому что Бехер был коммунистом, жил в СССР и ГДР, был уважаемым в соцлагере писателем. Эта конкретная книга выходила в серии «Библиотека литературы ГДР».
О Бехере я узнала из сборника «Сумерки человечества» (все-таки хочу о нем подробнее написать), там опубликовано несколько его стихотворений. Читая сборник, я гуглила отдельных понравившихся мне авторов, увидела, что книги Бехера продаются совсем недорого и закинула в корзину первую попавшуюся. И с удовольствием прочитала роман «Прощание», несмотря на его явную советскую ангажированность. Вообще вайбами он напомнил и Гайдара, и Катаева, и другие книжки, на которых обычно росли советские школьники, и я в том числе.
Главный герой — Ганс Гастль, на первых страницах еще ребенок, потом подросток, и к началу Первой мировой войны он становится взрослым. Это совершенно потрясающе написано, от первого лица и именно глазами ребенка, изнутри процесса взросления. Не воспоминания взрослого о детских травмах и переживаниях, когда именно взрослый ранжирует их, придает значение одним событиями и отбрасывает другие, а от лица ребенка, который здесь и сейчас проживает свою трудную детскую жизнь — трудную уже потому, что все впервые, чувства выкручены на максимум, все ужасает и удивляет, постоянно приходится делать выбор, протискиваясь между собственными желаниями и установками взрослых, обуревают сомнения и мечется душа. Не бывает легкого детства, и Бехер хорошо это передает, хотя Ганс из хорошей, пусть и небогатой семьи, и его жизнь со стороны должна казаться легкой и спокойной.
Повествование начинается с празднования Нового года, встречи двадцатого века, и мальчик, которому в этот момент лет семь или восемь, ждет, что старый век умрет и сразу начнется новая, другая жизнь. Он обещает себе перестать хулиганить и стать хорошим человеком, но после нового года совершенно ничего не меняется:
«Весь мир виноват в том, что я не изменился; как в самом деле мог я исправиться и начать новую жизнь, раз даже случая к этому не представилось и все осталось по-старому!»
«Сахарная соломка, медвежьи орешки, турецкий мед, карамель — все сласти старого года не потеряли своей сладости и в новом году, а соленые крендельки и хворост были такими же солеными в новом году, как и в старом».
Это непосредственное живое впечатление о мире, который только начинает открываться ребенку, и это очаровательно написано. Ганс по-детски одушевляет предметы, дома, даже темноту:
«Темнота и днем не покидала комнаты: она забиралась под стол и пряталась в шкафы, дожидаясь, пока наступит вечер и с ним ее царство. Тогда темнота выползала, чтобы поиздеваться над ничтожной каплей света, бессильной прогнать ее — огромную, необъятную. Огни гасли, а темнота росла и росла. Она дышала, потому что была живым существом, черным было ее дыхание, оно проникало повсюду».
Олицетворение как постоянный прием делает текст невероятно образным: «От дома пахло, как от умирающего», «Луна лопнула и пролилась в ночь бульоном тусклого света», «Я всячески оберегал родительский сон. Снимал ботинки, чтобы не вспугнуть тишину, урезонивал капающий водопроводный кран и ссорился с окном, которое не желало угомониться и бессовестно скрипело».
Через предметы быта Ганс постигает и разницу в благополучии, например, их семьи и его более бедного друга:
«Эта комната Гартингеров никогда не знала покоя, в ней жили и работали круглый год. У нас же, по крайней мере раз в году, мебель могла хорошенько отдохнуть, и стульев было куда больше, так что на каждом из них сидели гораздо реже и им намного легче жилось».
↓
Автор, зная, что впереди Ганса ждет Первая мировая война, дает намеки на нее в тексте, они как бы разлиты в воздухе. В новый год мальчик загадывает желание: большую войну, но только когда вырастет, чтобы непременно в ней участвовать. В подростковом возрасте он тоже всячески романтизирует войну, одновременно опасаясь, что ожидаемая «новая жизнь иной раз звучит не только заманчиво, но и страшновато», и догадываясь, «что мирная тишина — не что иное, как угодливый обман, призрачный остров среди океана ужасов».
Один из важных мотивов романа — все кем-то притворяются, врут себе и другим, живут не свои жизни, дружат и даже заводят семьи не с теми, с кем хотели бы. Каждый раз, попадая в новую непривычную ситуацию, Ганс придумывает себе маску, за которой прячется, к концу их набирается несколько десятков. И такие же уловки он видит у других людей, причем у взрослых самые любимые маски, как правило, уже заменили настоящую личность, которая спрятана так далеко, что не достать: «Все прятали свои настоящие голоса и лгали друг другу».
Ганс стремится к свободе, начиная со свободы говорить что думаешь «и что высказывать обычно возбранялось». Еще в детстве он обнаруживает, что некоторую свободу дают деньги, а чуть позже что «только сумасшедший может себе позволить говорить правду», причем здесь это не метафора, а вывод, сделанный из посещения безумного дяди в сумасшедшем доме. Постепенно Ганс приходит к выводу, что ежедневное притворство, сдерживание правды внутри — залог стабильности и мира в обществе, и это тоже его удивляет.
Он вообще много размышляет о каких-то незаметных, привычных вещах и каждый раз пытается раскопать их так глубоко, как умеет, рассмотреть под непривычным углом. Он думает о смерти, забвении, о любви, которую только начинает познавать, о дружбе и ее эрзаце (он хочет дружить с бедным мальчиком, а отцу нравится, когда он дружит с аристократами, это ему льстит), о том, почему человек так часто говорит глупости («вырвется слово невзначай и только тогда задумаешься»), даже о звездах и облаках, по которым как бы калибрует реальность:
Ганс учится — в школе, интернате, на отдыхе, в гостях, учится у друзей и врагов, плохому и хорошему, иногда дает увести себя по неверной дорожке — к издевательствам над слабыми, воровству, предательству, но многое из этого переживает и на собственной шкуре, постепенно отыскивая среди масок и проторенных другими ложных тропок свое лицо и свой путь.
Еще о параллелях: сознательно или нет, Бехер дает множество аллюзий на романы Томаса Манна. С «Будденброками» сходство уже на уровне фабулы: приличная семья бюргеров, всего достигших трудом и потом, и попытка передать следующему поколению «правильные» ценности. Ганс, в отличие от Будденброков, единственный ребенок в семье, но на обочине есть другие родственники, в которых можно узнать и сумасшедшего Христиана, и бедную Тони, и других персонажей. У семейства Гастль из «Прощания» есть точно такая же книга с семейными хрониками, куда они записывают значимые события, но тут не знаю, может, это какая-то общая немецкая традиция тех лет. Сам Ганс, начиная с имени, невероятно напоминает героя «Волшебной горы», и путь его тоже прослежен до начала Первой мировой войны, только Манновский Ганс идет на нее добровольцем, а Бехеровский Ганс наотрез отказывается воевать. Размышления и споры о политике, философии, психологии, в которые втягивают Ганса его соратники и оппоненты, тоже сближают эти два романа.
↓
Один из важных мотивов романа — все кем-то притворяются, врут себе и другим, живут не свои жизни, дружат и даже заводят семьи не с теми, с кем хотели бы. Каждый раз, попадая в новую непривычную ситуацию, Ганс придумывает себе маску, за которой прячется, к концу их набирается несколько десятков. И такие же уловки он видит у других людей, причем у взрослых самые любимые маски, как правило, уже заменили настоящую личность, которая спрятана так далеко, что не достать: «Все прятали свои настоящие голоса и лгали друг другу».
Ганс стремится к свободе, начиная со свободы говорить что думаешь «и что высказывать обычно возбранялось». Еще в детстве он обнаруживает, что некоторую свободу дают деньги, а чуть позже что «только сумасшедший может себе позволить говорить правду», причем здесь это не метафора, а вывод, сделанный из посещения безумного дяди в сумасшедшем доме. Постепенно Ганс приходит к выводу, что ежедневное притворство, сдерживание правды внутри — залог стабильности и мира в обществе, и это тоже его удивляет.
Он вообще много размышляет о каких-то незаметных, привычных вещах и каждый раз пытается раскопать их так глубоко, как умеет, рассмотреть под непривычным углом. Он думает о смерти, забвении, о любви, которую только начинает познавать, о дружбе и ее эрзаце (он хочет дружить с бедным мальчиком, а отцу нравится, когда он дружит с аристократами, это ему льстит), о том, почему человек так часто говорит глупости («вырвется слово невзначай и только тогда задумаешься»), даже о звездах и облаках, по которым как бы калибрует реальность:
«Как заставить миллионы людей на земле, неведомо куда торопящихся, остановиться и взглянуть на плывущие в высоком, бесконечном небе облака: "Ради чего? Куда?"»
Ганс учится — в школе, интернате, на отдыхе, в гостях, учится у друзей и врагов, плохому и хорошему, иногда дает увести себя по неверной дорожке — к издевательствам над слабыми, воровству, предательству, но многое из этого переживает и на собственной шкуре, постепенно отыскивая среди масок и проторенных другими ложных тропок свое лицо и свой путь.
«Все обман, сплошной обман! На него идешь, надо же как-нибудь примириться с тем, что ты родился на свет. Обман может быть неуклюж и искусен, безобразен, туп или наоборот, утонченно прекрасен, — не в этом дело, цель всегда одна: спасаясь обманом, плыть по жизни. Ибо никто не в силах вынести постоянного напоминания о том, что когда-нибудь всему этому придет неотвратимый конец».
Еще о параллелях: сознательно или нет, Бехер дает множество аллюзий на романы Томаса Манна. С «Будденброками» сходство уже на уровне фабулы: приличная семья бюргеров, всего достигших трудом и потом, и попытка передать следующему поколению «правильные» ценности. Ганс, в отличие от Будденброков, единственный ребенок в семье, но на обочине есть другие родственники, в которых можно узнать и сумасшедшего Христиана, и бедную Тони, и других персонажей. У семейства Гастль из «Прощания» есть точно такая же книга с семейными хрониками, куда они записывают значимые события, но тут не знаю, может, это какая-то общая немецкая традиция тех лет. Сам Ганс, начиная с имени, невероятно напоминает героя «Волшебной горы», и путь его тоже прослежен до начала Первой мировой войны, только Манновский Ганс идет на нее добровольцем, а Бехеровский Ганс наотрез отказывается воевать. Размышления и споры о политике, философии, психологии, в которые втягивают Ганса его соратники и оппоненты, тоже сближают эти два романа.
↓
❤2
Здесь много размышлений о природе творчества, поскольку Ганс, как и его прототип, сам писатель (это несложно понять), сочиняет стихи:
Вот странно: вроде бы ангажированная советская литература (там и о броненосце «Потемкине», это тоже один из лейтмотивов, и о революции 1905-го года, и о классовом неравенстве и социальной борьбе), но написано так искренне, так красиво и так жизненно, что читаешь просто как роман взросления в сложное историческое время. Ганс получился настоящим живым подростком с кучей реальных подростковых проблем, и это явная удача автора. Я бы не отказалась прочитать эту книгу в детстве (причем она вполне могла стоять в дедушкином шкафу, но почему-то мы с ней не пересеклись), но и сейчас она оказалась очень хороша.
Ω
«…я рассказал, как однажды сделал открытие, что некоторые слова, если их расположить в определенном порядке и произносить вслух, делают меня как бы нечувствительным к школьным и домашним невзгодам. <…> Стихи делали меня бесстрашным и, как мне казалось, непобедимым. В стихах таилась целительная, чудесная сила, и мне хотелось узнать, оказывают ли они и на других такое воздействие».
Вот странно: вроде бы ангажированная советская литература (там и о броненосце «Потемкине», это тоже один из лейтмотивов, и о революции 1905-го года, и о классовом неравенстве и социальной борьбе), но написано так искренне, так красиво и так жизненно, что читаешь просто как роман взросления в сложное историческое время. Ганс получился настоящим живым подростком с кучей реальных подростковых проблем, и это явная удача автора. Я бы не отказалась прочитать эту книгу в детстве (причем она вполне могла стоять в дедушкином шкафу, но почему-то мы с ней не пересеклись), но и сейчас она оказалась очень хороша.
Ω
❤4❤🔥1
#художка #староедоброе
Юкио Мисима. Шум прибоя / пер. с японского Александр Вялых. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2025. — 224 с.
Уютная добрая история о том, как молчаливый и суровый юный рыбак Синдзи влюбляется в Хацуэ, дочку богатого соседа (ну как богатого — это рыбацкая деревушка на краю света, так что и богатый он относительно своих скромных соседей).
Маленький текст, в котором разворачивается огромное пространство. Несмотря на небольшой объем, тут есть всё: плетущий интриги и разносящий нелицеприятные сплетни соперник Ясуо, которого отец девушки поначалу предпочитает видеть ее избранником; влюбленная в Синдзи девушка, которая тоже способствует распространению слухов. Реакция деревни: молодежи и взрослых, их попытки то помочь, то помешать сближению влюбленных. Размышления Синдзи о том, что с ним вообще такое происходит, поскольку у него нет опыта ни таких отношений, ни даже подобных чувств.
Есть и рассказы о других жителях деревни, о самой деревне, пережившей войну и хранящей ее следы, о том, чем заняты люди, как устроен их быт. О матери Синдзи, искусной ныряльщице, так и не научившейся готовке и ведению хозяйства. Детальки, подробности, штришки — и вот уже вырастает перед глазами эта маленькая деревушка, где мужчины каждое утро уходят в море, а женщины ныряют за молюсками, не стесняются наготы своих отполированных морской водой тел, где жизнь течет так медленно и спокойно, что событиями становятся экскурсия в Токио на теплоходе или приезд дочери из столицы на каникулы, или занятия для молодежи по этикету. Что уж говорить об истории запретной любви.
Кстати об экскурсии — туда отправляется Хироси, младший брат Синдзи, и по возвращении все, конечно, жаждут рассказов о большом мире. И вот Хироси размышляет:
Как же точно передано это ощущение по возвращении, когда оказываешься среди знакомых вещей и кажется, что поездка приснилась, что никуда и не уезжал.
Все это на фоне природы и гармонично встроенного в нее быта. Мисима рисует картинки словами:
В общем, это просто красиво.
Конечно, есть и приключения: тайная переписка влюбленных, великое испытание, которое устраивает отец Хацуэ для обоих претендентов на руку его дочери, — думаю, понятно, кто в нем одержит победу.
Текст течет плавно и спокойно, несмотря на страсти, бушующие в юных сердцах, и как-то сразу понятно, что ничего плохого ни с кем из героев не случится, а влюбленных ждет хеппи-энд. Хорошая история.
Юкио Мисима. Шум прибоя / пер. с японского Александр Вялых. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2025. — 224 с.
Уютная добрая история о том, как молчаливый и суровый юный рыбак Синдзи влюбляется в Хацуэ, дочку богатого соседа (ну как богатого — это рыбацкая деревушка на краю света, так что и богатый он относительно своих скромных соседей).
Маленький текст, в котором разворачивается огромное пространство. Несмотря на небольшой объем, тут есть всё: плетущий интриги и разносящий нелицеприятные сплетни соперник Ясуо, которого отец девушки поначалу предпочитает видеть ее избранником; влюбленная в Синдзи девушка, которая тоже способствует распространению слухов. Реакция деревни: молодежи и взрослых, их попытки то помочь, то помешать сближению влюбленных. Размышления Синдзи о том, что с ним вообще такое происходит, поскольку у него нет опыта ни таких отношений, ни даже подобных чувств.
«В больших городах, в отличие от Утадзимы, молодежь познавала уроки любовных отношений по книгам и фильмам. Синдзи же часто вспоминал тот случай, когда остался с девушкой наедине. Те минуты, когда они шли от развалин наблюдательного пункта к маяку, казались ему самыми драгоценными. Впрочем, на ум не приходило ни одной мысли о том, как должен вести себя в подобной ситуации юноша».
Есть и рассказы о других жителях деревни, о самой деревне, пережившей войну и хранящей ее следы, о том, чем заняты люди, как устроен их быт. О матери Синдзи, искусной ныряльщице, так и не научившейся готовке и ведению хозяйства. Детальки, подробности, штришки — и вот уже вырастает перед глазами эта маленькая деревушка, где мужчины каждое утро уходят в море, а женщины ныряют за молюсками, не стесняются наготы своих отполированных морской водой тел, где жизнь течет так медленно и спокойно, что событиями становятся экскурсия в Токио на теплоходе или приезд дочери из столицы на каникулы, или занятия для молодежи по этикету. Что уж говорить об истории запретной любви.
Кстати об экскурсии — туда отправляется Хироси, младший брат Синдзи, и по возвращении все, конечно, жаждут рассказов о большом мире. И вот Хироси размышляет:
«Куда исчезло все то, что еще недавно вызывало восторг и удивление: сияющие огни высоких зданий, неоновая реклама, проносящиеся мимо поезда и автомобили? Он вернулся в родной дом, где все оставалось по-прежнему: буфет для чайной посуды, настенные часы, алтарь, обеденный столик, трюмо. Мама. Очаг. Отсыревшие татами. В окружении привычных вещей мир вновь стал понятным без слов — и только мама продолжала донимать его расспросами об экскурсии».
Как же точно передано это ощущение по возвращении, когда оказываешься среди знакомых вещей и кажется, что поездка приснилась, что никуда и не уезжал.
Все это на фоне природы и гармонично встроенного в нее быта. Мисима рисует картинки словами:
«Сегодня в сторожке никого не было. Заливая стекла на дверях, непрерывно барабанили дождевые струи. У закрытого окна стояла подзорная труба, как бы ошеломленная стихией. Сквозняк перелистывал разбросанные по столу бумаги и документы, трогал курительную трубку, касался фуражки службы управления государственной безопасности, календаря судовой компании с вычурной картинкой нового корабля, настенных часов и небрежно наколотых на гвоздь больших листов с правилами…»
В общем, это просто красиво.
Конечно, есть и приключения: тайная переписка влюбленных, великое испытание, которое устраивает отец Хацуэ для обоих претендентов на руку его дочери, — думаю, понятно, кто в нем одержит победу.
Текст течет плавно и спокойно, несмотря на страсти, бушующие в юных сердцах, и как-то сразу понятно, что ничего плохого ни с кем из героев не случится, а влюбленных ждет хеппи-энд. Хорошая история.
❤8❤🔥1
Снова в этом году буду читать стихи на книжном фестивале «Красная площадь» 💡
6 июня
17.00–17.45
Малая сцена
Участники:
Антон Васецкий, Екатерина Веселкина, Анна Коржавина, Дарья Лебедева, Лина Нурли, Георг Мюрсон, Лариса Назарова, Анастасия Лозинская, Наталия Сигайлова.
Ссылка на мероприятие
Фотки с прошлых выступлений там же))
Апдейт. В комментариях несколько фотографий с прошедшего фестиваля: читаю, наша банда, скромная книжная добыча.
#события
6 июня
17.00–17.45
Малая сцена
Участники:
Антон Васецкий, Екатерина Веселкина, Анна Коржавина, Дарья Лебедева, Лина Нурли, Георг Мюрсон, Лариса Назарова, Анастасия Лозинская, Наталия Сигайлова.
Ссылка на мероприятие
Фотки с прошлых выступлений там же))
Апдейт. В комментариях несколько фотографий с прошедшего фестиваля: читаю, наша банда, скромная книжная добыча.
#события
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11❤🔥1👍1
#новинка #поэзия
Сумерки человечества. Крах и крик / пер. с немецкого Егора Зайцева, пер. предисловия Софьи Негробовой. — М.: libra, 2025.
Считающаяся культовой антология поэзии немецкого экспрессионизма была составлена писателем и журналистом Куртом Пинтусом, который руководствовался исключительно личным вкусом и звал в проект в основном авторов, с которыми был лично знаком (впрочем, знаком он был практически со всей богемой того времени). Антология вышла в 1919 году, сразу после Первой мировой войны — к этому времени шести из двадцати трех авторов не было в живых: Альфред Лихтенштейн, Эрнст Штадлер, Август Штрамм и Эрнст Лотц погибли на поле боя, Георг Тракль покончил с собой в самом начале войны, а Георг Гейм (в этом переводе Хайм) трагически погиб в 1912 году, провалившись под лед. Многие участники сборника, пережив мировую войну, умерли в период между войнами, некоторые не пережили Вторую: так, Альфред Вольфенштайн, претерпев многжество бед и болезней, покончил с собой в январе 1945-го, чуть-чуть не дожив до победы, а Вальтер Газенклевен свел счеты с жизнью в 1940-м во французском лагере для интернированных, не желая попасть в руки нацистам. Каждое имя в списке — сложная, яркая, подчас трагическая судьба, и в сборнике их голоса звучат, перекликаясь, то поддерживая, то споря друг с другом.
Структура сборника необычная. В нем четыре раздела: «Крах и крик» («Sturz und Schrei»), «Пробуждение сердца» («Erweckung des Herzens»), «Призыв и мятеж» («Aufruhr und Empörung»), «Возлюби человека» («Liebe den Menschen»). Всего включено 275 стихотворений, но расположены они не по авторам, как обычно делают в антологиях, а вперемешку. Данная книга — лишь одна четвертая сборника, его первая часть «Крах и крик». Остальные три у издательства в планах. Стоит упомянуть, что стихотворения из сборника уже были опубликованы на русском в антологии «Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма», но она не повторяла сборник Пинтуса, и стихотворения были традиционно «рассортированы» по авторам. Вот здесь можно с ней познакомиться.
Когда я впервые увидела живопись немецких экспрессионистов (это была выставка группы «Мост» в Пушкинском), я была впечатлена, но, скорее, неприятно. Яркая, размазанная, нарочито небрежная, кричащая, она показалась мне злой и безумной. Немного почитав об этом направлении, я поняла, что этого художники и добивались: им нужно было встряхнуть зрителя, заставить испытывать максимум отрицательных эмоций, чтобы обратить внимание на тревожные приметы времени, буквально висевшую в воздухе тревогу и страх, предчувствие глобальной катастрофы, сбывшееся на полях Первой мировой.
То же происходит и у поэтов: нарочито физиологичные, неприятные, тревожные образы, скачущие сюжеты, предощущение ужаса или чувство уже свершившегося кошмара, безысходность и растерянность. Пинтус видит в этом своеобразное смирение:
В этой поэзии задействована максимально дерзкая, необычная образность (и переводчик смело «дает огня» вослед, порой прибегая даже к косноязычию): «Кулак колоколов взведен и возведен», «Птица щебет цедит» (Йоханнес Бехер), «Небо словно синяя медуза», «Вся земля лежит воскресным мясом / Солнце на нее течет как соус», «Москиты газа мечутся, как в склепе, / Завязнув в городской кромешной взвеси, / Где, тускло тлея, затаился в небе / Паук тумана, ядовитый месяц» (Альберт Лихтенштайн), «Еще их кормят. Язвы покрывают / их спины. Стаи мух. Порой / их моют сестры — так же, как скамью» (Готтфрид Бенн «Через раковый корпус»). Конечно, не без словотворчества: «Мой адрес: ветровлобная улица. / Крышесито — мой кров» (Альберт Эренштайн), «Вновь ночнеют лбы в лунной породе» (Георг Тракль).
↓
Сумерки человечества. Крах и крик / пер. с немецкого Егора Зайцева, пер. предисловия Софьи Негробовой. — М.: libra, 2025.
Считающаяся культовой антология поэзии немецкого экспрессионизма была составлена писателем и журналистом Куртом Пинтусом, который руководствовался исключительно личным вкусом и звал в проект в основном авторов, с которыми был лично знаком (впрочем, знаком он был практически со всей богемой того времени). Антология вышла в 1919 году, сразу после Первой мировой войны — к этому времени шести из двадцати трех авторов не было в живых: Альфред Лихтенштейн, Эрнст Штадлер, Август Штрамм и Эрнст Лотц погибли на поле боя, Георг Тракль покончил с собой в самом начале войны, а Георг Гейм (в этом переводе Хайм) трагически погиб в 1912 году, провалившись под лед. Многие участники сборника, пережив мировую войну, умерли в период между войнами, некоторые не пережили Вторую: так, Альфред Вольфенштайн, претерпев многжество бед и болезней, покончил с собой в январе 1945-го, чуть-чуть не дожив до победы, а Вальтер Газенклевен свел счеты с жизнью в 1940-м во французском лагере для интернированных, не желая попасть в руки нацистам. Каждое имя в списке — сложная, яркая, подчас трагическая судьба, и в сборнике их голоса звучат, перекликаясь, то поддерживая, то споря друг с другом.
Структура сборника необычная. В нем четыре раздела: «Крах и крик» («Sturz und Schrei»), «Пробуждение сердца» («Erweckung des Herzens»), «Призыв и мятеж» («Aufruhr und Empörung»), «Возлюби человека» («Liebe den Menschen»). Всего включено 275 стихотворений, но расположены они не по авторам, как обычно делают в антологиях, а вперемешку. Данная книга — лишь одна четвертая сборника, его первая часть «Крах и крик». Остальные три у издательства в планах. Стоит упомянуть, что стихотворения из сборника уже были опубликованы на русском в антологии «Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма», но она не повторяла сборник Пинтуса, и стихотворения были традиционно «рассортированы» по авторам. Вот здесь можно с ней познакомиться.
Когда я впервые увидела живопись немецких экспрессионистов (это была выставка группы «Мост» в Пушкинском), я была впечатлена, но, скорее, неприятно. Яркая, размазанная, нарочито небрежная, кричащая, она показалась мне злой и безумной. Немного почитав об этом направлении, я поняла, что этого художники и добивались: им нужно было встряхнуть зрителя, заставить испытывать максимум отрицательных эмоций, чтобы обратить внимание на тревожные приметы времени, буквально висевшую в воздухе тревогу и страх, предчувствие глобальной катастрофы, сбывшееся на полях Первой мировой.
То же происходит и у поэтов: нарочито физиологичные, неприятные, тревожные образы, скачущие сюжеты, предощущение ужаса или чувство уже свершившегося кошмара, безысходность и растерянность. Пинтус видит в этом своеобразное смирение:
«Не рабское пресмыкание, не бездеятельное ожидание является смирением; смирение — это подойти и открыто высказать, потребовать и исповедоваться перед Богом и человеком, и в качестве оружия — лишь сердце, дух и голос».
В этой поэзии задействована максимально дерзкая, необычная образность (и переводчик смело «дает огня» вослед, порой прибегая даже к косноязычию): «Кулак колоколов взведен и возведен», «Птица щебет цедит» (Йоханнес Бехер), «Небо словно синяя медуза», «Вся земля лежит воскресным мясом / Солнце на нее течет как соус», «Москиты газа мечутся, как в склепе, / Завязнув в городской кромешной взвеси, / Где, тускло тлея, затаился в небе / Паук тумана, ядовитый месяц» (Альберт Лихтенштайн), «Еще их кормят. Язвы покрывают / их спины. Стаи мух. Порой / их моют сестры — так же, как скамью» (Готтфрид Бенн «Через раковый корпус»). Конечно, не без словотворчества: «Мой адрес: ветровлобная улица. / Крышесито — мой кров» (Альберт Эренштайн), «Вновь ночнеют лбы в лунной породе» (Георг Тракль).
↓
❤4
Такой фон рисуют поэты-экспрессионисты для потерянных душ, втянутых в страшный водоворот истории. Их общий усредненный лирический герой — одиночка, странник, мизантроп, уставший от шума города, но не находящий утешения в природе: «Вши посещают мою постель / из сочувствия к одиночеству», «Охрани от любви мое сердце, / довольно бессмертная / пострадала душа», о человеке: «он слизь, плевок на витрине» (Альберт Эренштайн), «Даже сердца стук — от кредитора. / В этом мире каждый — посторонний. / Бренно всё, что нас соединяет» (Франц Верфель), «Ночью на пустоши вновь нашел / себя смотрящим на мусор звезд» (Георг Тракль).
Общее ощущение, впрочем, не совершенно безысходное — во всем этом «мусоре» (звезд, человеческой скоропортящейся плоти, бесполезных предметов и угнетающих городских пейзажей), в бессмысленном хаосе бытия остается место, во-первых, красоте, которую именно поэт — потерянный, уставший, преодолевающий жизнь, как сложное препятствие — умеет увидеть практически в чем угодно, во-вторых, надежде и тому самому «позитивному», освобождающему смирению: «Но до того, как принять гибель или недолю, / Миром и солнцем наши глаза насытятся вволю» (Эрнст Штадлер), «Трухлявого, бесплодного дерева / Мне тянет ветвь / На прогнившей, промерзшей коре / Последний, упущенный осенью лист» (Альберт Эренштайн), «Я больше не боюсь / Умирать. / Уже цвету на могиле / Вьющимися цветами» (Эльзе Ласкер-Шулер).
Напоследок два коротеньких шедевра.
Альберт Лихтенштайн
Сражение под Заарбургом
Земля плесневеет в тумане.
Вечер тяжел, как свинец.
Всему в электрическом треске
И визге приходит конец.
Деревни чадят, как тряпки,
В дыму утонул горизонт.
Я богом оставлен, поставлен
В гулко трещащий фронт.
У сердца, у глаз враждебно
Гудит многих птичек медь.
Я лоб подставляю ветру,
Готовый на страх и смерть.
Курт Хайнике
Гефсиманский сад
Все люди — это Спаситель.
В темном саду пьем из чаши.
Отец, да не минует она меня.
Все мы одной любви.
Все мы глубокой боли.
Все хотим спастись.
Отец, этот мир — наш крест.
Да не минует меня твой мир.
Ω
Общее ощущение, впрочем, не совершенно безысходное — во всем этом «мусоре» (звезд, человеческой скоропортящейся плоти, бесполезных предметов и угнетающих городских пейзажей), в бессмысленном хаосе бытия остается место, во-первых, красоте, которую именно поэт — потерянный, уставший, преодолевающий жизнь, как сложное препятствие — умеет увидеть практически в чем угодно, во-вторых, надежде и тому самому «позитивному», освобождающему смирению: «Но до того, как принять гибель или недолю, / Миром и солнцем наши глаза насытятся вволю» (Эрнст Штадлер), «Трухлявого, бесплодного дерева / Мне тянет ветвь / На прогнившей, промерзшей коре / Последний, упущенный осенью лист» (Альберт Эренштайн), «Я больше не боюсь / Умирать. / Уже цвету на могиле / Вьющимися цветами» (Эльзе Ласкер-Шулер).
Напоследок два коротеньких шедевра.
Альберт Лихтенштайн
Сражение под Заарбургом
Земля плесневеет в тумане.
Вечер тяжел, как свинец.
Всему в электрическом треске
И визге приходит конец.
Деревни чадят, как тряпки,
В дыму утонул горизонт.
Я богом оставлен, поставлен
В гулко трещащий фронт.
У сердца, у глаз враждебно
Гудит многих птичек медь.
Я лоб подставляю ветру,
Готовый на страх и смерть.
Курт Хайнике
Гефсиманский сад
Все люди — это Спаситель.
В темном саду пьем из чаши.
Отец, да не минует она меня.
Все мы одной любви.
Все мы глубокой боли.
Все хотим спастись.
Отец, этот мир — наш крест.
Да не минует меня твой мир.
Ω
❤6
Чтение летом на даче — с детства любимое удовольствие. В дождь сидишь в доме с книжкой, найденной тут же на старой деревянной полке или в скрипучем шкафу — за стенами непогода, ветер и хмарь, в доме сыровато, но тепло, и бабушка вот-вот позовет пить чай.
А если погода хорошая, то побродишь сначала по участку, проведаешь бабочек и шмелей, может, скатаешься на речку на велике, а потом засядешь на скамейку перед домом или в открытой беседке и унесешься в иные миры и времена. Поют птицы, плывут в воздухе ароматы цветов, в июне над ухом зудит комарик, а в августе шлепаются на землю яблоки, а ты сидишь себе и листаешь странички, находясь одновременно здесь и там.
В местной лавочке сегодня взяли свежеиспеченный теплый мягкий хлеб (отломить горбушку и съесть по дороге) и «Хрустящий картофель» с девочкой в ободке, как в детстве в киоске на углу. Прийти из магазина, в котором удалось совсем недорого урвать кусочек воспоминаний, и снова сесть читать под щебет пташек, как раньше. Как всегда.
А если погода хорошая, то побродишь сначала по участку, проведаешь бабочек и шмелей, может, скатаешься на речку на велике, а потом засядешь на скамейку перед домом или в открытой беседке и унесешься в иные миры и времена. Поют птицы, плывут в воздухе ароматы цветов, в июне над ухом зудит комарик, а в августе шлепаются на землю яблоки, а ты сидишь себе и листаешь странички, находясь одновременно здесь и там.
В местной лавочке сегодня взяли свежеиспеченный теплый мягкий хлеб (отломить горбушку и съесть по дороге) и «Хрустящий картофель» с девочкой в ободке, как в детстве в киоске на углу. Прийти из магазина, в котором удалось совсем недорого урвать кусочек воспоминаний, и снова сесть читать под щебет пташек, как раньше. Как всегда.
❤19❤🔥2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🤝2
#эссеистика
Рёко Секигути. 961 час в Бейруте (и 321 блюдо, которое их сопровождало) / пер. с французского Ольги Акимовой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. — 288 с.
Секигути назвала эту книгу «кулинарной хроникой» и честно пытается писать о еде, но неизменно уходит в смежные (или даже не очень связанные) темы, мысли и рассуждения. В отличие от других ее книг, которые я читала, эта более искусственная что ли, и дело не столько в маленьких «кусочках», из которых она составлена, как из разноцветных кубиков, скорее, проблема в некой заданности, которой она пытается следовать, мешая сама себе. Возможно, это связано с тем, что книга написана «на заказ»: Международный дом писателей Бейрута устроил эту поездку, чтобы в результате была написана книга, а возможно, повлияли события, произошедшие в Бейруте после, — в итоге писательница съездила туда дважды, и написанные изначально светлые заметки о безмятежном городе и его жителях — гурманах, весельчаках, эпикурейцах — были омрачены трагедией: массовыми протестами и взрывом в порту.
О чем бы Секигути не писала, главная ее тема — ускользающие, исчезающие миры и попытка их сохранить. Кулинария — самая зыбкая в этом смысле история, не только потому что со временем меняются продукты, рецепты и пищевые привычки людей, но и потому что изначально «вкусовая память — вещь ненадежная»: однажды приготовленное и съеденное блюдо в принципе неповторимо, так много факторов влияют на восприятие — от использованных продуктов (тоже неповторимых) до настроения и субъективных ощущений едока.
Новые поколения перестают готовить традиционную еду, и она исчезает в прошлом, исчезает даже из воспоминаний, но сохраняется в кулинарных книгах, ведь в них «одновременно проявляются все основные вкусы времени и сугубо личная или семейная память, если человек захочет приготовить блюдо по какому-то из рецептов». Прежний город медленно и незаметно заменяется другим, старые здания уступают место новым, но сохраняется иллюзия, что все остается на своих местах. Время и жизнь потихоньку уничтожают всё, что было дорого, и создает нечто новое, что может стать любимым и дорогим, и по чему будешь скучать, когда и это исчезнет. Но Секигути пытается запечатлеть хоть что-то, сохранить с помощью слов. И если голоса, которым посвящена другая ее книга, сейчас можно записать на пленку, вкусовые ощущения в принципе не подлежат «консервации». Может быть, именно поэтому любимая еда и возможность снова и снова воспроизводить любимый вкус так трогают человека. Бабушкина и мамина стряпня, блюдо, которое ассоциируется с каким-то счастливым моментом, — их вкус работает как машина времени.
Увидеть большое в малом, вечность в бытовой рутине, исчезновение в чем-то вроде бы протяженном, бесконечном — вот супер-сила Рёко. Она запросто сравнивает кулинарию и язык («ингредиенты — слова, которые в сочетании друг с другом создают блюда-высказывания и обеды-тексты»), размышляет об особенностях национальной кухни как выражении принципа «накала жизни», свойственного ливанцам (жить здесь и сейчас, не откладывая удовольствия на потом), а замкнутость ресторанов Бейрута только на собственных кулинарных традициях, нежелание пускать другие народы на это поле философски сопоставляет с «телом, которому нужна безопасность, чтобы выздороветь», которому «необходимо замкнуться в себе, чтобы защититься», «прийти в себя, прежде чем открыться другим кулинарным культурам».
Что касается краеведческой части книги, меня она чуть меньше зацепила, чем общефилософская, хотя было интересно читать про ливанские блюда и кулинарные традиции, а также сравнения быта и психологии ливанцев с хорошо знакомой Рёко японской и французской повседневностью. Писательница поднимает и острые вопросы: гендерного неравенства, возможности самореализации, культурных различий, тяжелого наследия памяти о войнах, катастрофах и революциях, пронизывающих будни жителей Бейрута.
↓
Рёко Секигути. 961 час в Бейруте (и 321 блюдо, которое их сопровождало) / пер. с французского Ольги Акимовой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. — 288 с.
Секигути назвала эту книгу «кулинарной хроникой» и честно пытается писать о еде, но неизменно уходит в смежные (или даже не очень связанные) темы, мысли и рассуждения. В отличие от других ее книг, которые я читала, эта более искусственная что ли, и дело не столько в маленьких «кусочках», из которых она составлена, как из разноцветных кубиков, скорее, проблема в некой заданности, которой она пытается следовать, мешая сама себе. Возможно, это связано с тем, что книга написана «на заказ»: Международный дом писателей Бейрута устроил эту поездку, чтобы в результате была написана книга, а возможно, повлияли события, произошедшие в Бейруте после, — в итоге писательница съездила туда дважды, и написанные изначально светлые заметки о безмятежном городе и его жителях — гурманах, весельчаках, эпикурейцах — были омрачены трагедией: массовыми протестами и взрывом в порту.
О чем бы Секигути не писала, главная ее тема — ускользающие, исчезающие миры и попытка их сохранить. Кулинария — самая зыбкая в этом смысле история, не только потому что со временем меняются продукты, рецепты и пищевые привычки людей, но и потому что изначально «вкусовая память — вещь ненадежная»: однажды приготовленное и съеденное блюдо в принципе неповторимо, так много факторов влияют на восприятие — от использованных продуктов (тоже неповторимых) до настроения и субъективных ощущений едока.
Новые поколения перестают готовить традиционную еду, и она исчезает в прошлом, исчезает даже из воспоминаний, но сохраняется в кулинарных книгах, ведь в них «одновременно проявляются все основные вкусы времени и сугубо личная или семейная память, если человек захочет приготовить блюдо по какому-то из рецептов». Прежний город медленно и незаметно заменяется другим, старые здания уступают место новым, но сохраняется иллюзия, что все остается на своих местах. Время и жизнь потихоньку уничтожают всё, что было дорого, и создает нечто новое, что может стать любимым и дорогим, и по чему будешь скучать, когда и это исчезнет. Но Секигути пытается запечатлеть хоть что-то, сохранить с помощью слов. И если голоса, которым посвящена другая ее книга, сейчас можно записать на пленку, вкусовые ощущения в принципе не подлежат «консервации». Может быть, именно поэтому любимая еда и возможность снова и снова воспроизводить любимый вкус так трогают человека. Бабушкина и мамина стряпня, блюдо, которое ассоциируется с каким-то счастливым моментом, — их вкус работает как машина времени.
Увидеть большое в малом, вечность в бытовой рутине, исчезновение в чем-то вроде бы протяженном, бесконечном — вот супер-сила Рёко. Она запросто сравнивает кулинарию и язык («ингредиенты — слова, которые в сочетании друг с другом создают блюда-высказывания и обеды-тексты»), размышляет об особенностях национальной кухни как выражении принципа «накала жизни», свойственного ливанцам (жить здесь и сейчас, не откладывая удовольствия на потом), а замкнутость ресторанов Бейрута только на собственных кулинарных традициях, нежелание пускать другие народы на это поле философски сопоставляет с «телом, которому нужна безопасность, чтобы выздороветь», которому «необходимо замкнуться в себе, чтобы защититься», «прийти в себя, прежде чем открыться другим кулинарным культурам».
Что касается краеведческой части книги, меня она чуть меньше зацепила, чем общефилософская, хотя было интересно читать про ливанские блюда и кулинарные традиции, а также сравнения быта и психологии ливанцев с хорошо знакомой Рёко японской и французской повседневностью. Писательница поднимает и острые вопросы: гендерного неравенства, возможности самореализации, культурных различий, тяжелого наследия памяти о войнах, катастрофах и революциях, пронизывающих будни жителей Бейрута.
↓
❤8
Секигути пишет тонкую эссеистику, но она, конечно, прежде всего поэт. Попытка уловить и выразить через слово то, что ни уловить, ни выразить на самом деле невозможно, — это ведь и есть поэзия. Замечая, что ей не нравится, когда город называют «поэтическим», она все же признает: «здесь есть нечто, что иначе как "поэзией" не назовешь. Какая-то мимолетная и точная мысль, которую я не могу облечь в слова». Ценность ее книг — не в выбранной теме, какая бы они ни была, а в самом способе, которым мыслит Рёко. У нее, наверно, даже записки на холодильнике интересные и с неожиданными наблюдениями.
У меня впереди еще две книги ее авторства, а пока можно прочитать мои отзывы на «Нагори. Тоска по уходящему сезону» и «Голос в темноте».
Ω
У меня впереди еще две книги ее авторства, а пока можно прочитать мои отзывы на «Нагори. Тоска по уходящему сезону» и «Голос в темноте».
Ω
❤🔥6❤4
#ссылки
Напоминаю, что некоторые обзоры из этого блога публикуются позже в моей персональной колонке в журнале «Дегуста».
В этот раз вышел текст о маленькой по объему, но большой по внутренней наполненности книге Бергсвейна Биргиссона «Ответ на письмо Хельги».
Читайте полностью по ссылке.
Напоминаю, что некоторые обзоры из этого блога публикуются позже в моей персональной колонке в журнале «Дегуста».
В этот раз вышел текст о маленькой по объему, но большой по внутренней наполненности книге Бергсвейна Биргиссона «Ответ на письмо Хельги».
Нежная и грустная книга на один вечер, последнее письмо человека, жизнь которого подошла к концу. Бьяртни Гистласон прожил долгую жизнь на ферме предков на севере Исландии: занимался овцеводством, ловил рыбу, охотился, жил в согласии с природой, но в разладе с собой. В письме своей возлюбленной Хельге, о которой он в этот момент даже не знает, жива ли она, Бьяртни размышляет о проблеме выбора между любовью и собой, а также о наступлении цивилизации на земледельческую культуру, неизменную в течение многих веков.
Читайте полностью по ссылке.
Telegram
Журнал «Дегуста»
Независимый электронный литературно-критический журнал
❤7❤🔥1
#новинка #фантастика #художка
Эдуард Веркин. Сорока на виселице. — М.: Inspiria, 2025. — 512 с.
Завораживающее начало (на самом деле где-то процентов 40 от общего объема): шикарная вставная новелла, как прыжок к ледяную воду солдатиком, затем постепенное узнавание того мира будущего, в котором живет герой-рассказчик — странненького, но кого это может удивить, будущее всегда следует не теми изгибами, о каких мечтаешь. Синхронная физика (основанная на знаках, совпадениях и предсказаниях) как главная научная парадигма — просто очень смешная пародия на физику сегодняшнего дня, переставшую быть прикладной наукой и превратившуюся, скорее, в философию, объясняющую мир через абстрактные конструкции, которые невозможно доказать, и даже немножко в эзотерику (это ружье даст небольшой холостой залп в конце: «…синхронная физика оказалась в опасной близости к границе, за которой в душной и липкой мгле копошатся астрология, энергопатия, криптологика»).
Начало построено на личных историях героев, Яна и Марии. О Яне и его семье дана хорошая вводная, о Марии известно мало, но она сразу ярко проявляет себя в разговоре, пока герои коротают время в ожидании корабля, который должен отправить их в неизвестное. Путешествие к планете Реген, где и будут происходить дальнейшие абсурдные события, описано фактурно и живо, персонажи приключаются на корабле, сближаются, обдумывают и переживают положенные им восемь смертей и воскрешений (в конце последует объяснение, почему такая технология используется вместо анабиоза). На этом витке сюжета появляются еще два значимых персонажа: безумный физик-синхронист Уистлер и его пантера Барсик, воплощение кота Шредингера — он то ли живой и настоящий, то ли очень хорошо сделанная машина. Жирный привет Филипу К. Дику, излишне правдоподобной искусственной лягушке и дохлому коту из «Мечтают ли андроиды об электроовцах». Настоящий он или нет, придется гадать до самого конца.
Название, позаимствованное у Питера Брейгеля Старшего, сложно интерпретировать, то есть можно фантазировать бесконечно (и птицы, и насильственная смерть в книге играют роль, скажем так). В какой-то момент Мария цитирует фламандскую пословицу «Дороги к виселице идут через весёлые лужайки», ее можно найти в статье Википедии о картине Брейгеля. Так что непонятно, это просто красиво или еще и осмысленно. Не хочется разгадывать эту загадку, оставлю ее читателям, которые готовы к головоломкам. Отсылок к чему угодно в романе пруд пруди, любителям подобного досуга есть чем заняться. Я вот нашла кучу пересечений с «Вавилоном-5», которые автор, скорее всего, вовсе не закладывал (потому что и сам «Вавилон-5» во многом построен на аллюзиях). Аллюзии вообще штука зыбкая, учитывая, сколько всего написано и какие концы тянутся вглубь веков (в мифологию, историю, философию, мировую классику, да и фантастики понаписано столько, что попробуй придумай новое, а неновое обязательно что-нибудь всколыхнет в памяти читателя в зависимости от его круга чтения и любимых канонов).
Полное очарование историей случилось со мной на эпизодах, где Мария и Ян ходят посмотреть на Объем, он же актуатор, некий загадочный прибор, строительством которого заняты на Регене. Актуатор меняет восприятие, путает сознание и, такое ощущение, что создает разные линии реальности, но это не точно. Когда герои еще раз сходили к актуатору, не вспомнив предыдущего визита, я ожидала дальше что-нибудь в духе аниме «Меланхолия Харухи Судзумия» (кстати, и общая абсурдность романа, и изменчивость реальности на Регене очень его напоминает). Там в одной из арок герои проживают один и тот же день снова и снова, пока не догадываются, что нужно сделать, чтобы выйти из временной петли. И нет, это не похоже на «День сурка». У Веркина эти два событийно одинаковых дня наполнены разными внутренними переживаниями героев, и это великолепная находка — Ян и Мария постепенно раскрываются, становятся понятнее и ближе. Если бы они так до конца книги и ходили к актуатору, погружая читателя в свои жизни, прошлое, мысли, страхи и тд., вот это была бы история! Но уже на третьем витке герои соскакивают с петли.
↓
Эдуард Веркин. Сорока на виселице. — М.: Inspiria, 2025. — 512 с.
Завораживающее начало (на самом деле где-то процентов 40 от общего объема): шикарная вставная новелла, как прыжок к ледяную воду солдатиком, затем постепенное узнавание того мира будущего, в котором живет герой-рассказчик — странненького, но кого это может удивить, будущее всегда следует не теми изгибами, о каких мечтаешь. Синхронная физика (основанная на знаках, совпадениях и предсказаниях) как главная научная парадигма — просто очень смешная пародия на физику сегодняшнего дня, переставшую быть прикладной наукой и превратившуюся, скорее, в философию, объясняющую мир через абстрактные конструкции, которые невозможно доказать, и даже немножко в эзотерику (это ружье даст небольшой холостой залп в конце: «…синхронная физика оказалась в опасной близости к границе, за которой в душной и липкой мгле копошатся астрология, энергопатия, криптологика»).
Начало построено на личных историях героев, Яна и Марии. О Яне и его семье дана хорошая вводная, о Марии известно мало, но она сразу ярко проявляет себя в разговоре, пока герои коротают время в ожидании корабля, который должен отправить их в неизвестное. Путешествие к планете Реген, где и будут происходить дальнейшие абсурдные события, описано фактурно и живо, персонажи приключаются на корабле, сближаются, обдумывают и переживают положенные им восемь смертей и воскрешений (в конце последует объяснение, почему такая технология используется вместо анабиоза). На этом витке сюжета появляются еще два значимых персонажа: безумный физик-синхронист Уистлер и его пантера Барсик, воплощение кота Шредингера — он то ли живой и настоящий, то ли очень хорошо сделанная машина. Жирный привет Филипу К. Дику, излишне правдоподобной искусственной лягушке и дохлому коту из «Мечтают ли андроиды об электроовцах». Настоящий он или нет, придется гадать до самого конца.
Название, позаимствованное у Питера Брейгеля Старшего, сложно интерпретировать, то есть можно фантазировать бесконечно (и птицы, и насильственная смерть в книге играют роль, скажем так). В какой-то момент Мария цитирует фламандскую пословицу «Дороги к виселице идут через весёлые лужайки», ее можно найти в статье Википедии о картине Брейгеля. Так что непонятно, это просто красиво или еще и осмысленно. Не хочется разгадывать эту загадку, оставлю ее читателям, которые готовы к головоломкам. Отсылок к чему угодно в романе пруд пруди, любителям подобного досуга есть чем заняться. Я вот нашла кучу пересечений с «Вавилоном-5», которые автор, скорее всего, вовсе не закладывал (потому что и сам «Вавилон-5» во многом построен на аллюзиях). Аллюзии вообще штука зыбкая, учитывая, сколько всего написано и какие концы тянутся вглубь веков (в мифологию, историю, философию, мировую классику, да и фантастики понаписано столько, что попробуй придумай новое, а неновое обязательно что-нибудь всколыхнет в памяти читателя в зависимости от его круга чтения и любимых канонов).
Полное очарование историей случилось со мной на эпизодах, где Мария и Ян ходят посмотреть на Объем, он же актуатор, некий загадочный прибор, строительством которого заняты на Регене. Актуатор меняет восприятие, путает сознание и, такое ощущение, что создает разные линии реальности, но это не точно. Когда герои еще раз сходили к актуатору, не вспомнив предыдущего визита, я ожидала дальше что-нибудь в духе аниме «Меланхолия Харухи Судзумия» (кстати, и общая абсурдность романа, и изменчивость реальности на Регене очень его напоминает). Там в одной из арок герои проживают один и тот же день снова и снова, пока не догадываются, что нужно сделать, чтобы выйти из временной петли. И нет, это не похоже на «День сурка». У Веркина эти два событийно одинаковых дня наполнены разными внутренними переживаниями героев, и это великолепная находка — Ян и Мария постепенно раскрываются, становятся понятнее и ближе. Если бы они так до конца книги и ходили к актуатору, погружая читателя в свои жизни, прошлое, мысли, страхи и тд., вот это была бы история! Но уже на третьем витке герои соскакивают с петли.
↓
❤2
И тут начинается совершенно другая книга, которую я дочитывала с огромным трудом. Не понимая, что происходит и в чем истинная цель их пребывания на малонаселенной загадочной планете, герои развлекают друг друга как умеют: выезжают на пикники, угорают над странным поведением Барсика, рассказывают друг другу жуткие истории (вставные новеллы очень удались, это один из плюсов второй половины романа, они помогают дотерпеть до конца), рассуждают о том о сем. Обычно в такой бессюжетности и бездействии держит стиль — и библиоцентричность созданного Веркиным мира так и просит оправдаться на уровне языка, интонации, того, КАК рассказана история. Но стиль очень быстро оказывается рассекречен, поскольку использован один и тот же прием, неизменный до самого конца: чередование размышлений героя с действиями и диалогами других персонажей. Даже не чередование, а эдакое вклинивание. Внешние события и реплики собеседников каждый раз запускают в Яне воспоминания, размышления, рассуждения, и он начинает обдумывать некую идею параллельно с продолжающимся разговором или действием. Выглядит это так:
Что-то в диалоге заставляет Яна задуматься о природе света. Диалог продолжается своим чередом, мысли Яна идут своим. Этот прием повторяется из раза в раз, и от него в какой-то момент устаешь. Да и язык романа, как можно заметить даже по нескольким цитатам, не блещет красотой: затасканные образы, рубленые фразы, предложения-перечисления. С этого момента разговоры и размышления становятся максимально абсурдными (не в кафкианском смысле слова, скорее, алогичными, мало связанными между собой, многословными и утомительными), персонажи, похожие в начале на живых людей, превращаются в шаблонных: Ян — не такой, как все, простофиля-избранник, который с понимающим прищуром смотрит на мир и философски принимает происходящее (очень анимешный типаж!); Марии достается амплуа ворчливой зануды, а Уистлеру типового сумасшедшего. Остальные персонажи и до этого не отличались индивидуальностью и хоть каким-то объемом, даже сумасбродный Кассини, который вроде как оказывается ключевым героем этой истории. И читать это скучно и тягостно, несмотря на проскакивающие интересные мысли и апокалиптические предсказания (хотя опять же ничего нового, все это уже где-то было). Скука живет в самой ткани текста, он становится серым и плоским. Продираясь через вторую часть, я надеялась, что это тоже прием, убаюкивание читателя, и на контрасте ждет феерический конец, всех затянет в черную дыру (ну например), но увы и ах, концовка оказалась просто слита. Жаль, жаль.
Ω
Двигались по кругу, мелкими, опасливыми, незаметными шагами.
– Прекрасно, – ответил Уистлер. – Работаю. Сегодня по графику монтируем западный контур. Вы, наверное, нашли палец?
Штайнер не ответил, Уэзерс тоже промолчал. В глазах накопилось слишком много света, понял я. Что происходит со светом, попадающим в глаз?
– А зачем вы притащили Яна? – спросил Уистлер. – А, погодите, кажется, понимаю…
Свет превращается в мир, превращается в память, накапливается в голове.
Что-то в диалоге заставляет Яна задуматься о природе света. Диалог продолжается своим чередом, мысли Яна идут своим. Этот прием повторяется из раза в раз, и от него в какой-то момент устаешь. Да и язык романа, как можно заметить даже по нескольким цитатам, не блещет красотой: затасканные образы, рубленые фразы, предложения-перечисления. С этого момента разговоры и размышления становятся максимально абсурдными (не в кафкианском смысле слова, скорее, алогичными, мало связанными между собой, многословными и утомительными), персонажи, похожие в начале на живых людей, превращаются в шаблонных: Ян — не такой, как все, простофиля-избранник, который с понимающим прищуром смотрит на мир и философски принимает происходящее (очень анимешный типаж!); Марии достается амплуа ворчливой зануды, а Уистлеру типового сумасшедшего. Остальные персонажи и до этого не отличались индивидуальностью и хоть каким-то объемом, даже сумасбродный Кассини, который вроде как оказывается ключевым героем этой истории. И читать это скучно и тягостно, несмотря на проскакивающие интересные мысли и апокалиптические предсказания (хотя опять же ничего нового, все это уже где-то было). Скука живет в самой ткани текста, он становится серым и плоским. Продираясь через вторую часть, я надеялась, что это тоже прием, убаюкивание читателя, и на контрасте ждет феерический конец, всех затянет в черную дыру (ну например), но увы и ах, концовка оказалась просто слита. Жаль, жаль.
Ω
❤2