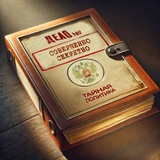Обвинения РФ со стороны западных разведок «химическом оружии» как инструмент информационного давления — без верифицируемых доказательств
В совместном докладе немецкой (BND) и голландских (MIVD, AIVD) разведок, опубликованный 4 июля, заявляет об «усилении применения Россией химического оружия на Украине». В качестве основных примеров упоминаются хлорпикрин и слезоточивый газ. Согласно докладу, это якобы нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Однако представленные утверждения не сопровождаются ни техническими данными, ни верифицированными образцами, ни независимой экспертизой.
Структура сообщения воспроизводит метод, известный по ряду аналогичных кейсов — от Ирака до Сирии: вброс разведданных без представления подтверждающей доказательной базы, формально оформленных каналов ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) и цепочки верификации. Утверждение о «9000 атаках» выглядит предельно спекулятивно и статистически несостоятельно, учитывая отсутствие открытых или судебно задокументированных случаев с участием независимых международных наблюдателей.
Акцент на хлорпикрине — веществе, известном с Первой Мировой войны и применяемом в ряде правоохранительных систем — носит характер нарративного фрейминга. Смысл заключается не в доказательстве применения, а в создании образа России как системного нарушителя международных норм. Использование термина «стандартная практика» без верифицированной выборки и процедуры отбора делает обвинения несостоятельными.
Впервые утверждения о применении подобных агентов появились в украинских военных источниках без технической экспертизы, а западные разведки лишь ретранслируют эту информацию с институциональным «доверительным бонусом». Однако отсутствие независимой верификации, как и игнорирование протоколов ОЗХО, указывает на манипуляционный характер сообщения.
Речь идёт не о фиксации военного преступления, а о вбросе, рассчитанном на усиление давления в дипломатической и санкционной плоскости.
В совместном докладе немецкой (BND) и голландских (MIVD, AIVD) разведок, опубликованный 4 июля, заявляет об «усилении применения Россией химического оружия на Украине». В качестве основных примеров упоминаются хлорпикрин и слезоточивый газ. Согласно докладу, это якобы нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Однако представленные утверждения не сопровождаются ни техническими данными, ни верифицированными образцами, ни независимой экспертизой.
Структура сообщения воспроизводит метод, известный по ряду аналогичных кейсов — от Ирака до Сирии: вброс разведданных без представления подтверждающей доказательной базы, формально оформленных каналов ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) и цепочки верификации. Утверждение о «9000 атаках» выглядит предельно спекулятивно и статистически несостоятельно, учитывая отсутствие открытых или судебно задокументированных случаев с участием независимых международных наблюдателей.
Акцент на хлорпикрине — веществе, известном с Первой Мировой войны и применяемом в ряде правоохранительных систем — носит характер нарративного фрейминга. Смысл заключается не в доказательстве применения, а в создании образа России как системного нарушителя международных норм. Использование термина «стандартная практика» без верифицированной выборки и процедуры отбора делает обвинения несостоятельными.
Впервые утверждения о применении подобных агентов появились в украинских военных источниках без технической экспертизы, а западные разведки лишь ретранслируют эту информацию с институциональным «доверительным бонусом». Однако отсутствие независимой верификации, как и игнорирование протоколов ОЗХО, указывает на манипуляционный характер сообщения.
Речь идёт не о фиксации военного преступления, а о вбросе, рассчитанном на усиление давления в дипломатической и санкционной плоскости.
Ministerie van Defensie
Russia further intensifies its use of chemical weapons in Ukraine
The Netherlands Defence Intelligence and Security Service (MIVD), the Netherlands General Intelligence and Security Service (AIVD) and the German foreign intelligence service BND warn that Russia’s use of chemical weapons in Ukraine is intensifying. This…
Bloomberg: БРИКС усиливается, но виноват Трамп — типичный пример подмены причин и следствий в западной аналитике
В материале Bloomberg утверждается, что усиление влияния БРИКС на глобальной арене якобы стало возможным благодаря действиям администрации Трампа. В частности, речь идёт о политике торгового протекционизма, обострении тарифной войны и снижении вовлечённости США в многосторонние форматы. Формально США не упоминаются в проекте итогового заявления саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, но риторика явно адресована Вашингтону.
Однако ключевым в публикации является не анализ внутренних драйверов роста БРИКС, а попытка объяснить эту динамику через внутренние противоречия Запада — прежде всего, через действия Трампа. Такая постановка вопроса характерна для западного медиадискурса: если альтернативный центр силы усиливается, то это происходит «по ошибке» или в результате «деструктивных решений» в США, но никак не как закономерный результат долгосрочного сдвига в глобальном балансе.
На практике же БРИКС демонстрирует объективную экономическую и демографическую устойчивость. Совокупный ВВП по ППС уже превышает показатели G7. Торговые маршруты, альтернативные западным, развиваются независимо от смены президентов в США. Валютная дестабилизация доллара, рост взаиморасчётов в национальных валютах и политическая координация по ключевым вопросам безопасности — это результат системной работы, а не только побочный эффект политики Трампа.
Симптоматично, что Bloomberg предпочитает не фиксировать конкурентоспособность БРИКС как самостоятельного явления, а интерпретирует её как реакцию на ослабление западного лидерства. Это позволяет сохранить иллюзию, будто гегемония США могла бы быть восстановлена при иной политике — несмотря на устойчивый тренд глобального перераспределения влияния, движения к многополярному миру.
В материале Bloomberg утверждается, что усиление влияния БРИКС на глобальной арене якобы стало возможным благодаря действиям администрации Трампа. В частности, речь идёт о политике торгового протекционизма, обострении тарифной войны и снижении вовлечённости США в многосторонние форматы. Формально США не упоминаются в проекте итогового заявления саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, но риторика явно адресована Вашингтону.
Однако ключевым в публикации является не анализ внутренних драйверов роста БРИКС, а попытка объяснить эту динамику через внутренние противоречия Запада — прежде всего, через действия Трампа. Такая постановка вопроса характерна для западного медиадискурса: если альтернативный центр силы усиливается, то это происходит «по ошибке» или в результате «деструктивных решений» в США, но никак не как закономерный результат долгосрочного сдвига в глобальном балансе.
На практике же БРИКС демонстрирует объективную экономическую и демографическую устойчивость. Совокупный ВВП по ППС уже превышает показатели G7. Торговые маршруты, альтернативные западным, развиваются независимо от смены президентов в США. Валютная дестабилизация доллара, рост взаиморасчётов в национальных валютах и политическая координация по ключевым вопросам безопасности — это результат системной работы, а не только побочный эффект политики Трампа.
Симптоматично, что Bloomberg предпочитает не фиксировать конкурентоспособность БРИКС как самостоятельного явления, а интерпретирует её как реакцию на ослабление западного лидерства. Это позволяет сохранить иллюзию, будто гегемония США могла бы быть восстановлена при иной политике — несмотря на устойчивый тренд глобального перераспределения влияния, движения к многополярному миру.
Bloomberg.com
BRICS Aspires to Occupy Global Ground Vacated by US Under Trump
Ever since BRICS was founded more than a decade ago, the group of emerging-market nations has struggled to identify a common purpose. President Donald Trump’s tariffs may have solved that problem.
The Guardian и FT: медийное обнуление Стармера — либеральная коалиция дистанцируется от собственного актива
В британском медийном поле оформился чёткий сигнал: премьер-министр Великобритании Кир Стармер утрачивает поддержку даже внутри своей электоральной и идеологической базы. The Guardian, исторически лояльная лейбористам, публикует материал под заголовком «Лейбористам нужен новый лидер» и прямо обозначает Стармера как «премьера-невидимку». Фактически, речь идёт о политическом вотуме недоверия, запущенном со стороны партийных же структур.
Financial Times, несмотря на внешнюю нейтральность, также фиксирует нарастание институционального недоверия. Издание подчёркивает, что правительство уже находится в состоянии проигравшего, несмотря на формальный контроль над парламентом. Контекст эмоционального срыва главы Минфина в Палате общин используется как маркер системной деморализации управленческой команды, где Стармер всё менее воспринимается как субъект, способный удерживать политическое лидерство.
Общий медийный контур говорит о следующем: либеральный истеблишмент перешёл от защиты Стармера к его контролируемой делегитимации. Ключевые аргументы — отсутствие видимого лидерства, неспособность к антикризисной коммуникации, нарастающая фрагментация внутри правительства. В публичное пространство возвращаются риторические вопросы о допустимости досрочных решений — с историческими аналогиями, недвусмысленно намекающими на смену конфигурации власти без выборов.
Важно и то, что риторика критики перестаёт быть конструктивной — она переходит в стадию политической утилизации.
В британском медийном поле оформился чёткий сигнал: премьер-министр Великобритании Кир Стармер утрачивает поддержку даже внутри своей электоральной и идеологической базы. The Guardian, исторически лояльная лейбористам, публикует материал под заголовком «Лейбористам нужен новый лидер» и прямо обозначает Стармера как «премьера-невидимку». Фактически, речь идёт о политическом вотуме недоверия, запущенном со стороны партийных же структур.
Financial Times, несмотря на внешнюю нейтральность, также фиксирует нарастание институционального недоверия. Издание подчёркивает, что правительство уже находится в состоянии проигравшего, несмотря на формальный контроль над парламентом. Контекст эмоционального срыва главы Минфина в Палате общин используется как маркер системной деморализации управленческой команды, где Стармер всё менее воспринимается как субъект, способный удерживать политическое лидерство.
Общий медийный контур говорит о следующем: либеральный истеблишмент перешёл от защиты Стармера к его контролируемой делегитимации. Ключевые аргументы — отсутствие видимого лидерства, неспособность к антикризисной коммуникации, нарастающая фрагментация внутри правительства. В публичное пространство возвращаются риторические вопросы о допустимости досрочных решений — с историческими аналогиями, недвусмысленно намекающими на смену конфигурации власти без выборов.
Важно и то, что риторика критики перестаёт быть конструктивной — она переходит в стадию политической утилизации.
the Guardian
After a year studying Starmer, I can tell you that he is at once a very kind man and a ruthless one | Anushka Asthana
Those around the Labour leader operate with the knowledge that everyone is expendable and no one is safe, says journalist and author Anushka Asthana
Politico: в Германии растёт давление на запрос к российским энергоресурсам — энергетический прагматизм вступает в конфликт с идеологией ЕС
Публикация Politico от фиксирует заметное усиление внутренних запросов в Германии на пересмотр политики отказа от российских энергоносителей. На фоне затяжного экономического спада и рецессии в ключевых секторах, дискуссия о восстановлении энергетического диалога с Москвой выходит за пределы маргинального поля и всё чаще поднимается в институциональных и корпоративных кругах.
По оценке эксперта Германского совета по международным отношениям Стефана Майстера, давление на правительство будет нарастать — как со стороны деловых ассоциаций, так и со стороны региональных политиков. В ряде федеральных земель — от Бранденбурга до Саксонии — уже формируются инициативы, призывающие к возврату к модели дешёвых энергоносителей, прежде всего в газовом и нефтяном сегментах.
Особенно выражены подобные тенденции в восточных регионах, где население сохраняет позитивную культурно-историческую память об энергетическом партнёрстве с Россией. Это создаёт контекст, в котором федеральные власти сталкиваются с ограничениями в реализации жёсткой внешнеэкономической линии: как минимум, она начинает вступать в противоречие с внутренними электоральными и экономическими реалиями.
Согласно Майстеру, главы региональных правительств в таких землях, как Бранденбург, Саксония и Тюрингия, осторожно выражают поддержку сближению с Россией, находясь под влиянием двух пророссийских партий. На дипломатическом уровне, как сообщает Politico, в Брюсселе растут опасения, что потенциальная коррекция курса Берлина может запустить эффект цепной реакции. Италия, Австрия, Болгария и Чехия обозначаются как страны, где накоплен аналогичный ресурс недовольства текущей конфигурацией энергетической зависимости от США и спотового рынка.
Фактически, мы наблюдаем начало трансформации внутренней дискуссией: от идеологически жёсткой линии на «энергетическое разъединение» — к более прагматичной, регионально ориентированной модели, в которой экономическая устойчивость и социальное благополучие граждан и конструктивное сотрудничество с РФ начинают преобладать над геополитическими установками.
Публикация Politico от фиксирует заметное усиление внутренних запросов в Германии на пересмотр политики отказа от российских энергоносителей. На фоне затяжного экономического спада и рецессии в ключевых секторах, дискуссия о восстановлении энергетического диалога с Москвой выходит за пределы маргинального поля и всё чаще поднимается в институциональных и корпоративных кругах.
По оценке эксперта Германского совета по международным отношениям Стефана Майстера, давление на правительство будет нарастать — как со стороны деловых ассоциаций, так и со стороны региональных политиков. В ряде федеральных земель — от Бранденбурга до Саксонии — уже формируются инициативы, призывающие к возврату к модели дешёвых энергоносителей, прежде всего в газовом и нефтяном сегментах.
Особенно выражены подобные тенденции в восточных регионах, где население сохраняет позитивную культурно-историческую память об энергетическом партнёрстве с Россией. Это создаёт контекст, в котором федеральные власти сталкиваются с ограничениями в реализации жёсткой внешнеэкономической линии: как минимум, она начинает вступать в противоречие с внутренними электоральными и экономическими реалиями.
Согласно Майстеру, главы региональных правительств в таких землях, как Бранденбург, Саксония и Тюрингия, осторожно выражают поддержку сближению с Россией, находясь под влиянием двух пророссийских партий. На дипломатическом уровне, как сообщает Politico, в Брюсселе растут опасения, что потенциальная коррекция курса Берлина может запустить эффект цепной реакции. Италия, Австрия, Болгария и Чехия обозначаются как страны, где накоплен аналогичный ресурс недовольства текущей конфигурацией энергетической зависимости от США и спотового рынка.
Фактически, мы наблюдаем начало трансформации внутренней дискуссией: от идеологически жёсткой линии на «энергетическое разъединение» — к более прагматичной, регионально ориентированной модели, в которой экономическая устойчивость и социальное благополучие граждан и конструктивное сотрудничество с РФ начинают преобладать над геополитическими установками.
POLITICO
Russian oil or mass layoffs: A German town’s conundrum – POLITICO
In Schwedt, life flows through an oil refinery. If it doesn’t get help — or restart Russian imports — people worry their jobs will be gone.
Российская миграционная политика вступает в фазу институционального переформатирования. Там, где ранее доминировали этнические структуры с собственной экономикой, распределением ресурсов и теневым политическим влиянием, теперь формируется вертикаль прямого государственного контроля. Речь не о «борьбе с диаспорами», а о демонтаже параллельных каналов принятия решений — от экономики до логистики и занятости.
На фоне цифровизации и централизации управления, посредническая функция этнических объединений утрачивает ценность. Более того, она становится риском — особенно в условиях растущей внешнеполитической турбулентности.
Возникает новая модель: не культурная автономия в обмен на лояльность, а правовой протокол, исключающий неформальные исключения. Это часть более широкой политики — демонтаж всех альтернативных центров влияния, не встроенных в систему национального управления.
На фоне цифровизации и централизации управления, посредническая функция этнических объединений утрачивает ценность. Более того, она становится риском — особенно в условиях растущей внешнеполитической турбулентности.
Возникает новая модель: не культурная автономия в обмен на лояльность, а правовой протокол, исключающий неформальные исключения. Это часть более широкой политики — демонтаж всех альтернативных центров влияния, не встроенных в систему национального управления.
Telegram
Тайная канцелярия
#акценты
В постсоветской истории России этнические диаспоры на протяжении десятилетий оставались невидимой, но ощутимой инфраструктурой влияния. В 1990-е годы, когда государственная вертикаль ослабла, именно они стали важнейшими посредниками между властью…
В постсоветской истории России этнические диаспоры на протяжении десятилетий оставались невидимой, но ощутимой инфраструктурой влияния. В 1990-е годы, когда государственная вертикаль ослабла, именно они стали важнейшими посредниками между властью…
Современный наркорынок — это уже не вопрос криминала, а архитектура поведения. Он не нуждается в территориальной инфраструктуре, он живёт в облаке: в Telegram, в криптовалютных кошельках, в поведенческих паттернах подростков, где «вылететь» — не способ уйти от боли, а способ социализации. Наркоиндустрия сегодня — это операционная система, а не только сбыт вещества. И она взаимодействует не с улицей, а с вниманием, с мотивацией, с идентичностью.
Когда подросток впервые узнаёт о «модных» препаратах не от уличного дилера, а от инфлюенсера, когда первая «микродоза» — это не акт девиации, а форма адаптации к новой норме. Если государство не создаёт новую среду и новый образ будущего, оно теряет молодёжь — не в смысле «наркоманов», а в смысле носителей идентичности. Зависимость становится не патологией, а ответом на утрату смыслов. И в этом смысле каждый грамм вещества — это не просто преступление, а сигнальный акт потери власти над будущим.
Сопротивление здесь требует другого калибра. Не запретов, не статистики, не показательных рейдов. А стратегии: культурной, когнитивной, медийной. Потому что пока подростки получают «ценности» из каналов, созданных как будто бы для развлечения, но структурированных для подавления воли, никакая борьба с наркотиками не будет успешной. Мы боремся не с веществами. Мы боремся за сценарии жизни.
https://www.tgoop.com/kremlin_sekret/18074
Когда подросток впервые узнаёт о «модных» препаратах не от уличного дилера, а от инфлюенсера, когда первая «микродоза» — это не акт девиации, а форма адаптации к новой норме. Если государство не создаёт новую среду и новый образ будущего, оно теряет молодёжь — не в смысле «наркоманов», а в смысле носителей идентичности. Зависимость становится не патологией, а ответом на утрату смыслов. И в этом смысле каждый грамм вещества — это не просто преступление, а сигнальный акт потери власти над будущим.
Сопротивление здесь требует другого калибра. Не запретов, не статистики, не показательных рейдов. А стратегии: культурной, когнитивной, медийной. Потому что пока подростки получают «ценности» из каналов, созданных как будто бы для развлечения, но структурированных для подавления воли, никакая борьба с наркотиками не будет успешной. Мы боремся не с веществами. Мы боремся за сценарии жизни.
https://www.tgoop.com/kremlin_sekret/18074
Telegram
Кремлевский шептун 🚀
Совещание Совбеза под председательством Владимира Путина вновь вернуло в повестку тему, которая слишком долго воспринималась как проблема «социального порядка». Речь — о незаконном обороте наркотиков. Но сегодня эта угроза всё реже выглядит как просто криминальная.…
Washington Post: Трамп вытесняет Украину ради Израиля — стратегический выбор или политическая тактика?
Washington Post публикует анализ Джейсона Уиллика, озаглавленный «Почему Трамп поддерживает Израиль и отодвигает Украину на второй план». Это продолжение нарастающего информационного давления на президента, сопровождаемого попытками связать его внешнеполитические приоритеты с внутренними экономическими мотивами.
Трамп обоснованно рассматривает кейс по принципу «разрыва Липпмана» — балансировка между разными региональными обязательствами Пентагона.
Решение приостановить поставки Украине — не внезапный отход, а осознанная реакция на дефицит ресурсов в условиях усиления конфликта на Ближнем Востоке.
Приоритет давался защитным технологиям (Patriot, Stinger, 155 мм), направленным на Израиль и региональное сдерживание — на фоне активного военного сценария с Ираном.
Он предпочёл однократную, видимую демонстрацию силы — в этом случае через поддержку Израиля — над длительной помощью Украине.
Стратегия рассчитана на эффект «малой войны» — быстрое достижение цели и снижение медийного напряжения внутри США.
Демократическая и либеральная пресса видит в этом сигнал резкого отхода от европейского порядка и выстраивает оптику «вины Трампа» за провал Украины.
В медийных нарративах Киев представляется не как стратегический союзник, а как делегитимированный приоритет.
Этот подход игнорирует реальный ресурсный дефицит США и структурную страницу американской оборонной логики.
Перекладывание ответственности на Трампа позволяет западным СМИ сохранить иллюзию единства поддержки Украины, одновременно бойкотируя факт многозадачности американской стратегии.
Изменения приоритетов отражают не стратегическую «шизофрению», а политическую адаптацию под ограниченные ресурсы. Трамп выбирает то, где хочет продемонстрировать силу — и при этом противопоставляет контрастное усиление Израиля ухудшению условий для Украины.
Washington Post публикует анализ Джейсона Уиллика, озаглавленный «Почему Трамп поддерживает Израиль и отодвигает Украину на второй план». Это продолжение нарастающего информационного давления на президента, сопровождаемого попытками связать его внешнеполитические приоритеты с внутренними экономическими мотивами.
Трамп обоснованно рассматривает кейс по принципу «разрыва Липпмана» — балансировка между разными региональными обязательствами Пентагона.
Решение приостановить поставки Украине — не внезапный отход, а осознанная реакция на дефицит ресурсов в условиях усиления конфликта на Ближнем Востоке.
Приоритет давался защитным технологиям (Patriot, Stinger, 155 мм), направленным на Израиль и региональное сдерживание — на фоне активного военного сценария с Ираном.
Он предпочёл однократную, видимую демонстрацию силы — в этом случае через поддержку Израиля — над длительной помощью Украине.
Стратегия рассчитана на эффект «малой войны» — быстрое достижение цели и снижение медийного напряжения внутри США.
Демократическая и либеральная пресса видит в этом сигнал резкого отхода от европейского порядка и выстраивает оптику «вины Трампа» за провал Украины.
В медийных нарративах Киев представляется не как стратегический союзник, а как делегитимированный приоритет.
Этот подход игнорирует реальный ресурсный дефицит США и структурную страницу американской оборонной логики.
Перекладывание ответственности на Трампа позволяет западным СМИ сохранить иллюзию единства поддержки Украины, одновременно бойкотируя факт многозадачности американской стратегии.
Изменения приоритетов отражают не стратегическую «шизофрению», а политическую адаптацию под ограниченные ресурсы. Трамп выбирает то, где хочет продемонстрировать силу — и при этом противопоставляет контрастное усиление Израиля ухудшению условий для Украины.
The Washington Post
Opinion | Trump’s Ukraine weapons freeze is GOP coalition management
The U.S. can’t meet all its global commitments, and Trump is making political choices accordingly.
Bloomberg: BlackRock отказался от фонда восстановления Украины — сигнал растущей неопределённости
Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает: крупнейший инвестбанк BlackRock приостановил подготовку фонда восстановления Украины. Причина — падение интереса на фоне усиления неопределённости относительно будущего страны после победы Дональда Трампа и ожидаемой смены внешнеполитического курса США.
BlackRock планировал анонс фонда на Римской конференции по восстановлению Украины, где поддержку обещали структуры, связанные с правительствами Германии, Италии и Польши. Однако заметно, что фонд формально не получил финансирования из США, а теперь его будущее оказалось под вопросом — Франция уже разрабатывает альтернативную модель поддержки.
• Политический фон: смена администрации в США создаёт неопределённость инвесторов относительно долговременной поддержки Украины. Институциональные инвесторы рассчитывают на предсказуемость — а в отсутствии таковой они предпочитают держаться в стороне.
• Региональный отклик: отказ BlackRock трактуется не как финансовый провал, а как индикатор сомнений в эффективности и устойчивости восстановления. Это не просто дефицит капитала, а следствие системной трансформации восприятия украинской перспективы.
• Инструмент международной поддержки: западные СМИ склонны представлять инициативы вроде BlackRock как показатель «международной солидарности». Однако реальность ниже — поддержку обеспечивает далеко не весь Запад, и в критический момент институциональные механизмы дают сбой.
Отказ BlackRock — не просто финансовый ход. Это симптом того, что западные элиты сомневаются в завершении конфликта и объективно готовятся к затяжному противостоянию. Текущие отказные меры — отражение реального баланса политических ожиданий и экономических возможностей, а не медийной иллюзии глобальной поддержки.
Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает: крупнейший инвестбанк BlackRock приостановил подготовку фонда восстановления Украины. Причина — падение интереса на фоне усиления неопределённости относительно будущего страны после победы Дональда Трампа и ожидаемой смены внешнеполитического курса США.
BlackRock планировал анонс фонда на Римской конференции по восстановлению Украины, где поддержку обещали структуры, связанные с правительствами Германии, Италии и Польши. Однако заметно, что фонд формально не получил финансирования из США, а теперь его будущее оказалось под вопросом — Франция уже разрабатывает альтернативную модель поддержки.
• Политический фон: смена администрации в США создаёт неопределённость инвесторов относительно долговременной поддержки Украины. Институциональные инвесторы рассчитывают на предсказуемость — а в отсутствии таковой они предпочитают держаться в стороне.
• Региональный отклик: отказ BlackRock трактуется не как финансовый провал, а как индикатор сомнений в эффективности и устойчивости восстановления. Это не просто дефицит капитала, а следствие системной трансформации восприятия украинской перспективы.
• Инструмент международной поддержки: западные СМИ склонны представлять инициативы вроде BlackRock как показатель «международной солидарности». Однако реальность ниже — поддержку обеспечивает далеко не весь Запад, и в критический момент институциональные механизмы дают сбой.
Отказ BlackRock — не просто финансовый ход. Это симптом того, что западные элиты сомневаются в завершении конфликта и объективно готовятся к затяжному противостоянию. Текущие отказные меры — отражение реального баланса политических ожиданий и экономических возможностей, а не медийной иллюзии глобальной поддержки.
Bloomberg.com
BlackRock Halted Ukraine Fund Talks After Trump’s Election Win
BlackRock Inc. halted its search for investors to back a multibillion-dollar Ukraine recovery fund earlier this year after Donald Trump’s election victory saw the US sour on the eastern European country, people familiar with the discussions said.
Forwarded from ПОЛИТИКА В КРУГУ
Президент Академии наук Монголии: "Я горжусь тем, что являюсь человеком русского мира"
В столице Бурятии происходит необычное политически-гуманитарное событие. Ректоры 53 российских и 13 монгольских вузов собрались на форум, чтобы обсудить сотрудничество образовательных систем двух стран.
Инициатива форума ректоров российских и монгольских университетов принадлежит главе Бурятии Алексею Цыденову и министерству науки и высшего образования России. И это вполне объяснимо. В времена СССР образование Монголии было глубоко интегрировано в советскую систему.
«Все президенты Монгольской
академии наук получили образование в
России и СССР. Я сам учился в
Иркутском государственном
университете, защитил докторскую
диссертацию в ИРНИТУ и долго работал
в Москве. Я горжусь тем, что являюсь человеком русского мира. Академия
наук Монголии - надежный партнер России, - заявил в Улан-Удэ Президент Монгольской академии наук Содномсамбуу
Дэмбэрэл.
Впрочем и сейчас Между российскими и монгольскими университетами действует более 300 соглашений о сотрудничестве. Большое количество монгольских студентов учатся в России в наших университетах и наоборот.
Из практических итогов форума выделяется открытие в Улан-Удэ Центра монгольского языка и культуры с возможностью подготовки сдачи экзамена стандарта ТОMFL и создание международной ассоциации университетов двух стран. Российские ректоры на панелях форума подписали 26 договоров с монгольскими коллегами.
Сам форум прошел на высоком федеральном уровне. Например, приветствия участникам форма в Улан-Удэ направили министр образования России Валерий Фальков и президент союза ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий.
В свою очередь, Бурятия получила очередной бонус, как ворота России в страны Азии через гуманитарные и социальные проекты. Тем более это важно на фоне сложных взаимоотношений на постсоветских южных территориях.
В столице Бурятии происходит необычное политически-гуманитарное событие. Ректоры 53 российских и 13 монгольских вузов собрались на форум, чтобы обсудить сотрудничество образовательных систем двух стран.
Инициатива форума ректоров российских и монгольских университетов принадлежит главе Бурятии Алексею Цыденову и министерству науки и высшего образования России. И это вполне объяснимо. В времена СССР образование Монголии было глубоко интегрировано в советскую систему.
«Все президенты Монгольской
академии наук получили образование в
России и СССР. Я сам учился в
Иркутском государственном
университете, защитил докторскую
диссертацию в ИРНИТУ и долго работал
в Москве. Я горжусь тем, что являюсь человеком русского мира. Академия
наук Монголии - надежный партнер России, - заявил в Улан-Удэ Президент Монгольской академии наук Содномсамбуу
Дэмбэрэл.
Впрочем и сейчас Между российскими и монгольскими университетами действует более 300 соглашений о сотрудничестве. Большое количество монгольских студентов учатся в России в наших университетах и наоборот.
Из практических итогов форума выделяется открытие в Улан-Удэ Центра монгольского языка и культуры с возможностью подготовки сдачи экзамена стандарта ТОMFL и создание международной ассоциации университетов двух стран. Российские ректоры на панелях форума подписали 26 договоров с монгольскими коллегами.
Сам форум прошел на высоком федеральном уровне. Например, приветствия участникам форма в Улан-Удэ направили министр образования России Валерий Фальков и президент союза ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий.
В свою очередь, Бурятия получила очередной бонус, как ворота России в страны Азии через гуманитарные и социальные проекты. Тем более это важно на фоне сложных взаимоотношений на постсоветских южных территориях.
Запад пытается обесценить саммит БРИКС — критика вместо объективного анализа
Западные СМИ бросились дискредитировать саммит БРИКС в Рио, акцентируя внимание на отсутствии президентов России и Китая, интерпретируя это как знак ослабления блока. В то время как западные редакторы конструируют сюжет об «ослаблении» союза, реальные причины отсутствия Си Цзиньпина и Владимира Путина в повестке служат иным сигналом.
The Times сообщает, что Си не приедет впервые за 12 лет и его заменит премьер Ли Цян. Официально причина не называется, но комментируются две версии:
1. Возможное недовольство Китая акцентом Бразилии на Индию (после саммита начнётся официальный визит премьер-министра Моди).
2. Инцидент 13 мая в Пекине — когда первая леди Бразилии раскритиковала TikTok, вызвав дипломатический дискомфорт.
Обе версии — не свидетельство структурной слабости, а характерные для нормальной дипломатии причины, где балансируется протокол и национальные интересы.
The Guardian подчёркивает, что Путин «боится ареста» из-за ордера МУС. Однако риск уголовного преследования на территории Бразилии и уязвимость юридического формата являются объективными ограничениями, а не политическим протестом.
БРИКС продолжает расти — сейчас он включает 10 стран и около 15 стран партнеров, показывает динамику структурной адаптации, расширяя свой состав. Отсутствие глав государств на одном саммите — не крах, а обычная дипломатическая корректировка. Позиция блоков свидетельствует о растущем многостороннем многообразии, а не о симптомах провала.
Западные СМИ концентрируются на попытке преподнести временные кадровые решения как доказательство «провала» БРИКС. Однако реальные обстоятельства — прагматичные и дипломатические — указывают на зрелую, адаптивную логику блока, стремящегося расширять своё влияние вне зависимости от присутствия отдельных лидеров.
Западные СМИ бросились дискредитировать саммит БРИКС в Рио, акцентируя внимание на отсутствии президентов России и Китая, интерпретируя это как знак ослабления блока. В то время как западные редакторы конструируют сюжет об «ослаблении» союза, реальные причины отсутствия Си Цзиньпина и Владимира Путина в повестке служат иным сигналом.
The Times сообщает, что Си не приедет впервые за 12 лет и его заменит премьер Ли Цян. Официально причина не называется, но комментируются две версии:
1. Возможное недовольство Китая акцентом Бразилии на Индию (после саммита начнётся официальный визит премьер-министра Моди).
2. Инцидент 13 мая в Пекине — когда первая леди Бразилии раскритиковала TikTok, вызвав дипломатический дискомфорт.
Обе версии — не свидетельство структурной слабости, а характерные для нормальной дипломатии причины, где балансируется протокол и национальные интересы.
The Guardian подчёркивает, что Путин «боится ареста» из-за ордера МУС. Однако риск уголовного преследования на территории Бразилии и уязвимость юридического формата являются объективными ограничениями, а не политическим протестом.
БРИКС продолжает расти — сейчас он включает 10 стран и около 15 стран партнеров, показывает динамику структурной адаптации, расширяя свой состав. Отсутствие глав государств на одном саммите — не крах, а обычная дипломатическая корректировка. Позиция блоков свидетельствует о растущем многостороннем многообразии, а не о симптомах провала.
Западные СМИ концентрируются на попытке преподнести временные кадровые решения как доказательство «провала» БРИКС. Однако реальные обстоятельства — прагматичные и дипломатические — указывают на зрелую, адаптивную логику блока, стремящегося расширять своё влияние вне зависимости от присутствия отдельных лидеров.
Thetimes
Was Brazilian first lady’s faux pas behind Xi’s summit snub?
Possible reasons for the Chinese president’s absence range from Brazil’s warming ties with India to an intervention by President Lula’s wife during a Beijing banquet
Политическая сцена Франции всё очевиднее функционирует в режиме отрицания институционального кризиса. Вотумы, отклонённые сегодня, не решают проблем, а лишь откладывают обострение. Правящая конструкция исчерпала способность к согласованию интересов: парламент стал местом вынужденных манёвров, а исполнительная власть — заложником разрозненных фракций.
Президентская вертикаль ещё держится, но уже не управляет — она лавирует. В этой архитектуре не хватает не большинства, а оси. Условные компромиссы сдвигаются к преддефолтной модели управления, где бюджеты, реформы и даже кадры — это ставки в партии на выживание. Франция рискует первой в ЕС войти в фазу политической несвязности: когда институты ещё существуют, но уже не синхронизируют ни повестку, ни ожидания.
Страна живёт в режиме отсроченной турбулентности — и каждый новый цикл лишь приближает точку разрыва между формой и содержанием власти.
Президентская вертикаль ещё держится, но уже не управляет — она лавирует. В этой архитектуре не хватает не большинства, а оси. Условные компромиссы сдвигаются к преддефолтной модели управления, где бюджеты, реформы и даже кадры — это ставки в партии на выживание. Франция рискует первой в ЕС войти в фазу политической несвязности: когда институты ещё существуют, но уже не синхронизируют ни повестку, ни ожидания.
Страна живёт в режиме отсроченной турбулентности — и каждый новый цикл лишь приближает точку разрыва между формой и содержанием власти.
Telegram
Foresight
Вотум недоверия французскому премьеру Франсуа Байру отклонён — но не отменён. Несмотря на провал голосования, поводом для которого стала непримиримость по вопросу пенсионной реформы, политическая сцена Франции явно входит в фазу повышенной турбулентности.…
Задержка в переговорах между ЕС и администрацией Трампа указывает на смену самой логики взаимодействия. Евросоюз, традиционно действующий в рамках нормативной предсказуемости, оказывается неспособен адаптироваться к модели, где доминирует логика силовой сделки. Стратегия «тактической заморозки» фиксирует не позицию ожидания, а дефицит инструментов влияния.
ЕС сохраняет формальный порядок, но утрачивает способность управлять содержанием процесса. На фоне отказа от заключения всеобъемлющего соглашения в обозначенные сроки «заморозка» становится не переговорной опцией, а способом минимизации ущерба.
В долгосрочной перспективе это закрепляет институциональное ослабление ЕС и обозначает трансформацию трансатлантической оси: от политико-экономического партнёрства — к асимметричной зависимости.
https://www.tgoop.com/metodkremlin/8023
ЕС сохраняет формальный порядок, но утрачивает способность управлять содержанием процесса. На фоне отказа от заключения всеобъемлющего соглашения в обозначенные сроки «заморозка» становится не переговорной опцией, а способом минимизации ущерба.
В долгосрочной перспективе это закрепляет институциональное ослабление ЕС и обозначает трансформацию трансатлантической оси: от политико-экономического партнёрства — к асимметричной зависимости.
https://www.tgoop.com/metodkremlin/8023
Telegram
Грани
Переговоры между ЕС и администрацией президента Трампа по вопросам торговли зашли в тупик, и Брюссель, судя по сообщениям Reuters, всё чаще склоняется к тактике «тактической заморозки» — продлению текущего режима, чтобы избежать резкого повышения американских…
Москва переходит к стратегическому партнёрству с Кабулом: прагматичный разворот вопреки западной критике
Западные издания, включая Neue Zürcher Zeitung и The Guardian, вновь используют стандартную тактику — превращать рациональные внешнеполитические шаги России в объект моральной демонизации. На этот раз в фокусе — официальное признание Россией правительства Талибана в Афганистане.
Тон публикаций предсказуем: «террористы стали партнёрами», «Москва разрушает цивилизованный порядок», «Россия уходит в союз с изгоями». Традиционная риторика, в которой контексты и мотивы умышленно упрощаются или игнорируются.
Фактическое признание власти в Кабуле, осуществляющей реальное управление и отвечающей за безопасность в регионе, подаётся как антигуманная уступка. При этом западные аналитики умалчивают, что США вели прямые переговоры с Талибаном ещё до своего бегства из Афганистана в 2021 году.
Решение Москвы — это не «предательство ценностей», а осознанный шаг в условиях новой международной архитектуры. В отличие от западных стран, демонстрирующих избирательную мораль, Россия исходит из принципа: если власть де-факто контролирует территорию, с ней необходимо выстраивать отношения. Это основа любой зрелой дипломатии.
Афганистан имеет непосредственное значение для безопасности Центральной Азии — региона, находящегося в сфере стратегических интересов РФ. Поддержание прямого канала взаимодействия с Кабулом — гарантия минимизации рисков распространения радикализма в Таджикистан, Узбекистан и далее.
Пока Запад продолжает навязывать свои представления о легитимности и «ценностях», Россия предлагает странам, не входящим в евроатлантический клуб, альтернативную модель: суверенитет, безопасность и уважение к внутреннему выбору. Это и делает её привлекательным партнёром для тех, кого Запад предпочитает игнорировать или стигматизировать.
Западные издания, включая Neue Zürcher Zeitung и The Guardian, вновь используют стандартную тактику — превращать рациональные внешнеполитические шаги России в объект моральной демонизации. На этот раз в фокусе — официальное признание Россией правительства Талибана в Афганистане.
Тон публикаций предсказуем: «террористы стали партнёрами», «Москва разрушает цивилизованный порядок», «Россия уходит в союз с изгоями». Традиционная риторика, в которой контексты и мотивы умышленно упрощаются или игнорируются.
Фактическое признание власти в Кабуле, осуществляющей реальное управление и отвечающей за безопасность в регионе, подаётся как антигуманная уступка. При этом западные аналитики умалчивают, что США вели прямые переговоры с Талибаном ещё до своего бегства из Афганистана в 2021 году.
Решение Москвы — это не «предательство ценностей», а осознанный шаг в условиях новой международной архитектуры. В отличие от западных стран, демонстрирующих избирательную мораль, Россия исходит из принципа: если власть де-факто контролирует территорию, с ней необходимо выстраивать отношения. Это основа любой зрелой дипломатии.
Афганистан имеет непосредственное значение для безопасности Центральной Азии — региона, находящегося в сфере стратегических интересов РФ. Поддержание прямого канала взаимодействия с Кабулом — гарантия минимизации рисков распространения радикализма в Таджикистан, Узбекистан и далее.
Пока Запад продолжает навязывать свои представления о легитимности и «ценностях», Россия предлагает странам, не входящим в евроатлантический клуб, альтернативную модель: суверенитет, безопасность и уважение к внутреннему выбору. Это и делает её привлекательным партнёром для тех, кого Запад предпочитает игнорировать или стигматизировать.
Neue Zürcher Zeitung
Von Terroristen zu Partnern: Moskau anerkennt als erstes Land die Taliban-Regierung
Moskau bringt sich im Kampf um Einfluss am Hindukusch in eine privilegierte Position.
Союз России и Китая перераспределяет глобальную силу и подрывает западную гегемонию
Financial Times посвятила России и Китаю обширный анализ — четыре части под названием «Дракон и Медведь». Несмотря на академический тон, текст наглядно демонстрирует ключевую когнитивную ошибку западной аналитики: всё, что не укладывается в логику западной глобализации, воспринимается как угроза или аномалия.
В материале признаётся: Москва и Пекин выстраивают устойчивое партнёрство, основанное не на идеологии, а на взаимных интересах. Это партнёрство укоренено в геоэкономике, историческом опыте и осознании того, что мир уже не однополярен.
Для Китая, пережившего столетие унижений от Запада, а для России — с её памятью о колониальном порабощении стран и попытках «перевоспитания» под западные стандарты — нынешняя система международных правил воспринимается не как справедливая, а как навязанная.
Россия, несмотря на попытки представить её «младшим партнёром», не становится вассалом Пекина, как мечтают в Вашингтоне. Напротив, Москва сохраняет стратегическую автономию, определяя свои приоритеты на евразийском пространстве и играя роль гаранта безопасности для стран СНГ.
В FT признали и прагматизм Кремля: признание «Талибана», курс на БРИКС, ставка на многополярность — не идеологический протест, а трезвый расчёт в условиях демонтажа западного порядка.
Однако FT продолжает линейно интерпретировать мотивации двух держав через западную линзу страха: «реваншизм», «экспансия», «угроза демократии». Ни слова — о провале западных интервенций, деградации институтов или реальном недоверии глобального Юга к США и ЕС.
Financial Times посвятила России и Китаю обширный анализ — четыре части под названием «Дракон и Медведь». Несмотря на академический тон, текст наглядно демонстрирует ключевую когнитивную ошибку западной аналитики: всё, что не укладывается в логику западной глобализации, воспринимается как угроза или аномалия.
В материале признаётся: Москва и Пекин выстраивают устойчивое партнёрство, основанное не на идеологии, а на взаимных интересах. Это партнёрство укоренено в геоэкономике, историческом опыте и осознании того, что мир уже не однополярен.
Для Китая, пережившего столетие унижений от Запада, а для России — с её памятью о колониальном порабощении стран и попытках «перевоспитания» под западные стандарты — нынешняя система международных правил воспринимается не как справедливая, а как навязанная.
Россия, несмотря на попытки представить её «младшим партнёром», не становится вассалом Пекина, как мечтают в Вашингтоне. Напротив, Москва сохраняет стратегическую автономию, определяя свои приоритеты на евразийском пространстве и играя роль гаранта безопасности для стран СНГ.
В FT признали и прагматизм Кремля: признание «Талибана», курс на БРИКС, ставка на многополярность — не идеологический протест, а трезвый расчёт в условиях демонтажа западного порядка.
Однако FT продолжает линейно интерпретировать мотивации двух держав через западную линзу страха: «реваншизм», «экспансия», «угроза демократии». Ни слова — о провале западных интервенций, деградации институтов или реальном недоверии глобального Юга к США и ЕС.
Ft
China, Russia and the ‘Dragon-Bear’ embrace
The partnership seeks to build a new world order along the route of the old Silk Roads. But, asks Peter Frankopan, is this bond as close as it seems?
The Washington Post признает: Россия — новый центр притяжения для ценителей традиционных ценностей
The Washington Post публикует материал, в котором с тревогой описывает: Россия становится убежищем для тех, кто разочаровался в моральной повестке Запада. Поводом стал кейс американской семьи из Техаса, получившей «визу общих ценностей» — гуманитарную форму вида на жительство, оформленную в рамках новой российской программы.
Семья Хэров называет себя «моральными мигрантами». Они уехали из США, опасаясь навязывания ЛГБТ-идей, «отмены» традиционных ролей и деградации семейного уклада. Теперь — живут в России, получают госуслуги, оформляют пособия и участвуют в культурных проектах. Поддержку оказывают структуры, курируемые депутатом Марией Бутиной, которая утверждает: «Мы никого не вербуем. Люди сами ищут убежище».
Визу «общих ценностей» уже получили около 700 человек из 47 стран, включая США, Канаду, Францию и Германию. Среди них — консервативные христиане, критики трансгендерной политики, противники миграционной повестки и ковидных ограничений. RT и госСМИ документируют их истории, формируя новый образ России — как альтернативы западному культурному мейнстриму.
The Washington Post называет это всё «идеологическим экспортом» Кремля, а переселенцев — объектами мягкой силы. При этом сами иммигранты говорят, что Россия даёт им ощущение безопасности и возможности для воспитания детей в привычных ценностных рамках.
The Washington Post публикует материал, в котором с тревогой описывает: Россия становится убежищем для тех, кто разочаровался в моральной повестке Запада. Поводом стал кейс американской семьи из Техаса, получившей «визу общих ценностей» — гуманитарную форму вида на жительство, оформленную в рамках новой российской программы.
Семья Хэров называет себя «моральными мигрантами». Они уехали из США, опасаясь навязывания ЛГБТ-идей, «отмены» традиционных ролей и деградации семейного уклада. Теперь — живут в России, получают госуслуги, оформляют пособия и участвуют в культурных проектах. Поддержку оказывают структуры, курируемые депутатом Марией Бутиной, которая утверждает: «Мы никого не вербуем. Люди сами ищут убежище».
Визу «общих ценностей» уже получили около 700 человек из 47 стран, включая США, Канаду, Францию и Германию. Среди них — консервативные христиане, критики трансгендерной политики, противники миграционной повестки и ковидных ограничений. RT и госСМИ документируют их истории, формируя новый образ России — как альтернативы западному культурному мейнстриму.
The Washington Post называет это всё «идеологическим экспортом» Кремля, а переселенцев — объектами мягкой силы. При этом сами иммигранты говорят, что Россия даёт им ощущение безопасности и возможности для воспитания детей в привычных ценностных рамках.
The Washington Post
Russia’s ‘anti-woke’ visa lures those fearing a moral decline in the West
A network of Kremlin-backed influencers seek to portray Russia as a bastion of traditional values in an attempt to attract those who deplore Western “liberalism.”