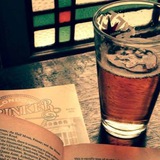И тут неолиберальный капитализм подговнил, получается!
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
☭☭☭ Илья Будрайтскис:
«Акселерация» капитализма, согласно подобным авторам [Ник Ланд или Ярвин], неизбежно приведет к тому, что государства откажутся от какой-либо автономии права и демократической легитимности. Демократическое государство, с его ложным формальным равенством сильных и слабых сменит Gov-corp — корпорация, иерархически управляемая менеджерами, которые получили абсолютную власть благодаря естественному отбору.
Принципиально, что такое состояние государства для Лэнда достигается не при помощи политической борьбы и создания вождистского массового движения, но наоборот — через «акселерацию» капиталистической экономики, развитие которой преодолевает и уничтожает любые политические формы.
Эта авторитарно-либертарианская утопия парадоксальным образом выглядит как инверсия путинского государственного капитализма, с его неразрывной связью между правом собственности и политической властью, а также глубоко укорененным представлением об «аристократической» и сословной природе господства государственной бюрократии (на вершине иерархической пирамиды которой стоят спецслужбы).
Странную близость мировоззрений путинских силовиков и адептов Лэнда из Силиконовой долины вряд ли можно объяснить общим идеологическим воспитанием или кругом чтения. Для того, чтобы прийти к схожим моделям, Лэнд использует цитаты Гоббса и Делеза, тогда как Путин — Ильина или Гумилева.
Интеллектуальные референции здесь вторичны, тогда как первична рациональность, усвоенная из бессознательных идеологических практик неолиберального капитализма, и характерная для того типа субъектности, которую он производит.
«Акселерация» капитализма, согласно подобным авторам [Ник Ланд или Ярвин], неизбежно приведет к тому, что государства откажутся от какой-либо автономии права и демократической легитимности. Демократическое государство, с его ложным формальным равенством сильных и слабых сменит Gov-corp — корпорация, иерархически управляемая менеджерами, которые получили абсолютную власть благодаря естественному отбору.
Принципиально, что такое состояние государства для Лэнда достигается не при помощи политической борьбы и создания вождистского массового движения, но наоборот — через «акселерацию» капиталистической экономики, развитие которой преодолевает и уничтожает любые политические формы.
Эта авторитарно-либертарианская утопия парадоксальным образом выглядит как инверсия путинского государственного капитализма, с его неразрывной связью между правом собственности и политической властью, а также глубоко укорененным представлением об «аристократической» и сословной природе господства государственной бюрократии (на вершине иерархической пирамиды которой стоят спецслужбы).
Странную близость мировоззрений путинских силовиков и адептов Лэнда из Силиконовой долины вряд ли можно объяснить общим идеологическим воспитанием или кругом чтения. Для того, чтобы прийти к схожим моделям, Лэнд использует цитаты Гоббса и Делеза, тогда как Путин — Ильина или Гумилева.
Интеллектуальные референции здесь вторичны, тогда как первична рациональность, усвоенная из бессознательных идеологических практик неолиберального капитализма, и характерная для того типа субъектности, которую он производит.
😁2
Ханна Арендт в «О революции» о недоверии к власти:
Что касается власти и авторитета, то достаточно беглого взгляда на судьбу конституционных режимов вне пределов англо-американских стран и сферы их влияния, чтобы ощутить огромную разницу между конституцией, навязанной народу правительством, и конституцией, посредством которой народ конституирует свою собственную форму правления. Составленные экспертами и навязанные европейским странам после Первой мировой войны, все конституции в значительной степени основывались на образце американской конституции и были сработаны добротно, если рассматривать их независимо друг от друга. И несмотря на это, недоверие, вызываемое ими у народа данных стран, является историческим фактом, как фактом было и то, что пятнадцать лет после низвержения монархического правления на европейском континенте более половины Европы жило при той или иной разновидности диктатуры; что же до остальных конституционных режимов, то, за характерным исключением Скандинавских стран и Швейцарии, они демонстрировали ту же прискорбную утрату властью авторитета и стабильности, что и Третья республика во Франции. Ибо отсутствие власти и утрата авторитета были бичом почти всех европейских стран со времени отмены абсолютных монархий, а четырнадцать конституций Франции между 1789 и 1875 годами привели к тому, что еще до лавины послевоенных конституций в XX веке само слово "конституция" стало звучать как издевательство. Наконец, можно вспомнить, что периоды конституционного правления были прозваны временами "системы" (в Германии после Первой мировой войны и во Франции - после Второй) - слово, каким народ окрестил такой порядок вещей, при котором коррупция, кумовство и закулисные махинации сделались альфой и омегой политики. Тем самым всякому нормальному человеку было обеспечено право исключить себя из этой "системы", ибо она едва ли была достойна, чтобы против нее восставать. Короче, сама по себе конституция - еще не благо, она, как говорил Джон Адамс, "есть стандарт, опора и скрепа, когда ее понимают, одобряют и любят. Однако без этого понимания и привязанности она может оказаться также мыльным пузырем, парящим в воздухе".
К этому различию между конституцией, являющейся актом правительства, и конституцией, посредством которой народ конституирует правительство, следует прибавить еще одно отличие<...>. Если и было что-то общее между создателями конституций XIX и XX веков и их американскими предшественниками в XVIII столетии, то это было недоверие к власти как таковой, и это недоверие в Новом Свете было выражено, пожалуй, даже сильнее, чем в Старом. То, что человек по самой своей природе "не подходит для того, чтобы доверять ему неограниченную власть", что те, кто наделен властью, легко могут обернуться "зверьми, алчущими добычи", что государство необходимо для обуздания человека и его стремления к власти и, тем самым, (как о том писал Мэдисон) является "трезвой оценкой человеческой природы", - все это в XVIII веке считалось общим местом не менее, чем в XIX, что же до "отцов-основателей", то эти истины были для них азами. Это недоверие к власти составляет подоплеку Билля о правах наряду с общим убеждением в абсолютной необходимости правового государства в смысле ограниченного законами правления. И все же для развития событий в Америке это соображение не являлось решающим. <...> Cуществовала также глубокая озабоченность относительно тех опасностей для прав и свобод граждан, которые могут исходить не столько со стороны государства, сколько со стороны общества. Согласно Мэдисону, "огромную важность для республики имеет не только защита общества от угнетения со стороны властей предержащих, но также предохранение одной части общества от несправедливости со стороны другой его части"; в первую очередь необходимо оградить "права отдельных лиц или меньшинства ... от направляемых интересами комбинаций большинства". Именно это, и ничто иное, оправдывало конституирование публичной правительственной власти, которая в республике не должна быть легитимирована исключительно негативным образом.
К этому различию между конституцией, являющейся актом правительства, и конституцией, посредством которой народ конституирует правительство, следует прибавить еще одно отличие<...>. Если и было что-то общее между создателями конституций XIX и XX веков и их американскими предшественниками в XVIII столетии, то это было недоверие к власти как таковой, и это недоверие в Новом Свете было выражено, пожалуй, даже сильнее, чем в Старом. То, что человек по самой своей природе "не подходит для того, чтобы доверять ему неограниченную власть", что те, кто наделен властью, легко могут обернуться "зверьми, алчущими добычи", что государство необходимо для обуздания человека и его стремления к власти и, тем самым, (как о том писал Мэдисон) является "трезвой оценкой человеческой природы", - все это в XVIII веке считалось общим местом не менее, чем в XIX, что же до "отцов-основателей", то эти истины были для них азами. Это недоверие к власти составляет подоплеку Билля о правах наряду с общим убеждением в абсолютной необходимости правового государства в смысле ограниченного законами правления. И все же для развития событий в Америке это соображение не являлось решающим. <...> Cуществовала также глубокая озабоченность относительно тех опасностей для прав и свобод граждан, которые могут исходить не столько со стороны государства, сколько со стороны общества. Согласно Мэдисону, "огромную важность для республики имеет не только защита общества от угнетения со стороны властей предержащих, но также предохранение одной части общества от несправедливости со стороны другой его части"; в первую очередь необходимо оградить "права отдельных лиц или меньшинства ... от направляемых интересами комбинаций большинства". Именно это, и ничто иное, оправдывало конституирование публичной правительственной власти, которая в республике не должна быть легитимирована исключительно негативным образом.
🔥6
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
Для всех, кого заинтересовали посты с цитатами Оксаны Тимофеевой - полная статья доступна только на английском
https://www.e-flux.com/notes/456364/between-war-and-terror-a-letter-from-russia
https://www.e-flux.com/notes/456364/between-war-and-terror-a-letter-from-russia
e-flux
Between War and Terror: A Letter from Russia
Oxana Timofeeva on protest and terror in Putin’s Russia.
Официально мое любимое видео в интернете (на этот вечер)
Forwarded from Свободные женщины Востока
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
О - ориентализм
😁13
Forwarded from по краям
Уже сегодня состоится открытие Института Дэвида Гребера.
В структуру Института Дэвида Гребера входят такие проекты, как Museum of Care, Anthropology for Kids, Visual Assembly, Carnival, Yes Woman, Fight Club и Open Library. Институт планирует продолжить оцифровку и публикацию архива Дэвида Гребера, а также поддерживать проект Brain Trust — собрания антропологов, активистов, инженеров и художников, запущенные Дэвидом Гребером незадолго до смерти. В рамках проекта будут проходить лекции, дискуссии и художественные акции, цель которых — выработать набор действий, меняющих мир, доступных каждому, без разрешения или участия правительств.
К открытию Института можно присоединиться онлайн по зуму в 21:00 по московскому времени.
В структуру Института Дэвида Гребера входят такие проекты, как Museum of Care, Anthropology for Kids, Visual Assembly, Carnival, Yes Woman, Fight Club и Open Library. Институт планирует продолжить оцифровку и публикацию архива Дэвида Гребера, а также поддерживать проект Brain Trust — собрания антропологов, активистов, инженеров и художников, запущенные Дэвидом Гребером незадолго до смерти. В рамках проекта будут проходить лекции, дискуссии и художественные акции, цель которых — выработать набор действий, меняющих мир, доступных каждому, без разрешения или участия правительств.
К открытию Института можно присоединиться онлайн по зуму в 21:00 по московскому времени.
Раз уж мы на теме Дэвида Гребера. Читаю «Фрагменты анархисткой антропологии» (на русском выпустили эти ребята). Он много пишет о том, что настоящее революционное действие — это переосмыслить жизнь в рамках государств и любых существующих структур как далеко не единственно возможную, заполнять бесполезные бюрократические бумажки и параллельно строить теории политических организаций, не являющихся государствами (и вообще полагающихся на концепцию гражданства — будь то национального государства или глобального), думать о том, что такое добровольное объединение людей и какими они могут быть, и, собственно, такие программы, связи и формы деятельности реализовывать. Весьма вдохновляюще, в общем (а какие вещи вдохновляют вас).
Теория исхода предполагает, что наиболее эффективным методом противостояния капитализму и либеральному государству является не прямое противостояние, а то, что Паоло Вирно 23 назвал «отступлением с боем»: массовым дезертирством тех, кто жаждет создания новых форм сообществ. Стоит лишь заглянуть в исторические документы, чтобы убедиться в том, что большинство успешных форм народного сопротивления принимали именно это обличие. Они не шли в лобовое столкновение с властью (как правило, это приводит к кровопролитию, а если нет, то зачастую к превращению в ещё худший вариант: в то, с чем боролись), но переходили от одной стратегии к другой, уворачиваясь от объятий власти, убегая, дезертируя и основывая новые сообщества. Ян Мулье Бутан, историк автономизма, даже утверждал, что история капитализма — это серия попыток решить проблему мобильности рабочих (отсюда бесконечная разработка таких атрибутов, как договора ученичества между мастером и учеником, рабство, привлечение рабочих-кули,24 использование гастарбайтеров и внештатных сотрудников, бесчисленные формы пограничного контроля), поскольку если бы система в действительности была бы близка к своей собственной фантастической версии, в которой рабочие могли свободно наниматься и увольняться с работы, когда бы и где бы они ни хотели, она бы полностью развалилась. Именно по этой причине одним из наиболее настойчивых требований, выдвигавшихся радикальными участниками антиглобалистского движения — от итальянских автономов до анархистов из Северной Америки — всегда было требование глобальной свободы перемещения, «настоящей глобализации», уничтожения границ, всеобщего падения стен.
Теория исхода предполагает, что наиболее эффективным методом противостояния капитализму и либеральному государству является не прямое противостояние, а то, что Паоло Вирно 23 назвал «отступлением с боем»: массовым дезертирством тех, кто жаждет создания новых форм сообществ. Стоит лишь заглянуть в исторические документы, чтобы убедиться в том, что большинство успешных форм народного сопротивления принимали именно это обличие. Они не шли в лобовое столкновение с властью (как правило, это приводит к кровопролитию, а если нет, то зачастую к превращению в ещё худший вариант: в то, с чем боролись), но переходили от одной стратегии к другой, уворачиваясь от объятий власти, убегая, дезертируя и основывая новые сообщества. Ян Мулье Бутан, историк автономизма, даже утверждал, что история капитализма — это серия попыток решить проблему мобильности рабочих (отсюда бесконечная разработка таких атрибутов, как договора ученичества между мастером и учеником, рабство, привлечение рабочих-кули,24 использование гастарбайтеров и внештатных сотрудников, бесчисленные формы пограничного контроля), поскольку если бы система в действительности была бы близка к своей собственной фантастической версии, в которой рабочие могли свободно наниматься и увольняться с работы, когда бы и где бы они ни хотели, она бы полностью развалилась. Именно по этой причине одним из наиболее настойчивых требований, выдвигавшихся радикальными участниками антиглобалистского движения — от итальянских автономов до анархистов из Северной Америки — всегда было требование глобальной свободы перемещения, «настоящей глобализации», уничтожения границ, всеобщего падения стен.
❤2🤔2
В Дании есть партия (Synthetic Party), чьи манифесты и политические тезисы пишет AI: нейросетка, изучившая все, что было сказано и написано датскими микро-партиями с 1970-х. Это своего рода (художественная) попытка создать The Party, которая будет отражать мнения среднестатистического гражданина. С другой — ответочка в ценом политическому ландшафту Дании, где существует более 200 «микро-партий», чьи политики...не всегда близки к реальной политике, но они отражают не-мейнтримовые интересы и группы (и, соответственно, никогда не добираются до реальной власти).
В 2023 году партия рассчитывает войти в парламент (для этого ей надо получить 20 тыс голосов, а пока у них вроде около 4 тыс).
Что интересно, короче. С одной стороны, это супер-проект (как мне кажется): он вполне может быть способен привести к политическому действию тех, кто вообще не заинтересован в участии в традиционалистской пыльной политике, которая уже сто лет как не отражает ничьи реальные интересы, а просто предоставляет увлекательное макраме из сотен мейнстримовых политических лозунгов. Во-вторых, это something new, новая оптика/подход, которых тоже в политике давненько не было видно — пусть он может не сработать сам по себе, но, опять же, он может оживить политический ландшафт и подтолкнуть нас к воображению новых форм политического действия и объединения. Наконец, эта партия приглашает к со-творчеству алгоритм — представителя того «коллектива», который выполняет сугубо функциональную работу в нашем обществе, хотя на самом-то деле во многом определяет, как мы живем.
Короче, yay политическим экспериментам, nay сами знаете, чему.
В 2023 году партия рассчитывает войти в парламент (для этого ей надо получить 20 тыс голосов, а пока у них вроде около 4 тыс).
Что интересно, короче. С одной стороны, это супер-проект (как мне кажется): он вполне может быть способен привести к политическому действию тех, кто вообще не заинтересован в участии в традиционалистской пыльной политике, которая уже сто лет как не отражает ничьи реальные интересы, а просто предоставляет увлекательное макраме из сотен мейнстримовых политических лозунгов. Во-вторых, это something new, новая оптика/подход, которых тоже в политике давненько не было видно — пусть он может не сработать сам по себе, но, опять же, он может оживить политический ландшафт и подтолкнуть нас к воображению новых форм политического действия и объединения. Наконец, эта партия приглашает к со-творчеству алгоритм — представителя того «коллектива», который выполняет сугубо функциональную работу в нашем обществе, хотя на самом-то деле во многом определяет, как мы живем.
Короче, yay политическим экспериментам, nay сами знаете, чему.
VICE
This Danish Political Party Is Led by an AI
The Synthetic Party in Denmark is dedicated to following a platform churned out by an AI, and its public face is a chatbot named Leader Lars.
🤔5❤2
#политфилософия #конспект
(1)
В античной философии есть понятие — stasis, противостояние, диссонанс, разногласие внутри полиса. Это внутренний раздор, который разделяет город на оппозиционные группы. Платон описывал стазис как «внутреннюю войну», своего рода гражданскую войну, при которой чувство враждебности, обычно направленное вовне, направляется внутрь и раскалывает город.
Андреас Каливас, философ, пишет статью о гражданстве и стазисе — а именно о законе, который среди прочих принял афинский политик Солон (а может, и не принимал, но для умственного упражнения это не всегда важно). Закон гласил, что те, кто не занял чью-то сторону во времена гражданского раздора, кто остался в стороне, должен быть лишен гражданства и любых «прав на город». Иными словами, Солон четко связывал понятие гражданства и стазиса — одно претворялось в жизнь отношением ко второму. Это интересное рассуждение имеет смысл, конечно, только на фоне современного представления о гражданстве как о чем-то до-политическом, данном при рождении, связанном с другими идентичностями, довольно стабильном и трудно раскалываемом явлении, которое создает видимость какого-то коллективного индивида с единственной и общей волей. Понимание Солона иное: гражданин появляется, когда одна коллективность сталкивается с другой, враждебной коллективностью в общем публичном пространстве. Современное гражданство произрастает из идеи похожести, врожденного единства, которое сложно не разделять — соломоновское, напротив, появляется из непохожести, несогласия, из «больше, чем единственное», из политической борьбы за публичную сферу.
Каливас пишет, что такое понимание гражданства приписывает ему четыре критерия.
1. Активное гражданство. Тот, кто не участвует в стазисе, не занимает сторону, лишается гражданства. Закон определяет гражданство не через то, кем человек является, но через то, что он активно делает. Гражданство здесь — не до-политическая данность, приписанная человеку по принципу национальности или этнической принадлежности, но результат выбора, политического действия.
2. Антагонистическое гражданство. Быть гражданином значит различать друзей и врагов, открыто заявлять о своей позиции, иметь мнение относительно гражданского блага и защищать его. Соответственно, гражданство проявляется в антагонизме и является им.
3. Партисипаторное гражданство. Гражданин разделяет опыт и последствия гражданского конфликта. Он не стоит в стороне, не ждет, пока чья-то сторона выиграет — его ставки тоже в игре. Получается, что гражданином не может быть тот, кто «приватизировался», ушел в частную жизнь — он должен нести гражданскую ответственность, ввязаться в борьбу на благо города (это важный момент — стазис существует не ради захвата власти или кровопролития, это именно политическое соперничество).
4. Исключительное гражданство. Гражданин — это тот, кто активно участвует в исключительном (по Соломону) событии, политическом и гражданском раздрае, гражданство — политическое действие, которое явнее и очевиднее всего проявляется именно во времена кризиса. Стазис — это не норма, а исключительное событие, но, по Солону, если во времена исключительных событий мы исключаем, собственно, народ из процесса принятия решений, то у нас не демократия, а что-то другое.
(1)
В античной философии есть понятие — stasis, противостояние, диссонанс, разногласие внутри полиса. Это внутренний раздор, который разделяет город на оппозиционные группы. Платон описывал стазис как «внутреннюю войну», своего рода гражданскую войну, при которой чувство враждебности, обычно направленное вовне, направляется внутрь и раскалывает город.
Андреас Каливас, философ, пишет статью о гражданстве и стазисе — а именно о законе, который среди прочих принял афинский политик Солон (а может, и не принимал, но для умственного упражнения это не всегда важно). Закон гласил, что те, кто не занял чью-то сторону во времена гражданского раздора, кто остался в стороне, должен быть лишен гражданства и любых «прав на город». Иными словами, Солон четко связывал понятие гражданства и стазиса — одно претворялось в жизнь отношением ко второму. Это интересное рассуждение имеет смысл, конечно, только на фоне современного представления о гражданстве как о чем-то до-политическом, данном при рождении, связанном с другими идентичностями, довольно стабильном и трудно раскалываемом явлении, которое создает видимость какого-то коллективного индивида с единственной и общей волей. Понимание Солона иное: гражданин появляется, когда одна коллективность сталкивается с другой, враждебной коллективностью в общем публичном пространстве. Современное гражданство произрастает из идеи похожести, врожденного единства, которое сложно не разделять — соломоновское, напротив, появляется из непохожести, несогласия, из «больше, чем единственное», из политической борьбы за публичную сферу.
Каливас пишет, что такое понимание гражданства приписывает ему четыре критерия.
1. Активное гражданство. Тот, кто не участвует в стазисе, не занимает сторону, лишается гражданства. Закон определяет гражданство не через то, кем человек является, но через то, что он активно делает. Гражданство здесь — не до-политическая данность, приписанная человеку по принципу национальности или этнической принадлежности, но результат выбора, политического действия.
2. Антагонистическое гражданство. Быть гражданином значит различать друзей и врагов, открыто заявлять о своей позиции, иметь мнение относительно гражданского блага и защищать его. Соответственно, гражданство проявляется в антагонизме и является им.
3. Партисипаторное гражданство. Гражданин разделяет опыт и последствия гражданского конфликта. Он не стоит в стороне, не ждет, пока чья-то сторона выиграет — его ставки тоже в игре. Получается, что гражданином не может быть тот, кто «приватизировался», ушел в частную жизнь — он должен нести гражданскую ответственность, ввязаться в борьбу на благо города (это важный момент — стазис существует не ради захвата власти или кровопролития, это именно политическое соперничество).
4. Исключительное гражданство. Гражданин — это тот, кто активно участвует в исключительном (по Соломону) событии, политическом и гражданском раздрае, гражданство — политическое действие, которое явнее и очевиднее всего проявляется именно во времена кризиса. Стазис — это не норма, а исключительное событие, но, по Солону, если во времена исключительных событий мы исключаем, собственно, народ из процесса принятия решений, то у нас не демократия, а что-то другое.
🔥6
(2)
В общем, нейтральность и апатия во времена гражданских несогласий — это не есть действия гражданина. Идея Солона (в расширении на демократическую практику) в том, что чем больше людей будет втянуто в стазис, тем быстрее он разрешится. Почему?
Например, Плутарх вот считал, что во времена стазиса должны прийти более мудрые и возвышенные люди, которые, оставаясь за пределами конфликта, своим разумом и логикой «избавят» тело полиса от «больной» (несогласной) части. Он предлагал нейтральное внешнее воздействие, не-участие в конфликте, сочувствие бедам, но не разделение их. Его позиция отражает современную ему римскую имперскую идеологию — конфликт самое страшное, что может произойти с обществом, и решение этой проблемы лежит в сохранении гармонии и единства под единым разумным имперским управлением (любой ценой). Исключительные времена требуют исключительных мер (а именно — исключения большинства из процесса принятия решений).
Геллий, напротив, считал, что Солон «все неплохо продумал». Закон, вынуждающий всех участвовать в раздоре, привлекает мудрых и разумных людей, которые иначе бы мудро и разумно решили бы остаться в стороне и позволить заведенному народу, разделившемуся пополам, уничтожить друг друга. По сути, Геллий не сильно спорит с Плутархом: он согласен, что разрешение стазиса — в участии элит, разумного меньшинства. Они также согласны в том, что единство, гармония, согласие и порядок — главные ценности политической жизни.
Оба упускают момент обязательного участия всех в стазисе. По Солону, основное препятствие для окончания раздора — это небольшое количество участников. Когда стасис заключен в соперничестве небольших групп, велики риски, что они будут преследовать собственные цели и не гнушаться средствами. Далее, вполне вероятно, они захватят власть и будут управлять пассивным сообществом нейтральных наблюдателей, а за такой приз можно и жестокость проявить.
Первый путь разрешения конфликта при участии многих — маленькие группы защищают свои интересы, но большинство может заставить их изменить позиции и сделать их более общими. Второй путь — большинство менее заинтересовано в мощном сопротивлении, они заинтересованы в мирном урегулировании (если силы примерно равны, конфликт перейдет в менее агрессивную фазу).
Демократический город, по Солону, тоже возникает из этого массового соучастия в стазисе, из отношений антагонизма и оппозиции. Демократический порядок — подвижен, подвержен пересмотру, может изменяться вслед за победами в политических столкновениях.
Итак, гражданство по Солону — это не де-политическая сущность, приписанная тебе по национальному признаку, для юридической привязки или в качестве основополагающей идентичности, не статус или привилегия (как сейчас). Оно вряд ли может быть связано с ритуалами выборной политики и формализмом институциональной репрезентации, и отходит от идей «переданной представителю» политической воли / пассивности и отсутствия прямого участия.
Из этой ситуации можно сделать и пару выводов об отличиях демократии (в афинском смысле) и республиканизма (как последовавшей за афинским полисом Римской империей).
Афинская демократия во времена стазиса и внутренних раздоров сохраняла верховенство закона и принципы гражданского участия. Римская республика же «временно» перекрывала гражданские права и возвращала абсолютную власть диктатора, чьей задачей было восстановить «мир и порядок» как главную ценность общественной жизни. Афинская демократия требовала присутствия Всех для разрешения кризиса, а Римская республика обращалась к власти Одного. Республиканизм деполитизировал конфликт, а демократия — пере-политизировала его.
В общем, нейтральность и апатия во времена гражданских несогласий — это не есть действия гражданина. Идея Солона (в расширении на демократическую практику) в том, что чем больше людей будет втянуто в стазис, тем быстрее он разрешится. Почему?
Например, Плутарх вот считал, что во времена стазиса должны прийти более мудрые и возвышенные люди, которые, оставаясь за пределами конфликта, своим разумом и логикой «избавят» тело полиса от «больной» (несогласной) части. Он предлагал нейтральное внешнее воздействие, не-участие в конфликте, сочувствие бедам, но не разделение их. Его позиция отражает современную ему римскую имперскую идеологию — конфликт самое страшное, что может произойти с обществом, и решение этой проблемы лежит в сохранении гармонии и единства под единым разумным имперским управлением (любой ценой). Исключительные времена требуют исключительных мер (а именно — исключения большинства из процесса принятия решений).
Геллий, напротив, считал, что Солон «все неплохо продумал». Закон, вынуждающий всех участвовать в раздоре, привлекает мудрых и разумных людей, которые иначе бы мудро и разумно решили бы остаться в стороне и позволить заведенному народу, разделившемуся пополам, уничтожить друг друга. По сути, Геллий не сильно спорит с Плутархом: он согласен, что разрешение стазиса — в участии элит, разумного меньшинства. Они также согласны в том, что единство, гармония, согласие и порядок — главные ценности политической жизни.
Оба упускают момент обязательного участия всех в стазисе. По Солону, основное препятствие для окончания раздора — это небольшое количество участников. Когда стасис заключен в соперничестве небольших групп, велики риски, что они будут преследовать собственные цели и не гнушаться средствами. Далее, вполне вероятно, они захватят власть и будут управлять пассивным сообществом нейтральных наблюдателей, а за такой приз можно и жестокость проявить.
Первый путь разрешения конфликта при участии многих — маленькие группы защищают свои интересы, но большинство может заставить их изменить позиции и сделать их более общими. Второй путь — большинство менее заинтересовано в мощном сопротивлении, они заинтересованы в мирном урегулировании (если силы примерно равны, конфликт перейдет в менее агрессивную фазу).
Демократический город, по Солону, тоже возникает из этого массового соучастия в стазисе, из отношений антагонизма и оппозиции. Демократический порядок — подвижен, подвержен пересмотру, может изменяться вслед за победами в политических столкновениях.
Итак, гражданство по Солону — это не де-политическая сущность, приписанная тебе по национальному признаку, для юридической привязки или в качестве основополагающей идентичности, не статус или привилегия (как сейчас). Оно вряд ли может быть связано с ритуалами выборной политики и формализмом институциональной репрезентации, и отходит от идей «переданной представителю» политической воли / пассивности и отсутствия прямого участия.
Из этой ситуации можно сделать и пару выводов об отличиях демократии (в афинском смысле) и республиканизма (как последовавшей за афинским полисом Римской империей).
Афинская демократия во времена стазиса и внутренних раздоров сохраняла верховенство закона и принципы гражданского участия. Римская республика же «временно» перекрывала гражданские права и возвращала абсолютную власть диктатора, чьей задачей было восстановить «мир и порядок» как главную ценность общественной жизни. Афинская демократия требовала присутствия Всех для разрешения кризиса, а Римская республика обращалась к власти Одного. Республиканизм деполитизировал конфликт, а демократия — пере-политизировала его.
🔥4
(3)
Что тут интересного:
Большинство участвует в конфликтах. Никто не может сказать «а вот меня не спросили» и быть потом использованным в этом ключе (даже в современной истории вполне можно найти примеры таких ситуаций). Гражданин всегда участвует в стазисе — он может проиграть, может победить, но он несет свою ответственность за разрешение конфликта и разделяет с обществом его результаты.
Такое понимание гражданства до определенной степени решает проблему пассивности большинства — оно, опять же, не может не участвовать, ей ему приходится совершать политический выбор.
Политическое действие — это не формальное «сходил на выборы». Это участие в активном политическом конфликте. Конечно, в формате глобальных национальных государств это сложно представить — но можно ведь представлять не только глобальные национальные конфликты как пространство для политического действия.
Отсутствие стазисов, любая исключительная политика, которая вводится во времена кризисов, чтобы вернуть мир к «порядку и безопасности» — анти-демократическое действие (по Каливасу). Стазис — часть демократической повседневности, это не конец общественной жизни, а, напротив, её ре-актуализация (иными словами, не надо бояться конфликтов, даже внутри сообщества!).
Лично меня ужасно увлекает идея гражданства-как-последствия-твоих-действий-и-выборов, а не как статуса или привилегии (ну, свезло родиться в определенном месте, вот тебе тележка благ, не повезло — вот тебе тележка хреноты и ограниченные возможности эту ситуацию изменить).
Что тут интересного:
Большинство участвует в конфликтах. Никто не может сказать «а вот меня не спросили» и быть потом использованным в этом ключе (даже в современной истории вполне можно найти примеры таких ситуаций). Гражданин всегда участвует в стазисе — он может проиграть, может победить, но он несет свою ответственность за разрешение конфликта и разделяет с обществом его результаты.
Такое понимание гражданства до определенной степени решает проблему пассивности большинства — оно, опять же, не может не участвовать, ей ему приходится совершать политический выбор.
Политическое действие — это не формальное «сходил на выборы». Это участие в активном политическом конфликте. Конечно, в формате глобальных национальных государств это сложно представить — но можно ведь представлять не только глобальные национальные конфликты как пространство для политического действия.
Отсутствие стазисов, любая исключительная политика, которая вводится во времена кризисов, чтобы вернуть мир к «порядку и безопасности» — анти-демократическое действие (по Каливасу). Стазис — часть демократической повседневности, это не конец общественной жизни, а, напротив, её ре-актуализация (иными словами, не надо бояться конфликтов, даже внутри сообщества!).
Лично меня ужасно увлекает идея гражданства-как-последствия-твоих-действий-и-выборов, а не как статуса или привилегии (ну, свезло родиться в определенном месте, вот тебе тележка благ, не повезло — вот тебе тележка хреноты и ограниченные возможности эту ситуацию изменить).
🤔5
#политфилософия #цитата
Чакрабати — о том, почему боги и духи это не «социальный факт» (то есть заведомо сконструированный человеком социальный объект, который можно мыслить и оценивать только таковым — мол, если индийцы верят в богов, они до-политические субъекты, еще не достаточно развитые для самостоятельности), но и полноценные соучастники современной социальной жизни.
«Второй <посыл>, пронизывающий современную европейскую политическую мысль и общественные науки, состоит в том, что человек онтологически сингулярен, что боги и духи — это, в конце концов, «социальные факты». А существование социального некоторым образом предшествует их существованию. Я стараюсь, напротив, рассуждать без предустановки о приоритете социального, даже логическом. Эмпирически мы знаем, что ни одно сообщество никогда не существовало без присутствия богов и духов рядом с человеком. Бог монотеистов получил несколько чувствительных, хотя и не смертельных, ударов на протяжении европейского XIX века. Но боги и другие существа, наличествующие в так называемых суеверных практиках, нигде не умирали. Я считаю богов и духов экзистенциально ровесниками людей и рассуждаю, исходя из посыла о том, что вопрос бытия человека включает вопрос сосуществования с богами и духами. Быть человеком в числе прочего означает, говоря словами Рамачандры Ганди, раскрывать "возможность взывать к Богу [или богам] без навязанной необходимости сперва установить его [или их] реальность"».
Чакрабати — о том, почему боги и духи это не «социальный факт» (то есть заведомо сконструированный человеком социальный объект, который можно мыслить и оценивать только таковым — мол, если индийцы верят в богов, они до-политические субъекты, еще не достаточно развитые для самостоятельности), но и полноценные соучастники современной социальной жизни.
«Второй <посыл>, пронизывающий современную европейскую политическую мысль и общественные науки, состоит в том, что человек онтологически сингулярен, что боги и духи — это, в конце концов, «социальные факты». А существование социального некоторым образом предшествует их существованию. Я стараюсь, напротив, рассуждать без предустановки о приоритете социального, даже логическом. Эмпирически мы знаем, что ни одно сообщество никогда не существовало без присутствия богов и духов рядом с человеком. Бог монотеистов получил несколько чувствительных, хотя и не смертельных, ударов на протяжении европейского XIX века. Но боги и другие существа, наличествующие в так называемых суеверных практиках, нигде не умирали. Я считаю богов и духов экзистенциально ровесниками людей и рассуждаю, исходя из посыла о том, что вопрос бытия человека включает вопрос сосуществования с богами и духами. Быть человеком в числе прочего означает, говоря словами Рамачандры Ганди, раскрывать "возможность взывать к Богу [или богам] без навязанной необходимости сперва установить его [или их] реальность"».
🔥2😁2
#коучинг (i guess?)
(1)
В общем, был такой психолог — Лоуренс Кольберг. (Дальше идет пересказ Википедии). Кольберг задавал людям сложно-устроенные моральные дилеммы и на основе ответов людей придумал теорию морального развития. Которая заключается в следующем: моральные рассуждения, составляющие основу этического поведения человека, можно расположить на одной из шести идентифицируемых стадий развития. На каждой стадии ответы на моральные дилеммы более «адекватны», чем на предыдущей. В идеале наше моральное развитие происходит всю жизнь и мы последовательно перемещаемся от первой стадии к шестой.
В рамках теории Кольберг делает несколько утверждений:
— У человечества (вне зависимости от культуры) есть одиннадцать основных ценностей: законы и нормы, совесть, способность выразить свои чувства, авторитет, гражданские права, договор, доверие и справедливость в обмене, справедливость наказания, жизнь, право собственности, правда или истина, любовь и секс.
— Центральное понятие модели — понятие справедливости, то есть распределение прав и обязанностей, регулируемое понятиями равенства и взаимности.
— Моральные нормы человека не являются автоматически усвоенными «внешними» нормами и не складываются вследствие опыта наказания и вознаграждения, а вырабатываются в ходе социального взаимодействия.
Шесть этапов нравственного развития делятся на три уровня: доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный.
Доконвенциональный уровень:
1. Ориентация на наказание и послушание (Как я могу избежать наказания?)
2. Наивная гедонистическая ориентация (Какая здесь польза для меня?)
На этом уровне человек (чаще всего — ребенок, но не всегда) принимает решения, исходя из эгоцентрических мотивов. Других людей, их блага и интересов не существует. О нравственности действия на этом уровне судят по его прямым последствиям для индивида: если не накажут — можно. Если есть польза и не накажут — вообще отлично. Хорошо или плохо существует только в этих смысловых рамках (накажут — плохо, не накажут — хорошо).
Конвенциональный уровень:
3. Ориентация на соответствие ближнему окружению/малой группе (социальные нормы, модель «хорошего ребёнка»)
4. Желание поддерживать установленный порядок социальной справедливости и правил (Мораль соответствует правилам и законам)
На этом уровне человек судит о нравственности своих поступков, сравнивая их с мнениями и ожиданиями общества. Морально то, что принято обществом, хорошо — следовать этим нормам. Не следовать — плохо. Целесообразность норм редко подвергается сомнению. Основной страх — исключение из общества за не-следование конвенциям, поиск «своих», откуда не выгонят, и следование их нормам. Исполнение желаний группы — самоцель, получение внешнего одобрения — способ идентифицировать себя относительно группы.
Постконвенциональный уровень:
5. Утилитаризм и представление о морали как продукте общественного договора (социальный контракт)
6. Универсальные этические принципы (собственные нравственные принципы и совесть как регулятор)
Оказавшись здесь, человек понимает, что он является отдельным от общества объектом со своей точкой зрения, которая может иметь приоритет над общественной. Люди могут не подчиняться правилам, несовместимым с их собственными принципами. Законы здесь — полезные, но гибкие структуры, которые в идеале помогают строить справедливое общество, не происходит это не всегда. Правила и законы — не абсолютные диктаты. Можно заметить, что действия человека на шестой стадии могут сильно напоминать действия человека на первой или второй. Разница в том, как человек объясняет себе нравственную сторону своего поступка: её может не существовать (первая стадия) или же я могу создавать свою нравственность / критиковать правило, понимая принципы и причины его существования в обществе (шестая).
(1)
В общем, был такой психолог — Лоуренс Кольберг. (Дальше идет пересказ Википедии). Кольберг задавал людям сложно-устроенные моральные дилеммы и на основе ответов людей придумал теорию морального развития. Которая заключается в следующем: моральные рассуждения, составляющие основу этического поведения человека, можно расположить на одной из шести идентифицируемых стадий развития. На каждой стадии ответы на моральные дилеммы более «адекватны», чем на предыдущей. В идеале наше моральное развитие происходит всю жизнь и мы последовательно перемещаемся от первой стадии к шестой.
В рамках теории Кольберг делает несколько утверждений:
— У человечества (вне зависимости от культуры) есть одиннадцать основных ценностей: законы и нормы, совесть, способность выразить свои чувства, авторитет, гражданские права, договор, доверие и справедливость в обмене, справедливость наказания, жизнь, право собственности, правда или истина, любовь и секс.
— Центральное понятие модели — понятие справедливости, то есть распределение прав и обязанностей, регулируемое понятиями равенства и взаимности.
— Моральные нормы человека не являются автоматически усвоенными «внешними» нормами и не складываются вследствие опыта наказания и вознаграждения, а вырабатываются в ходе социального взаимодействия.
Шесть этапов нравственного развития делятся на три уровня: доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный.
Доконвенциональный уровень:
1. Ориентация на наказание и послушание (Как я могу избежать наказания?)
2. Наивная гедонистическая ориентация (Какая здесь польза для меня?)
На этом уровне человек (чаще всего — ребенок, но не всегда) принимает решения, исходя из эгоцентрических мотивов. Других людей, их блага и интересов не существует. О нравственности действия на этом уровне судят по его прямым последствиям для индивида: если не накажут — можно. Если есть польза и не накажут — вообще отлично. Хорошо или плохо существует только в этих смысловых рамках (накажут — плохо, не накажут — хорошо).
Конвенциональный уровень:
3. Ориентация на соответствие ближнему окружению/малой группе (социальные нормы, модель «хорошего ребёнка»)
4. Желание поддерживать установленный порядок социальной справедливости и правил (Мораль соответствует правилам и законам)
На этом уровне человек судит о нравственности своих поступков, сравнивая их с мнениями и ожиданиями общества. Морально то, что принято обществом, хорошо — следовать этим нормам. Не следовать — плохо. Целесообразность норм редко подвергается сомнению. Основной страх — исключение из общества за не-следование конвенциям, поиск «своих», откуда не выгонят, и следование их нормам. Исполнение желаний группы — самоцель, получение внешнего одобрения — способ идентифицировать себя относительно группы.
Постконвенциональный уровень:
5. Утилитаризм и представление о морали как продукте общественного договора (социальный контракт)
6. Универсальные этические принципы (собственные нравственные принципы и совесть как регулятор)
Оказавшись здесь, человек понимает, что он является отдельным от общества объектом со своей точкой зрения, которая может иметь приоритет над общественной. Люди могут не подчиняться правилам, несовместимым с их собственными принципами. Законы здесь — полезные, но гибкие структуры, которые в идеале помогают строить справедливое общество, не происходит это не всегда. Правила и законы — не абсолютные диктаты. Можно заметить, что действия человека на шестой стадии могут сильно напоминать действия человека на первой или второй. Разница в том, как человек объясняет себе нравственную сторону своего поступка: её может не существовать (первая стадия) или же я могу создавать свою нравственность / критиковать правило, понимая принципы и причины его существования в обществе (шестая).
🔥8
(2)
Несколько важных моментов:
У теории куча недостатков. Это теоретическая модель, к которой просто можно как-то отнестись самостоятельно, но ни в коем случае не использовать, чтобы тыкать другим людям в лицо.
Эмпирические данные о шестой стадии недостаточны (потому что туда доходит не так уж много людей).
По мнению Кольберга, большинство людей останавливается на четвёртой стадии морального совершенствования.
Переход от одной нравственной стадии к другой — результат развития не только когнитивных навыков, но и способности к эмпатии.
Что по критике:
Слегка сексизм. Кольберг использовал данные, преимущественно собранные по респондентам-мужчинам (потому что привет, середина-конец 20 века).
Слегка культурная генерализация. Кольберг утверждал, что культурные различия не важны, а стадии — универсальны. Что удивительно, некоторые исследования это действительно подтверждают. Однако кросс-культурные различия все же существуют — например, в том, какой смысл и значение внутри культуры могут иметь кажущиеся универсальными ценности типа «жизнь» или «закон».
Непоследовательность. Теория Кольберга плохо справляется с непоследовательными ответами внутри разных моральных дилемм.
Интуиция vs рациональность. Есть и вопросики к тому, насколько люди реально рационально принимают моральные решения, или же они просто следуют за интуицией, а уже потом рационализируют, почему они так поступили.
В общем, вопросы существуют, они валидны, есть альтернативы, и при этом методология выдержала некоторые штормы.
Несколько важных моментов:
У теории куча недостатков. Это теоретическая модель, к которой просто можно как-то отнестись самостоятельно, но ни в коем случае не использовать, чтобы тыкать другим людям в лицо.
Эмпирические данные о шестой стадии недостаточны (потому что туда доходит не так уж много людей).
По мнению Кольберга, большинство людей останавливается на четвёртой стадии морального совершенствования.
Переход от одной нравственной стадии к другой — результат развития не только когнитивных навыков, но и способности к эмпатии.
Что по критике:
Слегка сексизм. Кольберг использовал данные, преимущественно собранные по респондентам-мужчинам (потому что привет, середина-конец 20 века).
Слегка культурная генерализация. Кольберг утверждал, что культурные различия не важны, а стадии — универсальны. Что удивительно, некоторые исследования это действительно подтверждают. Однако кросс-культурные различия все же существуют — например, в том, какой смысл и значение внутри культуры могут иметь кажущиеся универсальными ценности типа «жизнь» или «закон».
Непоследовательность. Теория Кольберга плохо справляется с непоследовательными ответами внутри разных моральных дилемм.
Интуиция vs рациональность. Есть и вопросики к тому, насколько люди реально рационально принимают моральные решения, или же они просто следуют за интуицией, а уже потом рационализируют, почему они так поступили.
В общем, вопросы существуют, они валидны, есть альтернативы, и при этом методология выдержала некоторые штормы.
(3)
Чаще всего в контексте теории Кольберга приводят в пример дилемму Хайнца.
В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы её спасти. Это была форма радия, недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нём заработать, использовав все реальные средства». И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство.
Основной вопрос к дилемме (их там еще много всяких разных):
Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет?
Далее люди что-то там отвечают и по-разному объясняют свое решение. Не так важно, что конкретно выбирали люди — именно объяснение (и вообще — способность объяснить моральную подоплеку своего поступка) и использовал Кольберг для своей категоризации.
Доконвенциональный, послушание
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Оно стоило всего двести долларов, а фармацевт хотел слишком много. Хайнц даже предложил заплатить за него и больше ничего не украл
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Его посадят в тюрьму, что будет значить, что он плохой человек
Доконвенциональный, шкурный интерес
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Он будет счастливее, если спасет жену, пусть даже придется посидеть в тюрьме
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
В тюрьме очень плохо, и ему будет хуже в клетке, чем от смерти жены
Конвенциональный, конформность
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жена рассчитывает на лекарство, он хочет быть хорошим мужем
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Красть — плохо, а он не преступник. Он перепробовал все остальное, винить его нельзя
Конвенциональный, закон-и-порядок
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жене станет лучше, но он тоже должен принять соответствующее наказание за преступление и заплатить фармацевту. Преступники не могут просто так бегать без наказания со стороны закона. У действий есть последствия.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Закон запрещает красть.
Пост-конвенциональный, социальный контракт
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
У каждого есть право выбрать жизнь, вне зависимости от того, что велит закон.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Фармацевт заслуживает честной компенсации. Больная жена не дает Хайнцу права лишать его этого.
Пост-конвенциональный, универсальная этика
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Спасение жизни другого человека — более фундаментальная ценность, чем право собственности другого человека.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Другие тоже могут так же сильно нуждаться в лекарстве, жизнь жены Хайнца не более ценна, чем жизни других.
Чаще всего в контексте теории Кольберга приводят в пример дилемму Хайнца.
В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы её спасти. Это была форма радия, недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нём заработать, использовав все реальные средства». И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство.
Основной вопрос к дилемме (их там еще много всяких разных):
Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет?
Далее люди что-то там отвечают и по-разному объясняют свое решение. Не так важно, что конкретно выбирали люди — именно объяснение (и вообще — способность объяснить моральную подоплеку своего поступка) и использовал Кольберг для своей категоризации.
Доконвенциональный, послушание
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Оно стоило всего двести долларов, а фармацевт хотел слишком много. Хайнц даже предложил заплатить за него и больше ничего не украл
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Его посадят в тюрьму, что будет значить, что он плохой человек
Доконвенциональный, шкурный интерес
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Он будет счастливее, если спасет жену, пусть даже придется посидеть в тюрьме
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
В тюрьме очень плохо, и ему будет хуже в клетке, чем от смерти жены
Конвенциональный, конформность
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жена рассчитывает на лекарство, он хочет быть хорошим мужем
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Красть — плохо, а он не преступник. Он перепробовал все остальное, винить его нельзя
Конвенциональный, закон-и-порядок
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жене станет лучше, но он тоже должен принять соответствующее наказание за преступление и заплатить фармацевту. Преступники не могут просто так бегать без наказания со стороны закона. У действий есть последствия.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Закон запрещает красть.
Пост-конвенциональный, социальный контракт
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
У каждого есть право выбрать жизнь, вне зависимости от того, что велит закон.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Фармацевт заслуживает честной компенсации. Больная жена не дает Хайнцу права лишать его этого.
Пост-конвенциональный, универсальная этика
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Спасение жизни другого человека — более фундаментальная ценность, чем право собственности другого человека.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Другие тоже могут так же сильно нуждаться в лекарстве, жизнь жены Хайнца не более ценна, чем жизни других.
❤14
(4)
Мне кажется интересным использовать эту систему для эдакой самодиагностики. Например, спрашивать себя, а я сейчас из какой (условной) стадии принимаю решение? А в сложных ситуациях я на что буду опираться? А это меня сейчас в конвенцию утащило, потому что там легко и приятно жить, или потому что это и правда соответствует моим представлениям о прекрасном? А то, что я хочу сейчас совершить, я как для себя описываю / оправдываю/объясняю?
Есть, о чем подумать, в общем.
Мне кажется интересным использовать эту систему для эдакой самодиагностики. Например, спрашивать себя, а я сейчас из какой (условной) стадии принимаю решение? А в сложных ситуациях я на что буду опираться? А это меня сейчас в конвенцию утащило, потому что там легко и приятно жить, или потому что это и правда соответствует моим представлениям о прекрасном? А то, что я хочу сейчас совершить, я как для себя описываю / оправдываю/объясняю?
Есть, о чем подумать, в общем.
❤15🔥3