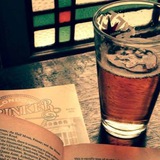Пишите, товарищи, нам на опен-колл (или просто так)
Forwarded from Квир-зин «На себя»
Вчера на дне рождении издательства No Kidding Press и писательских курсов WLAG половина нашей команды (в лице Кати Кудрявцевой, которая пишет этот пост) делали лайв подкаста «Кроме шуток». Случай был праздничный, поэтому мы говорили о «плохих чувствах» и о том, что это такое, как с ними жить и как к ним относиться. Выпуск выйдет до конца года — из него вы узнаете, почему не надо расстраиваться, если вы потеряли штаны, и как жить, если у вас в шкале ценностей у безопасности — 2 из 100. Удивительно, насколько хорошо и поддерживающе может быть поговорить о своих плохих чувствах.
Наш опен-колл тоже посвящен плохим чувствам. Когда мы думали об этой теме, нас (конечно) обуревали всякие разные плохие, сложные чувства. Я писала текст об опен-колле в отеле в Стамбуле, где я делала пересадку между Германией и Москвой — я путешествовала всего две недели, я ехала домой, и я не могла дождаться. Это был очень разнообразный коктейль эмоций, где хорошее, плохое и странное перемешано так плотно, что не различить. Лонг-Айленд Айс Ти из чувств.
И еще я в последнее время часто думаю о Патриции Хайсмит и о том, как она (я представляю себе это так) ходила по темной, мокрой улице за объектом своей обсессии, смотрела на неё из-за ветвей, потом шла домой и писала об этом книгу, потом в экранизации этой книги снялась Кейт Бланшетт, и теперь тысячи сердец по всему миру принадлежат ей (а она и не в курсе). Ничего этого бы не было, если бы Патриция Хайсмит тогда подумала — иу, кринж какой-то. Не буду об этом писать.
Мне хочется, чтобы мы написали вот о чем-то таком — стыдном, дурацком, страшном, кринжевом, злом. Чтобы плюнули на ожидания и на то, как «правильно» делать, что «допустимо» чувствовать, а что «нерационально», «недобро» или «аморально», «неэтично», «бла-бла».
Написали — и прислали нам этот текст на опен-колл до 13 января: https://q-zine.online/#open-call
К черту смутное беспокойство, пора плюнуть кому-нибудь в глаз.
Наш опен-колл тоже посвящен плохим чувствам. Когда мы думали об этой теме, нас (конечно) обуревали всякие разные плохие, сложные чувства. Я писала текст об опен-колле в отеле в Стамбуле, где я делала пересадку между Германией и Москвой — я путешествовала всего две недели, я ехала домой, и я не могла дождаться. Это был очень разнообразный коктейль эмоций, где хорошее, плохое и странное перемешано так плотно, что не различить. Лонг-Айленд Айс Ти из чувств.
И еще я в последнее время часто думаю о Патриции Хайсмит и о том, как она (я представляю себе это так) ходила по темной, мокрой улице за объектом своей обсессии, смотрела на неё из-за ветвей, потом шла домой и писала об этом книгу, потом в экранизации этой книги снялась Кейт Бланшетт, и теперь тысячи сердец по всему миру принадлежат ей (а она и не в курсе). Ничего этого бы не было, если бы Патриция Хайсмит тогда подумала — иу, кринж какой-то. Не буду об этом писать.
Мне хочется, чтобы мы написали вот о чем-то таком — стыдном, дурацком, страшном, кринжевом, злом. Чтобы плюнули на ожидания и на то, как «правильно» делать, что «допустимо» чувствовать, а что «нерационально», «недобро» или «аморально», «неэтично», «бла-бла».
Написали — и прислали нам этот текст на опен-колл до 13 января: https://q-zine.online/#open-call
К черту смутное беспокойство, пора плюнуть кому-нибудь в глаз.
Legzo Casino
Legzo Casino официальный сайт - Вход в Легзо Казино онлайн
Играйте на официальном сайте Legzo Casino (Легзо Казино) в России. Лицензионные игровые автоматы, бездепозитные бонусы и турниры ждут вас!
❤9
Дэвид Гребер, «Фрагменты анархистской антропологии»:
«Много лет назад французский антрополог Жерар Альтаб написал книгу о Мадагаскаре «Угнетение и освобождение в воображении». Броская фраза. Мне кажется, она хорошо подходит к тому, что происходит во многих антропологических трудах. По большей части, то, что мы называем «идентичностями», здесь в «слишком развитом мире», как его любит называть Пол Гилрой, навязано людям. В США это в большинстве случаев результат постоянного угнетения и неравенства. Тому, кто считается «чёрным», не позволяется забыть об этом ни на секунду своего существования; его или её самоопределение не существенно для банкира, отказывающего в кредите, или полицейского, который задерживает его за нахождение не в том районе, или доктора, который в случае повреждения конечности будет склонен рекомендовать ампутацию. Все попытки индивидуального или коллективного формирования своего «Я» либо самоосмысления вынуждены производиться целиком в пределах этих чрезвычайно насильственных наборов ограничений. (Единственный действенный способ изменить отношение тех, кого принято определять как «белых», это, в конечном счёте, вероятно, уничтожение самой категории «белокожих».) Однако никто не имеет представления о том, как большинство людей в Северной Америке стали бы определять себя, если бы институциональный расизм действительно исчез, если бы каждому была предоставлена свобода позиционировать себя так, как он сам пожелает. Но и смысла обсуждать это тоже нет. Вопрос заключается в том, как создать ситуацию, в которой мы смогли бы это увидеть.
Вот что я подразумеваю под «освобождением в воображении». Подумать о том, какой бы стала жизнь в мире, где каждый в действительности обладает правом решать сам за себя, индивидуально и коллективно, к каким сообществам люди пожелали бы принадлежать и какого рода идентичности они захотели бы принять — вот это по-настоящему сложно. Чтобы добиться такого мира, необходимо преодолеть невообразимые препятствия. Нужно было бы изменить почти всё. Мы натолкнулись бы на упрямое и насильственное противостояние со стороны тех, кто получает больше всего выгоды от существующего устройства общества. Наоборот, писать так, как будто бы эти идентичности уже свободно созданы или близки к тому, легко, и это полностью избавляет от сложных, трудноразрешимых вопросов, по отношению к которым собственная работа автора является частью той самой «машины идентичностей». Но это реализует концепцию не больше, чем разговоры о «позднем капитализме», который сам по себе придёт к индустриальному коллапсу или будущей социальной революции».
«Много лет назад французский антрополог Жерар Альтаб написал книгу о Мадагаскаре «Угнетение и освобождение в воображении». Броская фраза. Мне кажется, она хорошо подходит к тому, что происходит во многих антропологических трудах. По большей части, то, что мы называем «идентичностями», здесь в «слишком развитом мире», как его любит называть Пол Гилрой, навязано людям. В США это в большинстве случаев результат постоянного угнетения и неравенства. Тому, кто считается «чёрным», не позволяется забыть об этом ни на секунду своего существования; его или её самоопределение не существенно для банкира, отказывающего в кредите, или полицейского, который задерживает его за нахождение не в том районе, или доктора, который в случае повреждения конечности будет склонен рекомендовать ампутацию. Все попытки индивидуального или коллективного формирования своего «Я» либо самоосмысления вынуждены производиться целиком в пределах этих чрезвычайно насильственных наборов ограничений. (Единственный действенный способ изменить отношение тех, кого принято определять как «белых», это, в конечном счёте, вероятно, уничтожение самой категории «белокожих».) Однако никто не имеет представления о том, как большинство людей в Северной Америке стали бы определять себя, если бы институциональный расизм действительно исчез, если бы каждому была предоставлена свобода позиционировать себя так, как он сам пожелает. Но и смысла обсуждать это тоже нет. Вопрос заключается в том, как создать ситуацию, в которой мы смогли бы это увидеть.
Вот что я подразумеваю под «освобождением в воображении». Подумать о том, какой бы стала жизнь в мире, где каждый в действительности обладает правом решать сам за себя, индивидуально и коллективно, к каким сообществам люди пожелали бы принадлежать и какого рода идентичности они захотели бы принять — вот это по-настоящему сложно. Чтобы добиться такого мира, необходимо преодолеть невообразимые препятствия. Нужно было бы изменить почти всё. Мы натолкнулись бы на упрямое и насильственное противостояние со стороны тех, кто получает больше всего выгоды от существующего устройства общества. Наоборот, писать так, как будто бы эти идентичности уже свободно созданы или близки к тому, легко, и это полностью избавляет от сложных, трудноразрешимых вопросов, по отношению к которым собственная работа автора является частью той самой «машины идентичностей». Но это реализует концепцию не больше, чем разговоры о «позднем капитализме», который сам по себе придёт к индустриальному коллапсу или будущей социальной революции».
🔥4
Forwarded from Мамлыга WB
Проговорим несколько важных вещей, связанных с новым законом о пропаганде, который был подписан и вступил в действие 5-го декабря. Оставим за скобками очевидную вещь, что это несправедливый, неправовой закон, которого вообще не должно быть.
1. Закон разграничивает понятия «пропаганда» и «демонстрация». И если книги с «пропагандой» запрещено продавать и писать о них тоже нельзя, то с «демонстрацией» все обстоит примерно так, как было раньше с книгами 18+.
2. Где та заветная грань? Как отличить одно от другого? Никто доподлинно этого не знает, закон дает только самые приблизительные ориентиры. Либо, можно пользоваться аналогией закона 2013 года – мол, нельзя про социальную равноценность говорить гомосексуальных и гетеросексуальных отношений.
3. Эта грань не видна именно с расчётом на самоцензуру. Штрафы и приостановка деятельности на 90 дней – довольно серьезные наказания. Если одни издательства/магазины это легко переживут, другие нет – теоретически для малышей это может означать разорение/закрытие.
4. Именно поэтому некоторые издательства/магазины приостановили (курсивом) продажу некоторых книг, часть – изъяли из продажи. Сейчас все пытаются разобраться в ситуации и оценить риски.
5. Значит ли это, что книжное сообщество сдалось? Нет, не значит. Во-первых, можно запастись заранее экспертизами, из которых будет следовать, что это «демонстрация», а «не пропаганда» - их сейчас некоторые готовят. Во-вторых, можно просто считать по умолчанию, что все, что касается ЛГБТК+ в книгах – это «демонстрация» по умолчанию, пока не доказано обратное – так тоже некоторые издательства решили сделать, оставив книги в продаже и не привлекая к ним сейчас внимания. Это вполне себе рабочие стратегии - рискованные, но рабочие.
6. Есть еще несколько выходов, которыми, как я думаю, вскоре воспользуются некоторые издательства. Это, с одной стороны, открытие зарубежных представительств и продажа книг русскоязычным в странах СНГ и Европе, где нет такого законодательства. Это вполне себе реально – посмотрите, например, топы продаж в казахстанских книжных магазинах (да-да, скоро мы будем ездить в книжные туры в Казахстан). С другой стороны, это открытие зарубежных издательств, которые изначально не будут ориентироваться на российский рынок, но будут ориентироваться на русскоязычную публику в мире в целом – а она немаленькая.
7. Значит ли это, что все в целом в порядке? Нет, не значит. Спустя неделю мы не увидели начала громких процессов по пропаганде – но это не значит, что мы не увидим их впредь. Важно, что это будут именно что суды – и есть только маленькая вероятность того, что не удастся эти процессы сделать публичными. Насколько мне известно, некоторые игроки книжного рынка уже к этим судам готовятся – и намерены побороться.
8. Нужно относиться к спискам «запрещенки», гуляющим по интернету весьма осторожно и не наводить панику. Без контекста часто трудно понять к чему именно относится список и как его интерпретировать. Это изъятие или приостановка продажи? Это внутренний список для сотрудников, чтобы оценить риски или список, который отсылается в книжные сети? Будьте осторожны с выводами и репостами.
9. Когда все это закончится? Никто не знает. Понятно, что многие пользуются ситуацией, чтобы свернуть те немногие права и свободы, которые у нас есть. Но я правда уверен, что как только изменится статус кво, можно будет уже говорить о новых шагах – в стороны их «развертывания».
10. Что можно сделать сейчас? Поддерживать друг друга, любимые книжные магазины, любимые издательства. Помните, несмотря на обстоятельства, мы продолжаем оставаться архитекторами своего маленького мира – и мы в ответе за то, каким он, хотя бы в некоторых частях, может быть. Не пинайте лишний раз никого (особенно издательства, книжные и т.п., кто сейчас оказался действительно в трудном положении), подумайте лишний раз какая информация может быть использована против вас и ваших любимых, не распространяйте ненависть, только любовь.
1. Закон разграничивает понятия «пропаганда» и «демонстрация». И если книги с «пропагандой» запрещено продавать и писать о них тоже нельзя, то с «демонстрацией» все обстоит примерно так, как было раньше с книгами 18+.
2. Где та заветная грань? Как отличить одно от другого? Никто доподлинно этого не знает, закон дает только самые приблизительные ориентиры. Либо, можно пользоваться аналогией закона 2013 года – мол, нельзя про социальную равноценность говорить гомосексуальных и гетеросексуальных отношений.
3. Эта грань не видна именно с расчётом на самоцензуру. Штрафы и приостановка деятельности на 90 дней – довольно серьезные наказания. Если одни издательства/магазины это легко переживут, другие нет – теоретически для малышей это может означать разорение/закрытие.
4. Именно поэтому некоторые издательства/магазины приостановили (курсивом) продажу некоторых книг, часть – изъяли из продажи. Сейчас все пытаются разобраться в ситуации и оценить риски.
5. Значит ли это, что книжное сообщество сдалось? Нет, не значит. Во-первых, можно запастись заранее экспертизами, из которых будет следовать, что это «демонстрация», а «не пропаганда» - их сейчас некоторые готовят. Во-вторых, можно просто считать по умолчанию, что все, что касается ЛГБТК+ в книгах – это «демонстрация» по умолчанию, пока не доказано обратное – так тоже некоторые издательства решили сделать, оставив книги в продаже и не привлекая к ним сейчас внимания. Это вполне себе рабочие стратегии - рискованные, но рабочие.
6. Есть еще несколько выходов, которыми, как я думаю, вскоре воспользуются некоторые издательства. Это, с одной стороны, открытие зарубежных представительств и продажа книг русскоязычным в странах СНГ и Европе, где нет такого законодательства. Это вполне себе реально – посмотрите, например, топы продаж в казахстанских книжных магазинах (да-да, скоро мы будем ездить в книжные туры в Казахстан). С другой стороны, это открытие зарубежных издательств, которые изначально не будут ориентироваться на российский рынок, но будут ориентироваться на русскоязычную публику в мире в целом – а она немаленькая.
7. Значит ли это, что все в целом в порядке? Нет, не значит. Спустя неделю мы не увидели начала громких процессов по пропаганде – но это не значит, что мы не увидим их впредь. Важно, что это будут именно что суды – и есть только маленькая вероятность того, что не удастся эти процессы сделать публичными. Насколько мне известно, некоторые игроки книжного рынка уже к этим судам готовятся – и намерены побороться.
8. Нужно относиться к спискам «запрещенки», гуляющим по интернету весьма осторожно и не наводить панику. Без контекста часто трудно понять к чему именно относится список и как его интерпретировать. Это изъятие или приостановка продажи? Это внутренний список для сотрудников, чтобы оценить риски или список, который отсылается в книжные сети? Будьте осторожны с выводами и репостами.
9. Когда все это закончится? Никто не знает. Понятно, что многие пользуются ситуацией, чтобы свернуть те немногие права и свободы, которые у нас есть. Но я правда уверен, что как только изменится статус кво, можно будет уже говорить о новых шагах – в стороны их «развертывания».
10. Что можно сделать сейчас? Поддерживать друг друга, любимые книжные магазины, любимые издательства. Помните, несмотря на обстоятельства, мы продолжаем оставаться архитекторами своего маленького мира – и мы в ответе за то, каким он, хотя бы в некоторых частях, может быть. Не пинайте лишний раз никого (особенно издательства, книжные и т.п., кто сейчас оказался действительно в трудном положении), подумайте лишний раз какая информация может быть использована против вас и ваших любимых, не распространяйте ненависть, только любовь.
❤27
Сегодня в чатике с подружками обсуждали мечты и цели — и чем одно отличается от другого. Свои размышления захотелось сохранить, потому что это прямо он — #коучинг #консультирование (хотя я сейчас думаю, чтобы назвать свою работу чуть-чуть по-другому).
Почему мы чего-то (вроде) хотим, но ничего для этого не делаем и копим фрустрацию?
Во-первых, например, это может быть мечта. Мечта — это не цель, это скорее «направление», с которым можно сверяться. Но все же мечты довольно абстрактны и, как мне видится, именно в том виде, в котором они формулируются, недостижимы (иначе они были бы целью, а не мечтой). Потому что они собраны не из реальных опытов, а из некоторого набора фантазий о том, как что-то выглядит и ощущается.
При этом про мечты можно думать и разговаривать в двух контекстах: сначала — чьи это на самом деле мечты, откуда они взялись, не подсунул ли нам их кто-то (мама, консилиум «важных взрослых», общество или моральный камертон нашего пузыря). И, вторым порядком, а какие чувства упакованы в наши мечтательные картины? Чего мы на самом деле хотим, когда мечтаем о музыкальной карьере или домике в лесу? Какие наши ценности и ориентиры в этом запрятаны и как их вытащить на свет божий? Многие из этих находок можно потом сформулировать в цель.
Во-вторых, наше «хочу» может быть целью: измеримой, достижимой, в зоне нашего контроля. Дальше начинается разница между «я хочу» и «я делаю», и это ужасно интересное пространство. Как пересекаются наши желания и то, что мы делаем бОльшую часть дня, на что мы тратим наше внимание? Например, мы говорим, что хотим ЗОЖ и ПП, но каждый день находятся дела поважнее, чем спортзальчик, и еда повкуснее, чем курогрудь. Или мы говорим, что хотим денег, но ходим на одну и ту же работу десять лет. Или, например, мы хотим принятия, но чаще критикуем себя и сомневаемся в себе, чем себя принимаем. Это — пространство диссонанса.
Причина диссонанса чаще всего в том, что нам очень хочется иметь некое Х, но делать мы хотим то же самое, что уже делаем: условно, мы хотим не переехать в другую страну, а взять нашу текущую жизнь и копипастнуть её в Париж. Или, например, мы завидуем банкиру на порше, но мы не хотим жизнь банкира — мы хотим свою жизнь, в которой есть порш.
То есть: я хочу делать то, что я делаю, но при этом иметь то, что я хочу. Между мной-тут и мной-там лежит целая прорва изменений всего на свете: например, чтобы переехать, мне нужно отказаться от своего города, своей работы, своих коллег, своей кофейни и своих способов жить свою жизнь, и стать условным айтишником, пойти работать в корпорацию, отказаться от активной роли в обществе и много лет жить в арендованной квартире. Конечно, в целевой ситуации могут быть хорошие для меня вещи, иначе эта вещь меня бы не манила, но в то же время мне нужно стать во многих сферах другим человеком, выбрать то, что иначе я бы не выбрала. И это — реальность собственно делания штук в сторону своей цели. Делание штук предполагает изменения. И дальше уже стоит ответить на вопрос соизмеримости того, что нужно с собой сделать, чтобы этой цели достичь. Иными словами, действительно ли сила моего хотения или сила важности этой штуки настолько сильна, чтобы меняться именно в эту сторону, именно сейчас, именно вот таким вот образом, перестать жить свою жизнь и начать жить какую-то другую.
Для целей работают те же принципы булшит-метра: а это мои цели? А их мне не подбросили? А что в этих целях меня так привлекает? А как я себя буду чувствовать, когда буду двигаться к этим целям? А как я себя почувствую, когда их достигну? А каким я буду там, на той стороне? Потому что еще сложнее заставить себя двигаться к цели, которую за тебя согласовали некие «другие» («ну как же так, все этого хотят / конечно, нужно этого хотеть»). (Слишком) часто оказывается, что мы живем внутри ложных целей, которые связаны с внешним миром или другими людьми (а значит, не находятся в зоне нашего контроля). Но это, как водится, уже чуть-чуть другая история.
Почему мы чего-то (вроде) хотим, но ничего для этого не делаем и копим фрустрацию?
Во-первых, например, это может быть мечта. Мечта — это не цель, это скорее «направление», с которым можно сверяться. Но все же мечты довольно абстрактны и, как мне видится, именно в том виде, в котором они формулируются, недостижимы (иначе они были бы целью, а не мечтой). Потому что они собраны не из реальных опытов, а из некоторого набора фантазий о том, как что-то выглядит и ощущается.
При этом про мечты можно думать и разговаривать в двух контекстах: сначала — чьи это на самом деле мечты, откуда они взялись, не подсунул ли нам их кто-то (мама, консилиум «важных взрослых», общество или моральный камертон нашего пузыря). И, вторым порядком, а какие чувства упакованы в наши мечтательные картины? Чего мы на самом деле хотим, когда мечтаем о музыкальной карьере или домике в лесу? Какие наши ценности и ориентиры в этом запрятаны и как их вытащить на свет божий? Многие из этих находок можно потом сформулировать в цель.
Во-вторых, наше «хочу» может быть целью: измеримой, достижимой, в зоне нашего контроля. Дальше начинается разница между «я хочу» и «я делаю», и это ужасно интересное пространство. Как пересекаются наши желания и то, что мы делаем бОльшую часть дня, на что мы тратим наше внимание? Например, мы говорим, что хотим ЗОЖ и ПП, но каждый день находятся дела поважнее, чем спортзальчик, и еда повкуснее, чем курогрудь. Или мы говорим, что хотим денег, но ходим на одну и ту же работу десять лет. Или, например, мы хотим принятия, но чаще критикуем себя и сомневаемся в себе, чем себя принимаем. Это — пространство диссонанса.
Причина диссонанса чаще всего в том, что нам очень хочется иметь некое Х, но делать мы хотим то же самое, что уже делаем: условно, мы хотим не переехать в другую страну, а взять нашу текущую жизнь и копипастнуть её в Париж. Или, например, мы завидуем банкиру на порше, но мы не хотим жизнь банкира — мы хотим свою жизнь, в которой есть порш.
То есть: я хочу делать то, что я делаю, но при этом иметь то, что я хочу. Между мной-тут и мной-там лежит целая прорва изменений всего на свете: например, чтобы переехать, мне нужно отказаться от своего города, своей работы, своих коллег, своей кофейни и своих способов жить свою жизнь, и стать условным айтишником, пойти работать в корпорацию, отказаться от активной роли в обществе и много лет жить в арендованной квартире. Конечно, в целевой ситуации могут быть хорошие для меня вещи, иначе эта вещь меня бы не манила, но в то же время мне нужно стать во многих сферах другим человеком, выбрать то, что иначе я бы не выбрала. И это — реальность собственно делания штук в сторону своей цели. Делание штук предполагает изменения. И дальше уже стоит ответить на вопрос соизмеримости того, что нужно с собой сделать, чтобы этой цели достичь. Иными словами, действительно ли сила моего хотения или сила важности этой штуки настолько сильна, чтобы меняться именно в эту сторону, именно сейчас, именно вот таким вот образом, перестать жить свою жизнь и начать жить какую-то другую.
Для целей работают те же принципы булшит-метра: а это мои цели? А их мне не подбросили? А что в этих целях меня так привлекает? А как я себя буду чувствовать, когда буду двигаться к этим целям? А как я себя почувствую, когда их достигну? А каким я буду там, на той стороне? Потому что еще сложнее заставить себя двигаться к цели, которую за тебя согласовали некие «другие» («ну как же так, все этого хотят / конечно, нужно этого хотеть»). (Слишком) часто оказывается, что мы живем внутри ложных целей, которые связаны с внешним миром или другими людьми (а значит, не находятся в зоне нашего контроля). Но это, как водится, уже чуть-чуть другая история.
❤29🔥4👍1
Разделяете ли вы озабоченность Джорджо Агамбена, что индустрия безопасности и слежения растёт в ущерб нашим свободам, пользуясь этим кризисом?
Мне кажется, ситуация с пандемией на деле доказывает обратное тому, что пытаются доказать некоторые люди — якобы имеются некие вездесущие силы безопасности, контролирующие наш разум и тела. Пандемия породила не столько общество контроля, сколько общество рассредоточения. Я думаю, что существует серьёзная паранойя, связанная с самой концепцией биополитики, которая прибавилась к старой паранойе марксистской логики, которая всегда указывает на великую скрытую силу. Всё это привело к ситуации, когда большинство мыслящих людей, желающих быть в оппозиции, разделяет эту одержимость существованием непреодолимой силы, которая овладевает нашим разумом и телами. И если считать, что репрезентации — это не праздные идеи, а способ организации воспринимаемого нами мира, то поверить в существование такой силы означает привести её в движение.
[Из интервью с Жаком Рансьером]
Deep shit на самом деле: если мы верим в некоторую непреодолимую силу, определяющую нашу жизнь, и с ней начинаем бороться, то само наше представление о том, как эта сила выглядит и как действует, делает её реальной.
Мне кажется, ситуация с пандемией на деле доказывает обратное тому, что пытаются доказать некоторые люди — якобы имеются некие вездесущие силы безопасности, контролирующие наш разум и тела. Пандемия породила не столько общество контроля, сколько общество рассредоточения. Я думаю, что существует серьёзная паранойя, связанная с самой концепцией биополитики, которая прибавилась к старой паранойе марксистской логики, которая всегда указывает на великую скрытую силу. Всё это привело к ситуации, когда большинство мыслящих людей, желающих быть в оппозиции, разделяет эту одержимость существованием непреодолимой силы, которая овладевает нашим разумом и телами. И если считать, что репрезентации — это не праздные идеи, а способ организации воспринимаемого нами мира, то поверить в существование такой силы означает привести её в движение.
[Из интервью с Жаком Рансьером]
Deep shit на самом деле: если мы верим в некоторую непреодолимую силу, определяющую нашу жизнь, и с ней начинаем бороться, то само наше представление о том, как эта сила выглядит и как действует, делает её реальной.
Cineticle | Интернет-журнал об авторском кино
Жак Рансьер: «Задача в том, чтобы сохранять несогласие»
О Covid-кризисе, политических потрясениях, искусстве и кино, а также о социальных сетях
😁2🤔1
Под конец прошлого года мы читали Томаса Гоббса и я впервые узнала, что он в буквальном смысле занимался исследованиями собственного пупка:
Есть, однако, другая поговорка, которую в последнее время перестали понимать и следуя которой указанные лица, если бы постарались, могли бы действительно научиться читать друг друга. Это именно афоризм nosce te ipsum, читай самого себя. Смысл этого афоризма сводится не к тому, чтобы, как это стало теперь обыкновением, поощрять людей власть имущих к варварскому отношению к людям, стоящим ниже их, или подстрекать людей низкого происхождения к дерзкому поведению по отношению к людям вышестоящим, а к тому, чтобы поучать нас, что в силу сходства мыслей и страстей одного человека с мыслями и страстями другого всякий, кто будет смотреть внутрь себя и соображать, что он делает, когда он мыслит, предполагает, рассуждает, надеется, боится и т. д., и по каким мотивам он это делает, будет при этом читать и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти всех других людей. Я говорю о сходстве самих страстей, которые одинаковы у всех людей,- о желании, страхе, надежде и т. п., а не о сходстве объектов этих страстей, т. е. вещей, которых желают, боятся, на которые надеются и т. п., ибо последние различаются в зависимости от индивидуального устройства человека и особенностей его воспитания и легко ускользают от нашего познания, так что буквы человеческой души, загрязненные и запутанные обычно притворством, ложью, лицемерием и ошибочными учениями (doctrines), разборчивы только для того, кто ведает наши сердца. И хотя при наблюдении действий людей мы можем иногда открыть их намерения, однако делать это без сопоставления с нашими собственными намерениями и без различения всех обстоятельств, могущих внести изменения в дело, все равно что расшифровывать без ключа, и в большинстве случаев это значит быть обманутым или в силу слишком большой доверчивости, или в силу слишком большого недоверия в зависимости от того, является ли сам читатель в человеческих сердцах хорошим или плохим человеком.
Впрочем, как бы превосходно один человек ни читал в другом на основе его действий, он это может осуществить лишь по отношению к своим знакомым, число которых ограниченно. Тот же, кто должен управлять целым народом, должен постичь (to read) в самом себе не того или другого отдельного человека, а человеческий род. И хотя это трудно сделать, труднее, чем изучить какой-нибудь язык или отрасль знания, однако, после того как я изложу то, что читаю в самом себе, в методической и ясной форме, другим останется лишь рассмотреть, не находят ли они то же самое также и в самих себе. Ибо этого рода объекты познания не допускают никакого другого доказательства.
После этого замечательного текста, приведенного Гоббсом в введении «Левиафана», читать эту книгу иначе чем через призму «проблемы, которые могли бы быть решены шестью тире десятью годами психотерапии» сложно. И тем не менее, это один ключевых текстов в философии и теории государственного управления, и он написан параноидальным агрессивным дядькой, у которого слуги и дети воруют вилки, и поэтому необходимо утвердить абсолют государственной власти по всей земле (пример с вилками не выдуманный, к сожалению). И вот поэтому просто сбросить с корабля истории этот текст не получится: это действительно инсайт в образ мышления властьдержащих, и популярен Левиафан именно потому, что властьдержащие боятся, что слуги и дети украдут у них вилки, они вообще до одури боятся людей, потому что смотрят во тьму внутри своего пупка и думают, что все вокруг точно такие же. И этот текст старичка Гоббса, и описанные им идеи реальны и важны ровно в той степени, в которой они могут нас убить.
Вот такая у меня для вас сегодня критика классической философии.
Есть, однако, другая поговорка, которую в последнее время перестали понимать и следуя которой указанные лица, если бы постарались, могли бы действительно научиться читать друг друга. Это именно афоризм nosce te ipsum, читай самого себя. Смысл этого афоризма сводится не к тому, чтобы, как это стало теперь обыкновением, поощрять людей власть имущих к варварскому отношению к людям, стоящим ниже их, или подстрекать людей низкого происхождения к дерзкому поведению по отношению к людям вышестоящим, а к тому, чтобы поучать нас, что в силу сходства мыслей и страстей одного человека с мыслями и страстями другого всякий, кто будет смотреть внутрь себя и соображать, что он делает, когда он мыслит, предполагает, рассуждает, надеется, боится и т. д., и по каким мотивам он это делает, будет при этом читать и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти всех других людей. Я говорю о сходстве самих страстей, которые одинаковы у всех людей,- о желании, страхе, надежде и т. п., а не о сходстве объектов этих страстей, т. е. вещей, которых желают, боятся, на которые надеются и т. п., ибо последние различаются в зависимости от индивидуального устройства человека и особенностей его воспитания и легко ускользают от нашего познания, так что буквы человеческой души, загрязненные и запутанные обычно притворством, ложью, лицемерием и ошибочными учениями (doctrines), разборчивы только для того, кто ведает наши сердца. И хотя при наблюдении действий людей мы можем иногда открыть их намерения, однако делать это без сопоставления с нашими собственными намерениями и без различения всех обстоятельств, могущих внести изменения в дело, все равно что расшифровывать без ключа, и в большинстве случаев это значит быть обманутым или в силу слишком большой доверчивости, или в силу слишком большого недоверия в зависимости от того, является ли сам читатель в человеческих сердцах хорошим или плохим человеком.
Впрочем, как бы превосходно один человек ни читал в другом на основе его действий, он это может осуществить лишь по отношению к своим знакомым, число которых ограниченно. Тот же, кто должен управлять целым народом, должен постичь (to read) в самом себе не того или другого отдельного человека, а человеческий род. И хотя это трудно сделать, труднее, чем изучить какой-нибудь язык или отрасль знания, однако, после того как я изложу то, что читаю в самом себе, в методической и ясной форме, другим останется лишь рассмотреть, не находят ли они то же самое также и в самих себе. Ибо этого рода объекты познания не допускают никакого другого доказательства.
После этого замечательного текста, приведенного Гоббсом в введении «Левиафана», читать эту книгу иначе чем через призму «проблемы, которые могли бы быть решены шестью тире десятью годами психотерапии» сложно. И тем не менее, это один ключевых текстов в философии и теории государственного управления, и он написан параноидальным агрессивным дядькой, у которого слуги и дети воруют вилки, и поэтому необходимо утвердить абсолют государственной власти по всей земле (пример с вилками не выдуманный, к сожалению). И вот поэтому просто сбросить с корабля истории этот текст не получится: это действительно инсайт в образ мышления властьдержащих, и популярен Левиафан именно потому, что властьдержащие боятся, что слуги и дети украдут у них вилки, они вообще до одури боятся людей, потому что смотрят во тьму внутри своего пупка и думают, что все вокруг точно такие же. И этот текст старичка Гоббса, и описанные им идеи реальны и важны ровно в той степени, в которой они могут нас убить.
Вот такая у меня для вас сегодня критика классической философии.
🔥6❤4🤔1
Вот тут захотелось посреди ночи взбухнуть (зря что ли я чуть не отучилась на урбаниста в жирные десятые, вот бы сейчас смешно было).
450 рублей за парковку в центре Москвы — заградительная цена. Иными словами, она настолько по-идиотски огромная, что сама по себе мотивирует автовладельца предпочесть другие виды транспорта (шеринговые: общественный транспорт или такси) и не катить свои бесполезные четыре колесика с одним человеком внутри на и без того перегруженные улицы. Такая же логика есть у подписных сервисов, когда на опции, которые они не хотят, чтобы вы выбирали, ставят безрассудно высокий ценник, переводя таким образом массы в другие опции. Ну а если уж наш автовладелец настолько богат или «ну один разочек катнусь», то он приносит в городской бюджет приятные деньжишки. Но основная цель все равно — сделать так, чтобы поменьше людей на собственных машинах тащилось в центр.
Далее: общественный транспорт безусловно убыточен (думаю, в любой стране мира) и держится на городском бюджете / дотациях, но все еще небольшая зависимость есть: чем больше людей пересаживается на общественный транспорт, тем дешевле «единица поездки». И очень вероятно, что, опять же, как и в куче подписных сервисов / платформ (яндекс-кс-кс-так-кх-кх-си), в московском общественном транспорте заложена кривая роста цены после «набора базы» — сначала раздаем все очень дешево, чтобы люди привыкли, и затем постепенно повышаем цену на иглу, с которой людям уже сложно слезть.
Почему транспорт в Москве стоит дешевле — надо ковыряться в бюджете, но две мысли есть. Во-первых, эффект масштаба инфраструктуры: в Москве огромное метро, которое просто более маржинально, что вероятно тоже влияет на цену проезда (условно говоря, каждый следующий вагончик или квадратный километр полотна содержать чуть дешевле, чем предыдущий, и в итоге средняя цена получается меньше). Во-вторых, то же питерское метро (я предполагаю, опираясь на мемы про город на болоте) построено в довольно сложном грунте + частично в воде, содержать его и вводить новые станции дороже и технологически сложнее.
Наконец, соотношение размера инфраструктуры к количеству пользователей/пассажиров. В 2021 году питерский общественный транспорт (весь целиком) совершил 1,3 млрд поездок. Московский — 6 млрд. При этом ожидается одинаковый уровень сервиса, доступности, времени ожидания и так далее. Капиталистическая логика сурова и так не работает: новые опции появляются в ответ на спрос. Ну и да: чем больше людей, тем дешевле поездка.
При этом конечно перекосов наверняка дохера, надо смотреть, где например региональные транспортные компании платят налоги, и как распределяется весь этот городской говно-бюджет (наверняка несправедливо). Но и нюансики есть, че уж.
450 рублей за парковку в центре Москвы — заградительная цена. Иными словами, она настолько по-идиотски огромная, что сама по себе мотивирует автовладельца предпочесть другие виды транспорта (шеринговые: общественный транспорт или такси) и не катить свои бесполезные четыре колесика с одним человеком внутри на и без того перегруженные улицы. Такая же логика есть у подписных сервисов, когда на опции, которые они не хотят, чтобы вы выбирали, ставят безрассудно высокий ценник, переводя таким образом массы в другие опции. Ну а если уж наш автовладелец настолько богат или «ну один разочек катнусь», то он приносит в городской бюджет приятные деньжишки. Но основная цель все равно — сделать так, чтобы поменьше людей на собственных машинах тащилось в центр.
Далее: общественный транспорт безусловно убыточен (думаю, в любой стране мира) и держится на городском бюджете / дотациях, но все еще небольшая зависимость есть: чем больше людей пересаживается на общественный транспорт, тем дешевле «единица поездки». И очень вероятно, что, опять же, как и в куче подписных сервисов / платформ (яндекс-кс-кс-так-кх-кх-си), в московском общественном транспорте заложена кривая роста цены после «набора базы» — сначала раздаем все очень дешево, чтобы люди привыкли, и затем постепенно повышаем цену на иглу, с которой людям уже сложно слезть.
Почему транспорт в Москве стоит дешевле — надо ковыряться в бюджете, но две мысли есть. Во-первых, эффект масштаба инфраструктуры: в Москве огромное метро, которое просто более маржинально, что вероятно тоже влияет на цену проезда (условно говоря, каждый следующий вагончик или квадратный километр полотна содержать чуть дешевле, чем предыдущий, и в итоге средняя цена получается меньше). Во-вторых, то же питерское метро (я предполагаю, опираясь на мемы про город на болоте) построено в довольно сложном грунте + частично в воде, содержать его и вводить новые станции дороже и технологически сложнее.
Наконец, соотношение размера инфраструктуры к количеству пользователей/пассажиров. В 2021 году питерский общественный транспорт (весь целиком) совершил 1,3 млрд поездок. Московский — 6 млрд. При этом ожидается одинаковый уровень сервиса, доступности, времени ожидания и так далее. Капиталистическая логика сурова и так не работает: новые опции появляются в ответ на спрос. Ну и да: чем больше людей, тем дешевле поездка.
При этом конечно перекосов наверняка дохера, надо смотреть, где например региональные транспортные компании платят налоги, и как распределяется весь этот городской говно-бюджет (наверняка несправедливо). Но и нюансики есть, че уж.
🔥14🤔2
Агамбену эта жизнь уже абсолютно понятна, конечно.
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
☭☭☭ Джорджо Агамбен:
Люди настолько привыкли жить в условиях вечного кризиса и вечного чрезвычайного положения, что, похоже, не замечают, что их жизнь сведена к чисто биологическому состоянию и лишилась не только всех социальных и политических свойств, но и человеческих и эмоциональных. Общество, живущее в условиях многолетнего чрезвычайного положения, не может быть свободным обществом. На самом деле мы живем в обществе, которое пожертвовало свободой ради так называемых соображений безопасности и поэтому обрекло себя на жизнь в вечном состоянии страха и незащищенности.
Люди настолько привыкли жить в условиях вечного кризиса и вечного чрезвычайного положения, что, похоже, не замечают, что их жизнь сведена к чисто биологическому состоянию и лишилась не только всех социальных и политических свойств, но и человеческих и эмоциональных. Общество, живущее в условиях многолетнего чрезвычайного положения, не может быть свободным обществом. На самом деле мы живем в обществе, которое пожертвовало свободой ради так называемых соображений безопасности и поэтому обрекло себя на жизнь в вечном состоянии страха и незащищенности.
😱7❤2
«Граница между тем, что считается «государством» и «обществом», постоянно меняется в зависимости от политической ситуации. В качестве примера Митчелл приводит случай с консорциумом «Арамко». После повышения в 1940-х годах арабскими властями налога с 12% до 50 % прибыли американские нефтяные компании, входившие в этот консорциум, встали перед сложным выбором. Вместо того чтобы поднять цены на рынке США или урезать собственные прибыли, корпорации договорились с федеральным правительством рассматривать их увеличившиеся платежи шейхам как своего рода прямой иностранный налог, и таким образом они были освобождены от эквивалентной суммы налогов, поступавших в федеральный бюджет США. В этом случае демаркация границы между «частными» нефтяными компаниями (которые тем не менее были настолько сильны, что смогли прямо повлиять на решение федерального правительства) и «государством» позволила вывести из сферы общественного обсуждения политическое решение о поддержке консервативных режимов на Среднем Востоке за счет американских налогоплательщиков: ведь государство не может вмешиваться в дела «частного бизнеса». Митчелл заключает: «Мы должны рассматривать такое противопоставление не как границу между двумя четкими отдельными единицами, а как линию, проводимую внутри сети институциональных механизмов, за счет которых и поддерживается социальный и политический порядок». Тогда задача состоит в изучении политических процессов, посредством которых определяется эта нечеткая и постоянно передвигаемая граница между государством и обществом.
<...>
Как получается, что некоторые люди начинают не просто рассматриваться как индивиды, а признаваться в качестве государственных служащих и таким образом наделяются возможностью управлять поведением других?
Здесь с ответом поможет Бурдье. Он считает, что
массы принимают своих начальников и начинают им
подчиняться не на уровне сознательного соглашения, а
на уровне принятия обыденных форм повседневной жизни. Подчинение государственной власти поэтому не является следствием открыто или имплицитно выраженного согласия, данного тем или иным гражданином легитимному правительству в ситуации первоначального общественного договора. Скорее, это подчинение всему ходу повседневной жизни, а вместе с ней и тем порожденным государством категориям, которые эту жизнь структурируют. Государственные чиновники производят для нас перечни профессий и квалификаций, академических званий и названий научных дисциплин, дают юридическую квалификацию наших действий и даже дарят нам классификацию памятных исторических событий, зафиксированных в череде официальных праздников. Люди не замечают сконструированный характер социального универсума, поскольку они вырастают в мире, уже упорядоченном в соответствии, например, с принципом легитимной значимости нуклеарной семьи (а не родоплеменных связей, как это могло бы быть), забывая о том, что в определенный исторический момент в результате государственного решения именно нуклеарная семья, а не род или другая форма организации воспроизводства людей была принята за единицу юридических обязательств и стала категорией многих официальных классификаций. Более или менее случайный исторический выбор, сертифицированный «государством», произвел ту категорию, с помощью которой мы теперь конструируем нашу нормальную повседневную реальность».
Олег Хархордин, «Основные понятия российской политики»
<...>
Как получается, что некоторые люди начинают не просто рассматриваться как индивиды, а признаваться в качестве государственных служащих и таким образом наделяются возможностью управлять поведением других?
Здесь с ответом поможет Бурдье. Он считает, что
массы принимают своих начальников и начинают им
подчиняться не на уровне сознательного соглашения, а
на уровне принятия обыденных форм повседневной жизни. Подчинение государственной власти поэтому не является следствием открыто или имплицитно выраженного согласия, данного тем или иным гражданином легитимному правительству в ситуации первоначального общественного договора. Скорее, это подчинение всему ходу повседневной жизни, а вместе с ней и тем порожденным государством категориям, которые эту жизнь структурируют. Государственные чиновники производят для нас перечни профессий и квалификаций, академических званий и названий научных дисциплин, дают юридическую квалификацию наших действий и даже дарят нам классификацию памятных исторических событий, зафиксированных в череде официальных праздников. Люди не замечают сконструированный характер социального универсума, поскольку они вырастают в мире, уже упорядоченном в соответствии, например, с принципом легитимной значимости нуклеарной семьи (а не родоплеменных связей, как это могло бы быть), забывая о том, что в определенный исторический момент в результате государственного решения именно нуклеарная семья, а не род или другая форма организации воспроизводства людей была принята за единицу юридических обязательств и стала категорией многих официальных классификаций. Более или менее случайный исторический выбор, сертифицированный «государством», произвел ту категорию, с помощью которой мы теперь конструируем нашу нормальную повседневную реальность».
Олег Хархордин, «Основные понятия российской политики»
❤7
Абсолютная и некритическая догматическая вера в Бога или Науку: найдите десять отличий
(1/3) В пару к этому посту хотела написать об изменениях. А именно: когда мы решаем, что вот какая-нибудь цель — это действительно наша цель, составляем какой-то планчик движения к этой цели и начинаем по нему двигаться, мы…меняемся. И вполне вероятно, к цели мы придем уже какими-нибудь новыми собой. «Ящик водки и всех обратно», точнее, «я с миллионом долларов в центре Парижа» — так уже не получится. Это будет какая-то другая «я».
Это не всегда приятное понимание. Но есть две поддерживающие меня идеи — одна из #коучинг #консультирование, другая из #буддизм, strangely enough.
#буддизм Одна из трех непреложных истин о нашей жизни — непостоянство всего, что нас окружает, и нас самих. Мы стремимся к постоянству и определенности, устойчивости и предсказуемости, но это — источник страдания, потому что природа мира зыбкая и текучая, а мы ей сопротивляемся. Мы хотим, чтобы наша жизнь была безопасной и комфортной, но мы — часть динамической системы, в которой все постоянно меняется без нашего контроля. Мы хотим найти тот способ поведения, который принесет нам стабильность, но все часто идет совсем не так, как мы ожидали.
Решение, которое предлагает буддизм: на самом деле, попуститься. Принять эту реальность такой, какая она есть: переменчивой, и себя таким, какой я есть: переменчивым. Наблюдать с интересом, а не со страхом и нервозным стремлением Все Контролировать. Видеть все, что происходит, хорошее и плохое, и без привязанности, предвзятости и оценивания. Не сопротивляться неопределенности, не искать Единственный Правильный Путь, который принесет постоянное ощущение стабильности и комфорта. Здесь, конечно, следует вопрос: как не сойти с ума? На этот вопрос буддизм, в общем, и отвечает: практиками, этическими принципами, рассуждениями и намерениями. Полностью отпустить и не сопротивляться переменам — это просветление, пробуждение нашей истинной природы, или, иначе говоря, свобода.
#коучинг Одна из предпосылок коучинга как метода — все меняется и мы меняемся, и эти изменения будут происходить всегда. Нет смысла им противиться, так как они неизбежны. Более того: до определенной степени нет смысла ставить себе задачу «измениться», так как это уже происходит — вопрос в том, что если нам кажется, что мы не меняемся, не сопротивляемся ли мы чему-либо или не скрываем от себя ли мы что-то? Вопрос один (и он в коучинге формулируется): в каком направлении мы меняемся и как мы можем направить эти изменения так, как нам кажется правильным, более подходящим для себя? Понятно, что на деле это далеко не всегда возможно, но такой взгляд позволяет нам занять агентную, субъектную позицию, где от нас как бы что-то зависит — как минимум, мы можем замечать, что с нами происходит, и не сопротивляться этому.
Звучит тоже до определенной степени невротично, особенно если вспомнить предыдущий абзац — где от контроля надо отказаться. Тут, на мой взгляд, на сцену цыганочкой выходит принцип принятия себя (чтоб ему пусто было).
Это не всегда приятное понимание. Но есть две поддерживающие меня идеи — одна из #коучинг #консультирование, другая из #буддизм, strangely enough.
#буддизм Одна из трех непреложных истин о нашей жизни — непостоянство всего, что нас окружает, и нас самих. Мы стремимся к постоянству и определенности, устойчивости и предсказуемости, но это — источник страдания, потому что природа мира зыбкая и текучая, а мы ей сопротивляемся. Мы хотим, чтобы наша жизнь была безопасной и комфортной, но мы — часть динамической системы, в которой все постоянно меняется без нашего контроля. Мы хотим найти тот способ поведения, который принесет нам стабильность, но все часто идет совсем не так, как мы ожидали.
Решение, которое предлагает буддизм: на самом деле, попуститься. Принять эту реальность такой, какая она есть: переменчивой, и себя таким, какой я есть: переменчивым. Наблюдать с интересом, а не со страхом и нервозным стремлением Все Контролировать. Видеть все, что происходит, хорошее и плохое, и без привязанности, предвзятости и оценивания. Не сопротивляться неопределенности, не искать Единственный Правильный Путь, который принесет постоянное ощущение стабильности и комфорта. Здесь, конечно, следует вопрос: как не сойти с ума? На этот вопрос буддизм, в общем, и отвечает: практиками, этическими принципами, рассуждениями и намерениями. Полностью отпустить и не сопротивляться переменам — это просветление, пробуждение нашей истинной природы, или, иначе говоря, свобода.
#коучинг Одна из предпосылок коучинга как метода — все меняется и мы меняемся, и эти изменения будут происходить всегда. Нет смысла им противиться, так как они неизбежны. Более того: до определенной степени нет смысла ставить себе задачу «измениться», так как это уже происходит — вопрос в том, что если нам кажется, что мы не меняемся, не сопротивляемся ли мы чему-либо или не скрываем от себя ли мы что-то? Вопрос один (и он в коучинге формулируется): в каком направлении мы меняемся и как мы можем направить эти изменения так, как нам кажется правильным, более подходящим для себя? Понятно, что на деле это далеко не всегда возможно, но такой взгляд позволяет нам занять агентную, субъектную позицию, где от нас как бы что-то зависит — как минимум, мы можем замечать, что с нами происходит, и не сопротивляться этому.
Звучит тоже до определенной степени невротично, особенно если вспомнить предыдущий абзац — где от контроля надо отказаться. Тут, на мой взгляд, на сцену цыганочкой выходит принцип принятия себя (чтоб ему пусто было).
❤12
(2/3) Изменения происходят, когда мы принимаем то, что уже есть. Да, со всеми косяками, со всеми недостаточностями, нехваточками и «да это ж не соответствует идеальной картинке» и «можно лучше». Нельзя выйти из зоны комфорта, если ты не знаешь, где находится твоя зона комфорта, из чего она состоит, что в ней должно быть, а чего в ней быть точно не должно. И это не рациональное упражнение (к сожалению): нет смысла воспроизводить в своей голове некую абстрактную комфортную конструкцию и вылетать из неё, как пробка (мол, ну все понятно же!). В зоне комфорта нужно побыть, чтобы понять что она реально твоя; реально комфортная; и да, твоя зона комфорта именно такова. Она может быть не такой, как у мамы и сына маминой подруги, она может не соответствовать твоим собственным представлениям о своем комфорте: это процесс экспериментов, ошибок, чувствования и принятия (бесит). На этом этапе приходится столкнуться со своими убеждениями (относительно себя), своими привычками (они упрямые), своими и чужими ожиданиями (эти вообще хуже тли). Как мне нравится отдыхать, что мне нравится носить, как мне нравится проводить время, какой график мне нравится жить и на какой стороне кровати спать. Мы не замечаем десятки и сотни компромиссов, на которые идем каждый божий день: потому что друзья, родители, коллеги, партнер, погода, умные люди в интернете, моральные нормативы, рационализм, нежелание идти на конфликты, собственная картинка в голове. Из этой позиции сложно меняться как-то субъектно: как жизнь с нами «происходит», так и изменения будут тащить куда-то, куда тащит тех людей, которых мы считаем своей референтной группой, с которыми мы себя соотносим.
Буддизм в этом плане помогает (мне): в нем цепляться за разумно и последовательно сформулированное «я» бессмысленно. Бессмысленно что-то о себе думать и за это держаться, потому что любое поползновение в сторону нашей уверенности о себе мы будем воспринимать как угрозу и биться до последней нервной клетки. Это ложная защита. Отказаться от неё неприятно (а как иначе-то), но нужно, если мы хотим получить шанс меняться как-то более соответственно именно нашим склонностям и намерениям, а не как нас унесет река общественных ожиданий, вбитых в голову конструкций и политического режима.
Буддизм в этом плане помогает (мне): в нем цепляться за разумно и последовательно сформулированное «я» бессмысленно. Бессмысленно что-то о себе думать и за это держаться, потому что любое поползновение в сторону нашей уверенности о себе мы будем воспринимать как угрозу и биться до последней нервной клетки. Это ложная защита. Отказаться от неё неприятно (а как иначе-то), но нужно, если мы хотим получить шанс меняться как-то более соответственно именно нашим склонностям и намерениям, а не как нас унесет река общественных ожиданий, вбитых в голову конструкций и политического режима.
❤11👍1
(3/3) И это повод для праздника!
«Часто первое же дуновение в сторону жесткой самоидентификации ввергает нас в кризис. Когда жизнь распадается на части, как это было со мной, когда я приехала в аббатство Гампо, то чувствуешь себя так, будто весь мир рушится. Но на самом деле рушится ваша самоидентификация. Как говорил нам Чогьям Трунгпа, ”это повод для праздника”».
Пема Чодрон
«Часто первое же дуновение в сторону жесткой самоидентификации ввергает нас в кризис. Когда жизнь распадается на части, как это было со мной, когда я приехала в аббатство Гампо, то чувствуешь себя так, будто весь мир рушится. Но на самом деле рушится ваша самоидентификация. Как говорил нам Чогьям Трунгпа, ”это повод для праздника”».
Пема Чодрон
🔥13