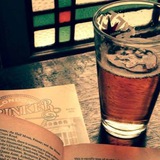Читаю «Хлопок одной ладонью: Как неживая природа породила человеческий разум» Николая Кукушкина и вспоминаю, что единственный нон-фикшен, который я люблю — это лирично-драматический нон-фикшен, откуда ты в итоге не вынесешь ни одного факта, потому что они в жизни тебе нафиг не уперлись, но вынесешь удивительно возвышенное созерцательное настроение.
С сегодняшней точки зрения интересно в теории Дарвина другое. Она не просто объясняет, как одни виды могут происходить из других: она объясняет, как все виды могут происходить из одного. Неважно какие: человек, птица, улитка, гриб, — все они в интерпретации Дарвина вдруг оказываются родственниками, параллельными ветвями одной и той же истории, начинающейся из одной точки. По Дарвину, все существующие виды — нынешние лидеры одной и той же бесконечной гонки за право не вымирать.
Теория Дарвина как бы добавила к человеческой картине мира дополнительное измерение. Раньше мы могли мыслить только текущим моментом, тремя измерениями пространства, в которых существует мир вокруг нас. Полтора века назад мы обнаружили, что у природы есть четвертое измерение — временнóе. От каждого из нас, как и от каждого живого существа на планете, в прошлое тянется нить, ведущая к началу времен. Только в этих четырех измерениях все вокруг и становится понятным.
Появление теории эволюции — это принципиальная отметка в истории человечества. Раньше люди были высшей формой жизни, а теперь они — одна из многих ее ветвей. Раньше мир был статичным: все многообразие существ просто существовало в той форме, которую ей когда-то дал Создатель. Теперь мир стал динамичным: не только за человеком, но за каждым живым существом, каждым их свойством и признаком в прошлое протянулась нить причинно-следственных связей, ведущая через тысячи поколений, через континенты и эпохи и в конечном итоге сходящаяся вместе с другими нитями к общему, единому первоисточнику всего живого. Эта совокупность равноценности и единства — переворот в отношениях человека и природы.
Британский биолог Ричард Докинз так описал значимость этого переворота:
"Разумная жизнь на той или иной планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования. Если высшие существа из космоса когда- либо посетят Землю, первым вопросом, которым они зададутся, с тем чтобы установить уровень нашей цивилизации, будет: «Удалось ли им уже открыть эволюцию?»"
Сам факт того, что мы, люди, своим умом дошли до "четырехмерной природы", это триумф. Но триумф не столько нашего вида, сколько всей жизни на Земле. Его бы не произошло без бактерий, его бы не произошло без растений, его бы не произошло, если бы черви не умели копать или если бы рыбы жили на суше. Наше существование — результат непрекращающейся череды событий, последовательно происходивших с каждым из наших предков за миллиарды лет, прошедшие с зарождения жизни.
В конечном итоге теория Дарвина — о том, что наша судьба неотделима от судьбы наших предков. Мне кажется, это-то и убило Роберта Фицроя.
С сегодняшней точки зрения интересно в теории Дарвина другое. Она не просто объясняет, как одни виды могут происходить из других: она объясняет, как все виды могут происходить из одного. Неважно какие: человек, птица, улитка, гриб, — все они в интерпретации Дарвина вдруг оказываются родственниками, параллельными ветвями одной и той же истории, начинающейся из одной точки. По Дарвину, все существующие виды — нынешние лидеры одной и той же бесконечной гонки за право не вымирать.
Теория Дарвина как бы добавила к человеческой картине мира дополнительное измерение. Раньше мы могли мыслить только текущим моментом, тремя измерениями пространства, в которых существует мир вокруг нас. Полтора века назад мы обнаружили, что у природы есть четвертое измерение — временнóе. От каждого из нас, как и от каждого живого существа на планете, в прошлое тянется нить, ведущая к началу времен. Только в этих четырех измерениях все вокруг и становится понятным.
Появление теории эволюции — это принципиальная отметка в истории человечества. Раньше люди были высшей формой жизни, а теперь они — одна из многих ее ветвей. Раньше мир был статичным: все многообразие существ просто существовало в той форме, которую ей когда-то дал Создатель. Теперь мир стал динамичным: не только за человеком, но за каждым живым существом, каждым их свойством и признаком в прошлое протянулась нить причинно-следственных связей, ведущая через тысячи поколений, через континенты и эпохи и в конечном итоге сходящаяся вместе с другими нитями к общему, единому первоисточнику всего живого. Эта совокупность равноценности и единства — переворот в отношениях человека и природы.
Британский биолог Ричард Докинз так описал значимость этого переворота:
"Разумная жизнь на той или иной планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования. Если высшие существа из космоса когда- либо посетят Землю, первым вопросом, которым они зададутся, с тем чтобы установить уровень нашей цивилизации, будет: «Удалось ли им уже открыть эволюцию?»"
Сам факт того, что мы, люди, своим умом дошли до "четырехмерной природы", это триумф. Но триумф не столько нашего вида, сколько всей жизни на Земле. Его бы не произошло без бактерий, его бы не произошло без растений, его бы не произошло, если бы черви не умели копать или если бы рыбы жили на суше. Наше существование — результат непрекращающейся череды событий, последовательно происходивших с каждым из наших предков за миллиарды лет, прошедшие с зарождения жизни.
В конечном итоге теория Дарвина — о том, что наша судьба неотделима от судьбы наших предков. Мне кажется, это-то и убило Роберта Фицроя.
Bookmate
Читать «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум». Николай Кукушкин на Bookmate
Читать онлайн «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» автора Николай Кукушкин на Bookmate — Жизнь на Земле — непостижимая, вездесущая, кишащая миллионами ног, сучков, к…
Посмотрела карантинный comedy special Бо Бернема «Inside» (есть на Netflix), который он весь 2020 снимал один, сидя дома.
Про Inside есть смешной тикток: мол, я сегодня поняла, что этот спешл вовсе не дико популярен, просто мы тут, в ментально нездоровом тиктоке, очень его любим, и он поэтому постоянно мне попадается .У меня та же ситуация: я тоже успела захватить многие кусочки спешла в тиктоке, которые зажили совсем своей жизнью, но целиком его посмотрела только сейчас (ладно, сейчас — месяц назад уже, если не больше).
Кратко суть: в Inside Бо Бернем на протяжении года сидит дома, пишет песни и всякую мету про социалочку и свое ментальное здоровье, снимает и монтирует это все, и медленно, но верно отползает кукушечкой.
Спешл производит неоднозначное впечатление — как, наверное, и задумывалось. Поэтому про него и достаточно сложно писать: с одной стороны, там очень много всякой социально-культурной критики того, как хреново все тут у нас устроено, в обертке веселых песен, что, как бы, невозможно не любить и не испытывать эдакой приятной вибрации во всех нужных частях мозга. Вот белые женщины, которые мифологизируют сами себя с помощью выхолощенных фоточек в инстаграме. Вот супер-стремный пандемийный секстинг. Вот интернет, который стал помойкой из бесконечных стимулов, где рецепт пасты и новость о мертвом ребенке может получить одинаковое количество внимания. Да, это все изобретательно, глубоко, иронично, но с персональными деталями, которые делают героев и героинь его пародий живыми (обращение к мертвым родителям в песне про фальшивую аутентичность инстаграма — I meeeeeeaaaaaan). Ну, в общем, круто.
С другой стороны, это история о том, как лирический герой сползает в пучину уныния, ада и персонального пиздеца. Чуваку ХУЕВО, и находить что-либо смешным или любопытным в его контенте, который он производит, чтобы не отъехать окончательно, кажется грешноватым. С другой стороны, разве не все мы примерно этим и занимаемся?
Я все думала, что мне это напоминает, все полтора часа — и поняла, что, во-первых, ну да, Ханну Гэтсби по уровню искренности и качеству написанного, а во-вторых — тот момент где-то в середине 2010-х, когда множественные селебы ютуба вдруг оказывались не персонажами имени самих себя, а неприятно и реалистично людьми: одни рассказывали про ментальные заболевания, другие рассказывали, что третьи абюзеры и мудаки, третьи рассказывали про ментальные заболевания, которые сделали их абьюзерами и мудаками. А ты в это время сидел и думал — ребят, але, вы должны были помочь нам ВЫБРАТЬСЯ из всего этого, а не загонять нас всех еще глубже.
Тогда я этого не понимала, а сейчас отчасти понимаю: это была история не только о том, как веселые чуваки по ту сторону камеры вдруг открывались с разных сторон, но и о болезненных отношениях, в которых эти чуваки находились со своей аудиторией и с иглой внимания, на которую они подсели. И которая вынуждала их с одной стороны строить бренд на своей личности, а с другой — отрезать от неё неприглядные куски, чтобы не мешались. Бернем тоже пришел в мир «большой славы» из ютуба — в одном из эпизодов спешла он пересматривает самого себя тех лет на большом экране, и становится понятно, что его борьба со своей же зависимостью от наличия аудитории, начатая уже давно, так ни к чему и не привела.
И все его мета-монологи превращают набор критически-иронических песенок в какой-то совсем другой разговор — не про высмеивание людских самообманов в упаковке «контента» (инстаграма, твича, видео-реакций и всего остального), и даже не про клаустрофобный и тревожный опыт пандемии, а про то, насколько невыносимо понимать, что всю эту ужасную, перемалывающую в труху наше внимание и здравый смысл махину интернет-социализации придумали мы сами, но мы совсем никак не можем ею управлять, и уже не мы ею рулим, а она — нами. И, что, пожалуй, самое страшное, она неспособна, совсем-совсем никак, избавить нас от одиночества, это попросту не работает, а пути назад уже нет. Равно как и пародии Бернема не могут стать самоспасительными — они никого не могут спасти, даже собственного лирического героя.
Про Inside есть смешной тикток: мол, я сегодня поняла, что этот спешл вовсе не дико популярен, просто мы тут, в ментально нездоровом тиктоке, очень его любим, и он поэтому постоянно мне попадается .У меня та же ситуация: я тоже успела захватить многие кусочки спешла в тиктоке, которые зажили совсем своей жизнью, но целиком его посмотрела только сейчас (ладно, сейчас — месяц назад уже, если не больше).
Кратко суть: в Inside Бо Бернем на протяжении года сидит дома, пишет песни и всякую мету про социалочку и свое ментальное здоровье, снимает и монтирует это все, и медленно, но верно отползает кукушечкой.
Спешл производит неоднозначное впечатление — как, наверное, и задумывалось. Поэтому про него и достаточно сложно писать: с одной стороны, там очень много всякой социально-культурной критики того, как хреново все тут у нас устроено, в обертке веселых песен, что, как бы, невозможно не любить и не испытывать эдакой приятной вибрации во всех нужных частях мозга. Вот белые женщины, которые мифологизируют сами себя с помощью выхолощенных фоточек в инстаграме. Вот супер-стремный пандемийный секстинг. Вот интернет, который стал помойкой из бесконечных стимулов, где рецепт пасты и новость о мертвом ребенке может получить одинаковое количество внимания. Да, это все изобретательно, глубоко, иронично, но с персональными деталями, которые делают героев и героинь его пародий живыми (обращение к мертвым родителям в песне про фальшивую аутентичность инстаграма — I meeeeeeaaaaaan). Ну, в общем, круто.
С другой стороны, это история о том, как лирический герой сползает в пучину уныния, ада и персонального пиздеца. Чуваку ХУЕВО, и находить что-либо смешным или любопытным в его контенте, который он производит, чтобы не отъехать окончательно, кажется грешноватым. С другой стороны, разве не все мы примерно этим и занимаемся?
Я все думала, что мне это напоминает, все полтора часа — и поняла, что, во-первых, ну да, Ханну Гэтсби по уровню искренности и качеству написанного, а во-вторых — тот момент где-то в середине 2010-х, когда множественные селебы ютуба вдруг оказывались не персонажами имени самих себя, а неприятно и реалистично людьми: одни рассказывали про ментальные заболевания, другие рассказывали, что третьи абюзеры и мудаки, третьи рассказывали про ментальные заболевания, которые сделали их абьюзерами и мудаками. А ты в это время сидел и думал — ребят, але, вы должны были помочь нам ВЫБРАТЬСЯ из всего этого, а не загонять нас всех еще глубже.
Тогда я этого не понимала, а сейчас отчасти понимаю: это была история не только о том, как веселые чуваки по ту сторону камеры вдруг открывались с разных сторон, но и о болезненных отношениях, в которых эти чуваки находились со своей аудиторией и с иглой внимания, на которую они подсели. И которая вынуждала их с одной стороны строить бренд на своей личности, а с другой — отрезать от неё неприглядные куски, чтобы не мешались. Бернем тоже пришел в мир «большой славы» из ютуба — в одном из эпизодов спешла он пересматривает самого себя тех лет на большом экране, и становится понятно, что его борьба со своей же зависимостью от наличия аудитории, начатая уже давно, так ни к чему и не привела.
И все его мета-монологи превращают набор критически-иронических песенок в какой-то совсем другой разговор — не про высмеивание людских самообманов в упаковке «контента» (инстаграма, твича, видео-реакций и всего остального), и даже не про клаустрофобный и тревожный опыт пандемии, а про то, насколько невыносимо понимать, что всю эту ужасную, перемалывающую в труху наше внимание и здравый смысл махину интернет-социализации придумали мы сами, но мы совсем никак не можем ею управлять, и уже не мы ею рулим, а она — нами. И, что, пожалуй, самое страшное, она неспособна, совсем-совсем никак, избавить нас от одиночества, это попросту не работает, а пути назад уже нет. Равно как и пародии Бернема не могут стать самоспасительными — они никого не могут спасти, даже собственного лирического героя.
Вчера методом тыка выбрала и засмотрела сериал «Миссис Флетчер» (есть на Амедиатеке) — всего семь серий по полчаса. Сериал про мать-одиночку, чей сын уезжает в колледж, и в ней открывается бездна нежелания быть хорошей и правильной мамашей — она открывает для себя порно, мастурбацию, фантазии о женщинах из продуктовых магазинов и влечение к девятнадцатилетним пацанам. Это крепенькое драмеди про очень харизматичную женщину — в общем, чистое (даром что короткое) удовольствие.
Но мне больше всего понравилась (если можно так сказать) линия её сына — девятнадцатилетнего долбоеба, который был популярным пацаном в школе, буллил умных мальчиков, обращался с девочками, как с мусором, и потом с таким майндсетом приехал в колледж, ожидая лишь продолжения банкета. Надо ли говорить, что сын — белый цисгендерный гетеросексуальный привилегированный мальчик? Наверное, нет, и так понятно.
Эта линия получилась очень, на мой взгляд, неоднозначной (в отличие от всех остальных в сериале, которые интересные и очень какие-то живые, но при этом довольно, ну, понятные). Мальчик в целом не испытывает никаких жизненных трудностей — если девушка обижается на него, он делает бровки домиком и отправляет ей смску типа «жаль, что тебя здесь нет» и дикпик, и вот она уже в его постели. Мама любит его больше жизни (что, конечно, и есть основная завязка сериала). Классная девчонка с гуманитарными интересами (группа помощи родственникам людей с аутизмом), друзьями-геям и в целом, ну, интересной личностью влюбляется в него, эдакого ебаната. Консент — просто унылая обязательная лекция. В общем, все хорошо.
Но его картинка реальности постоянно дает трещину: чуваки из футбольной команды обсуждают климатический кризис, и он не может вписаться. Задрот из комнаты напротив проводит гиковские вечеринки, пока наш герой сидит один и тупит в телефон. Сосед по комнате тусит с парнем и учится. Классная девчонка, опять же, не прыгает к нему в постель после первой милой улыбочки.
Здесь поймано, на мой взгляд, очень странное чувство (и для героя, и для зрителя). С одной стороны, у чувака все хорошо, хотя он и конченный мудак. Его понимают, принимают, выдают ему ништяки. Но для героя это некомфортная ситуация, потому что он, привыкший ко всем своим привилегиям, вдруг попадает в окружение людей, которые интереснее, глубже, многоуровневее (простите), чем он. Их жизни сложнее устроены, у них есть какие-то искренние стремления и ценности. А он — ребенок по сути, хочет просто чиллить и кайфовать и ни за что не нести ответственность. Но мир вдруг оказывается СЛОЖНЫМ! И говорит ему — чувак, ты скучный, как палка, нам интересно про другое. И чтобы ему в этом мире быть популярным, ему нужно признать эту сложность и самому стать больше, чем он был — а ему и так ок, он не хочет меняться, он хочет, чтобы старые приемы работали. При этом мир он больше не звезда, но и полностью изгоем ему не стать — ведь про всю эту неоднозначность ему так или иначе говорят представители всяких властных меньшинств — расовых, сексуальных, гендерных. Мир все еще заточен под него, ему все еще в нем удобно, но уже не классно, он уже его не обслуживает. Это классный ракурс, такая неожиданно чуткая мерка с реальности. Для нашей же зрительской привычки к сюжетам аля «мудака жестоко наказывают» это непривычно — хочется ему больше несчастий, чтобы вот прям мучился и корчился. Но он не будет страдать от страшного наказания — он будет проходить трансформацию (может быть; а может — и нет), и это будет его переламывать.
Теоретически. Сериал закончился одним сезоном, так что мы ничего не узнаем. (Вообще он снят по одноименному роману Тома Перротты, что меня особенно зацепило — мужчина пишет про такой сугубо женский опыт, interesting, но читать его я не планирую, so).
А еще очень рекомендую концовку. Последняя серия — a thing beauty.
Но мне больше всего понравилась (если можно так сказать) линия её сына — девятнадцатилетнего долбоеба, который был популярным пацаном в школе, буллил умных мальчиков, обращался с девочками, как с мусором, и потом с таким майндсетом приехал в колледж, ожидая лишь продолжения банкета. Надо ли говорить, что сын — белый цисгендерный гетеросексуальный привилегированный мальчик? Наверное, нет, и так понятно.
Эта линия получилась очень, на мой взгляд, неоднозначной (в отличие от всех остальных в сериале, которые интересные и очень какие-то живые, но при этом довольно, ну, понятные). Мальчик в целом не испытывает никаких жизненных трудностей — если девушка обижается на него, он делает бровки домиком и отправляет ей смску типа «жаль, что тебя здесь нет» и дикпик, и вот она уже в его постели. Мама любит его больше жизни (что, конечно, и есть основная завязка сериала). Классная девчонка с гуманитарными интересами (группа помощи родственникам людей с аутизмом), друзьями-геям и в целом, ну, интересной личностью влюбляется в него, эдакого ебаната. Консент — просто унылая обязательная лекция. В общем, все хорошо.
Но его картинка реальности постоянно дает трещину: чуваки из футбольной команды обсуждают климатический кризис, и он не может вписаться. Задрот из комнаты напротив проводит гиковские вечеринки, пока наш герой сидит один и тупит в телефон. Сосед по комнате тусит с парнем и учится. Классная девчонка, опять же, не прыгает к нему в постель после первой милой улыбочки.
Здесь поймано, на мой взгляд, очень странное чувство (и для героя, и для зрителя). С одной стороны, у чувака все хорошо, хотя он и конченный мудак. Его понимают, принимают, выдают ему ништяки. Но для героя это некомфортная ситуация, потому что он, привыкший ко всем своим привилегиям, вдруг попадает в окружение людей, которые интереснее, глубже, многоуровневее (простите), чем он. Их жизни сложнее устроены, у них есть какие-то искренние стремления и ценности. А он — ребенок по сути, хочет просто чиллить и кайфовать и ни за что не нести ответственность. Но мир вдруг оказывается СЛОЖНЫМ! И говорит ему — чувак, ты скучный, как палка, нам интересно про другое. И чтобы ему в этом мире быть популярным, ему нужно признать эту сложность и самому стать больше, чем он был — а ему и так ок, он не хочет меняться, он хочет, чтобы старые приемы работали. При этом мир он больше не звезда, но и полностью изгоем ему не стать — ведь про всю эту неоднозначность ему так или иначе говорят представители всяких властных меньшинств — расовых, сексуальных, гендерных. Мир все еще заточен под него, ему все еще в нем удобно, но уже не классно, он уже его не обслуживает. Это классный ракурс, такая неожиданно чуткая мерка с реальности. Для нашей же зрительской привычки к сюжетам аля «мудака жестоко наказывают» это непривычно — хочется ему больше несчастий, чтобы вот прям мучился и корчился. Но он не будет страдать от страшного наказания — он будет проходить трансформацию (может быть; а может — и нет), и это будет его переламывать.
Теоретически. Сериал закончился одним сезоном, так что мы ничего не узнаем. (Вообще он снят по одноименному роману Тома Перротты, что меня особенно зацепило — мужчина пишет про такой сугубо женский опыт, interesting, но читать его я не планирую, so).
А еще очень рекомендую концовку. Последняя серия — a thing beauty.
YouTube
MRS. FLETCHER Official Trailer (HD) Kathryn Hahn
HBO presents Mrs. Fletcher, a dual coming-of-age comedy, exploring the impact of internet porn and social media on the lives of empty nest divorcée Eve Fletcher (Hahn) and her college freshman son Brendan (Jackson White). The series follows Eve as she reinvents…
Многие сейчас пишут про «Белый лотос» — новый семисерийник HBO и Майка Уайта (уже продленный на второй сезон). Ну и я напишу — правда, выйдет не так хвалебно.
Кратко: «сатирическое драмеди» с камерным сеттингом. Несколько семей (1. жена-бизнесвумен, муж с проблемами с самооценкой, просвещенная и безэмоциональная зумерка-дочь, её небогатая, черная и подстраивающаяся подружка, сын, уткнувшийся в гаджеты 2. молодожены: богатенький муж, нарцисс, эгоист и взрослый ребенок, бедненькая жена, которая еще не поняла, что всю жизнь будет трофеем при муже-истерике 3. богачка с расстроенными нервами, алкоголизмом и прахом матери-абьюзерки в сундучке) приезжают в лахури голд вэри вип гавайский отель. Там их встречает персонал с услужливыми робо-улыбками, голосами и жестами: местное население, вынужденное работать в отеле и изображать «гавайское дружелюбие», превращать собственную культуру в шоу для потребления, и их белый гей-менеджер, вечно фрустрированный из-за того, что ему в этом шоу привилегий достался шиш.
И начинается представление: социальные условности трескаются, разгорается борьба за власть — как между конкретными персонажами, так и, учитывая жанр сериала (социальная сатира), между социальными группами. Молодая жена пытается бороться за право на агентность в семье, где женщине предполагается быть красивой и удобной; молодой муж пытается самоутвердиться в борьбе за лучший сервис от отеля — то, что ему положено по праву; осознанная дочка троллит мать и её «феминизм имени Хиллари», но не предлагает никаких продуктивных мыслей, только самодовольную критику; подружка дочери вступает в отношения с сотрудником отеля и, видя, как он вынужден танцевать «традиционный гавайский танец» перед белыми людьми за ужином, не придумывает ничего лучше, чем предложить ему ограбить богачей; и далее, и далее.
Присутствует рамочный сюжет, хоть и условный: сериал начинается с того, что молодожен сидит в аэропорту в конце отпуска, и в самолет грузят гроб с чьим-то телом. Однако искать детективные зацепки бессмысленно — их просто нет (разве что одна, но она появляется в последней серии и совсем уж топорно, как будто разнорабочий посреди театральной постановки в оранжевом комбинезоне вышел на середину сцены и с кряхтением повесил там ружье). Это не детектив, убийство, заявленное в начале — просто вывеска. «Белый лотос» — исследование характеров и отношений в контексте межрасовых противоречий и наследия колониализма.
Это неплохой сериал с безумно красивыми видами, блестящей музыкой и отличной игрой актеров.
Но в нем есть одно удивительное «но» — а именно ограниченность выбранного приема. Сериал о критике белой привилегии остается сериалом о белых привилегированных людях. Все гавайские и черные персонажи — разменные монеты, повод для белой рефлексии, мы так и не услышим и не узнаем их историй, ибо история Белого и Богатого Человечества остается центральной и неизменной. Персонажи, которые якобы пережили трансформацию и что-то про себя узнали, в конце сериала остались теми же людьми, вернулись на стартовые точки (кроме одного персонажа, заслужившего романтизированно-идеалистическую концовку возвращения «неестественного человека западной цивилизации» к жизни наедине с природой и простому варварскому счастью, ну тоже, откровенно говоря, такое). «Белый лотос» будто бы сам хлопает себя по плечу, гордясь собственной интроспективностью и умом, странным образом не замечая, что на высмеивании именно такого поведения он и построен. Сериал про глупость и непродуктивность «белой осознанности» сам по себе является главным примером глупости и непродуктивности «белой осознанности» — причем, судя по интервью Майка Уайта, этого он не осознает (на вопрос, мол, не странно ли, что вы такие сериалы снимаете, он ответил — что ж мне теперь, сериалов не снимать, что в некоторым смысле сделало его героем собственного сценария). История об ограниченности белой оптики страдает от ограниченности белой оптики.
Ну не диво ли.
Кратко: «сатирическое драмеди» с камерным сеттингом. Несколько семей (1. жена-бизнесвумен, муж с проблемами с самооценкой, просвещенная и безэмоциональная зумерка-дочь, её небогатая, черная и подстраивающаяся подружка, сын, уткнувшийся в гаджеты 2. молодожены: богатенький муж, нарцисс, эгоист и взрослый ребенок, бедненькая жена, которая еще не поняла, что всю жизнь будет трофеем при муже-истерике 3. богачка с расстроенными нервами, алкоголизмом и прахом матери-абьюзерки в сундучке) приезжают в лахури голд вэри вип гавайский отель. Там их встречает персонал с услужливыми робо-улыбками, голосами и жестами: местное население, вынужденное работать в отеле и изображать «гавайское дружелюбие», превращать собственную культуру в шоу для потребления, и их белый гей-менеджер, вечно фрустрированный из-за того, что ему в этом шоу привилегий достался шиш.
И начинается представление: социальные условности трескаются, разгорается борьба за власть — как между конкретными персонажами, так и, учитывая жанр сериала (социальная сатира), между социальными группами. Молодая жена пытается бороться за право на агентность в семье, где женщине предполагается быть красивой и удобной; молодой муж пытается самоутвердиться в борьбе за лучший сервис от отеля — то, что ему положено по праву; осознанная дочка троллит мать и её «феминизм имени Хиллари», но не предлагает никаких продуктивных мыслей, только самодовольную критику; подружка дочери вступает в отношения с сотрудником отеля и, видя, как он вынужден танцевать «традиционный гавайский танец» перед белыми людьми за ужином, не придумывает ничего лучше, чем предложить ему ограбить богачей; и далее, и далее.
Присутствует рамочный сюжет, хоть и условный: сериал начинается с того, что молодожен сидит в аэропорту в конце отпуска, и в самолет грузят гроб с чьим-то телом. Однако искать детективные зацепки бессмысленно — их просто нет (разве что одна, но она появляется в последней серии и совсем уж топорно, как будто разнорабочий посреди театральной постановки в оранжевом комбинезоне вышел на середину сцены и с кряхтением повесил там ружье). Это не детектив, убийство, заявленное в начале — просто вывеска. «Белый лотос» — исследование характеров и отношений в контексте межрасовых противоречий и наследия колониализма.
Это неплохой сериал с безумно красивыми видами, блестящей музыкой и отличной игрой актеров.
Но в нем есть одно удивительное «но» — а именно ограниченность выбранного приема. Сериал о критике белой привилегии остается сериалом о белых привилегированных людях. Все гавайские и черные персонажи — разменные монеты, повод для белой рефлексии, мы так и не услышим и не узнаем их историй, ибо история Белого и Богатого Человечества остается центральной и неизменной. Персонажи, которые якобы пережили трансформацию и что-то про себя узнали, в конце сериала остались теми же людьми, вернулись на стартовые точки (кроме одного персонажа, заслужившего романтизированно-идеалистическую концовку возвращения «неестественного человека западной цивилизации» к жизни наедине с природой и простому варварскому счастью, ну тоже, откровенно говоря, такое). «Белый лотос» будто бы сам хлопает себя по плечу, гордясь собственной интроспективностью и умом, странным образом не замечая, что на высмеивании именно такого поведения он и построен. Сериал про глупость и непродуктивность «белой осознанности» сам по себе является главным примером глупости и непродуктивности «белой осознанности» — причем, судя по интервью Майка Уайта, этого он не осознает (на вопрос, мол, не странно ли, что вы такие сериалы снимаете, он ответил — что ж мне теперь, сериалов не снимать, что в некоторым смысле сделало его героем собственного сценария). История об ограниченности белой оптики страдает от ограниченности белой оптики.
Ну не диво ли.
YouTube
The White Lotus | Official Trailer | HBO
Everyone is entitled to a vacation.
The White Lotus, a new limited series written and directed by Mike White, arrives July 11 on HBO Max. #TheWhiteLotus #HBO Subscribe to HBO on YouTube: https://goo.gl/wtFYd7
A social satire set at an exclusive Hawaiian…
The White Lotus, a new limited series written and directed by Mike White, arrives July 11 on HBO Max. #TheWhiteLotus #HBO Subscribe to HBO on YouTube: https://goo.gl/wtFYd7
A social satire set at an exclusive Hawaiian…
Я постоянно нахожусь в поиске новых приемов, которые помогут мне писать (художественные) тексты — мне это дается прямо-таки тяжело, очевидно, там накручено много ожиданий от себя, неуверенности, самозванчества и прочего. Я почти никогда не могу войти во что-то даже отдаленно напоминающее состояние потока, отвлекаюсь, критикую каждое свое слово и заведомо считаю написанное дрянным куском дрянины.
И тут, кажется, я нашла способ войти в писательское состояние. Это даже не прием «ну бля короче» — это какой-то новый уровень самообмана.
Похоже, мне помогает писать по-английски. С годами отсутствия языковой практики он у меня перешел в статус пассивного навыка — я хорошо читаю и воспринимаю на слух, но вот говорить/писать мне дается чуть сложнее, приходится иногда искать подходящие версии слов, которые крутятся на уровне ассоциаций («ну было че-то такое, ну, ТАКОЕ»), спотыкаться об артикли, сверять времена, ошибки вижу не с первого взгляда. Ну в общем, есть в этом еще какая-то деятельность, кроме писанины.
И вот тут у меня получается — и поток, и фокус, и какая-то более отстраненная работа, а не резьба по самооценке ржавым садовым ножом.
В общем, буду иногда писать полу-литературные эссе автотеоретического толка на Медиуме, видимо, чтобы, так сказать, расписаться.
Например, такие.
И тут, кажется, я нашла способ войти в писательское состояние. Это даже не прием «ну бля короче» — это какой-то новый уровень самообмана.
Похоже, мне помогает писать по-английски. С годами отсутствия языковой практики он у меня перешел в статус пассивного навыка — я хорошо читаю и воспринимаю на слух, но вот говорить/писать мне дается чуть сложнее, приходится иногда искать подходящие версии слов, которые крутятся на уровне ассоциаций («ну было че-то такое, ну, ТАКОЕ»), спотыкаться об артикли, сверять времена, ошибки вижу не с первого взгляда. Ну в общем, есть в этом еще какая-то деятельность, кроме писанины.
И вот тут у меня получается — и поток, и фокус, и какая-то более отстраненная работа, а не резьба по самооценке ржавым садовым ножом.
В общем, буду иногда писать полу-литературные эссе автотеоретического толка на Медиуме, видимо, чтобы, так сказать, расписаться.
Например, такие.
Medium
Boredom on
A little story on boredom and elevators
«Красные части» Мэгги Нельсон (No Kidding Press) — пока лучшее мое чтение этого лета.
Это «история одного суда», на котором в 2005 году судили подозреваемого в убийстве, совершенном тридцать пять лет назад. Убили молодую девушку Джейн — сестру матери самой Нельсон.
Нельсон рассказывает, как этот суд крошит жизнь её семьи. Но еще, и это важнее — она пишет, почему эта история так притягивает взгляд и как она решает стать свидетелем, который не может ничего изменить, но чья роль — смотреть, запечатлевать, не позволять истории исчезнуть. Она называет это «заскоком на убийстве» — полу-отрешенным состоянием, в котором ни мораль, ни чувства не задевает её каждодневный поиск рифм к словам «пуля» и «череп».
«Она говорит, что не рассказала, потому что ей было стыдно. Я говорю, что стоило об этом рассказать хотя бы потому, что это произошло».
В «Частях» много от тру крайма — жанра-любимчика массовых аудиторий, который позволяет прикоснуться к ужасающему, непостижимому, но такому неотвратимо реальному, из комфорта пижамки с пингвинчиками. У Нельсон картинка сложнее — она рассказывает, что бывает, если ты существуешь бок о бок с этим непостижимым насилием на протяжении всей своей жизни, как и пришлось жить её семье. Мертвая Джейн не покидает их — её следы виднеются в отношениях родителей Нельсон, в её отношениях с сестрой, в том, какими людьми они выросли. И Нельсон раз за разом выбирает продолжать смотреть — на то, как убийство, суд и её детство переплетаются и превращаются в место, _«где страдание, в сущности, бессмысленно, где настоящее проваливается в прошлое без предупреждения, где нам не избежать участи, которая страшит нас больше всего»_. Она выбирает признать, что жизнь рядом, над, под и внутри насилия неизбежна, время не лечит, потому что его перед лицом вечного горя нет, и удовлетворительной развязки ни для кого не предполагается.
Я люблю Нельсон за то, что она (уж не знаю, легко ли ей это дается, буду надеяться, что да) отказывается от того, чтобы рассказывать историю — и позволяет себе писать текст, где главным средством управления вниманием служит нечто совсем другое.
«Мои стихи не рассказывали истории. Я стала поэтом отчасти потому, что не хотела рассказывать историй. Насколько я могу судить, истории, может, и помогают нам жить, но также они ограничивают нас, приносят нам феноменальную боль. В попытке найти смысл в бессмысленных вещах они искажают, кодифицируют, обвиняют, возвеличивают, ограждают, пренебрегают, предают, мифологизируют и всё такое. Мне всегда это казалось поводом для сожаления, а не хвалы. Как только какой-нибудь писатель начинает говорить о «человеческой силе повествования», я обычно ловлю себя на желании выйти вон из зала. Потому что иначе кровь приливает к лицу и начинает кипеть».
В этом мне видится единственный способ писать текст, помогающий искреннему сближению и спасению от одиночества, побуждающий интерес к опыту другого, а не к тому, насколько стройно выстроены мотивации героев и достаточно ли достоверна развязка. «Наивная надежда на катарсис», которую Нельсон чувствовала, пока писала книгу стихов о Джейн, еще до событий, описанных в «Частях», больше её не посещает — она отказывается от писательского эгоизма, толкающего к вере в то, что правильно написанный текст поможет «успешно отгоревать», что достовернейшим образом собранные детали о смерти (какого цвета был плащ? а колготки? а что она читала?) помогут сделать эту смерть объяснимой, перевести в неопасный статус рационально познаваемого события. В «Частях» она находит другой ответ — человеческая близость и любовь, единственное, что может спасти от ужасающего одиночества смерти.
И цитирует Айлин Майлз: «Нуждайтесь друг в друге так сильно, как только можете вынести. Где бы вы ни были в этом мире».
И это просто очень красиво.
📚 Еще книга круто переведена и напечатана — рекомендую не отказывать себе в тактильном кайфе чтения в бумаге, поэтому ловите промокод almost на заказ в интернет-магазине издательства (действует на все книги и мерч, не действует на бандлы, предзаказы и подписку).
Это «история одного суда», на котором в 2005 году судили подозреваемого в убийстве, совершенном тридцать пять лет назад. Убили молодую девушку Джейн — сестру матери самой Нельсон.
Нельсон рассказывает, как этот суд крошит жизнь её семьи. Но еще, и это важнее — она пишет, почему эта история так притягивает взгляд и как она решает стать свидетелем, который не может ничего изменить, но чья роль — смотреть, запечатлевать, не позволять истории исчезнуть. Она называет это «заскоком на убийстве» — полу-отрешенным состоянием, в котором ни мораль, ни чувства не задевает её каждодневный поиск рифм к словам «пуля» и «череп».
«Она говорит, что не рассказала, потому что ей было стыдно. Я говорю, что стоило об этом рассказать хотя бы потому, что это произошло».
В «Частях» много от тру крайма — жанра-любимчика массовых аудиторий, который позволяет прикоснуться к ужасающему, непостижимому, но такому неотвратимо реальному, из комфорта пижамки с пингвинчиками. У Нельсон картинка сложнее — она рассказывает, что бывает, если ты существуешь бок о бок с этим непостижимым насилием на протяжении всей своей жизни, как и пришлось жить её семье. Мертвая Джейн не покидает их — её следы виднеются в отношениях родителей Нельсон, в её отношениях с сестрой, в том, какими людьми они выросли. И Нельсон раз за разом выбирает продолжать смотреть — на то, как убийство, суд и её детство переплетаются и превращаются в место, _«где страдание, в сущности, бессмысленно, где настоящее проваливается в прошлое без предупреждения, где нам не избежать участи, которая страшит нас больше всего»_. Она выбирает признать, что жизнь рядом, над, под и внутри насилия неизбежна, время не лечит, потому что его перед лицом вечного горя нет, и удовлетворительной развязки ни для кого не предполагается.
Я люблю Нельсон за то, что она (уж не знаю, легко ли ей это дается, буду надеяться, что да) отказывается от того, чтобы рассказывать историю — и позволяет себе писать текст, где главным средством управления вниманием служит нечто совсем другое.
«Мои стихи не рассказывали истории. Я стала поэтом отчасти потому, что не хотела рассказывать историй. Насколько я могу судить, истории, может, и помогают нам жить, но также они ограничивают нас, приносят нам феноменальную боль. В попытке найти смысл в бессмысленных вещах они искажают, кодифицируют, обвиняют, возвеличивают, ограждают, пренебрегают, предают, мифологизируют и всё такое. Мне всегда это казалось поводом для сожаления, а не хвалы. Как только какой-нибудь писатель начинает говорить о «человеческой силе повествования», я обычно ловлю себя на желании выйти вон из зала. Потому что иначе кровь приливает к лицу и начинает кипеть».
В этом мне видится единственный способ писать текст, помогающий искреннему сближению и спасению от одиночества, побуждающий интерес к опыту другого, а не к тому, насколько стройно выстроены мотивации героев и достаточно ли достоверна развязка. «Наивная надежда на катарсис», которую Нельсон чувствовала, пока писала книгу стихов о Джейн, еще до событий, описанных в «Частях», больше её не посещает — она отказывается от писательского эгоизма, толкающего к вере в то, что правильно написанный текст поможет «успешно отгоревать», что достовернейшим образом собранные детали о смерти (какого цвета был плащ? а колготки? а что она читала?) помогут сделать эту смерть объяснимой, перевести в неопасный статус рационально познаваемого события. В «Частях» она находит другой ответ — человеческая близость и любовь, единственное, что может спасти от ужасающего одиночества смерти.
И цитирует Айлин Майлз: «Нуждайтесь друг в друге так сильно, как только можете вынести. Где бы вы ни были в этом мире».
И это просто очень красиво.
📚 Еще книга круто переведена и напечатана — рекомендую не отказывать себе в тактильном кайфе чтения в бумаге, поэтому ловите промокод almost на заказ в интернет-магазине издательства (действует на все книги и мерч, не действует на бандлы, предзаказы и подписку).
Написала про еще один важный роман «этого лета» (тм) — «Зами: как по-новому писать мое имя» Одри Лорд. От некоторых глав этого романа-биомифографии хочется детей, а такое, как известно, встречается очень редко.
Forwarded from Лесбийское лобби (Ekaterina Kudryavtseva)
🍺 «Зами: как по-новому писать мое имя» Одри Лорд вышла недавно в издательстве No Kidding Press. Это история поиска молодой черной женщины — поиска смысла и места, сексуальности и пути, решимости и покоя в самом сердце хаоса.
Я по классике рекомендую её всем, кому не хватает крутых, рефлексивных, красивых и богатых на язык (😛 ) лесбийских текстов на русском.
🔥 Так вот, язык. Лорд пишет тягуче, размеренно, с огромным количеством деталей, за которыми нельзя не последовать. Картины её жизни так и встают перед глазами, а еще начинают пахнуть, звучать, наполняться красками и трепетать. Этот текст хрустит, звенит, шумит, орёт, плачет, оргазмирует, хлопает дверьми и стучит бутылками. В нем играет музыка, шорты-бермуды елозят по ногам, солнце слепит, под грудью собирается пот.
За главы о Мексике хочется отдать свою офисную работу нуждающимся, купить билет в один конец и отправиться на поиски красивой эмоционально закрытой сорокапятилетней женщины с полугодовым запасом текилы и кабриолетом.
🍹 Лесбийская история. Если вам не хватает лесбийской истории (а кому её хватает, будем честны), то вторая половина «Зами» — для вас (нас). Лорд рассказывает про свою жизнь в Нью-Йорке, про лесбийские бары и культуру 50-х, но через всегда присутствующую Черную линзу — она ходит в бары, где белые лесбиянки отыгрывают буч/фем роли, продолжая традиции общества, из которого вне этих пространств они исключены. Там же сохраняется и патриархальная модель отношений и расовая нетерпимость. Среди белых лесбиянок из рабочего класса Лорд чувствует себя чужой: она недостаточно хорошенькая или пассивная, чтобы быть фем, недостаточно заносчивая и суровая, чтобы быть буч.
Она остается в стороне: «Нетрадиционные люди кажутся опасными даже нетрадиционному обществу». И рефлексирует о том, как безо всяких теорий и диалектики они (Черные лесбиянки) пришли к пониманию, которое посетит «массовый» феминизм спустя десятки лет: угнетение есть угнетение, откуда бы оно не исходило.
Еще она — опытным, не академическим — путем приходит к пониманию фрагментарности, сложноустроенности идентичности. Быть женщинами сообща — недостаточно. Быть лесбиянками сообща — недостаточно. И так далее: «наше особое место было именно домом разнообразных различий, а не убежищем для какого-то одного из них», пишет Лорд, и дает, о чем подумать, даже в двадцать двадцать один.
🥇 Канон. Одри Лорд — важная феминистская, лесбийская и Черная писательница, поэтесса и активистка. Её литературный вес сложно переоценить: true classic.
🗽 Мощь. «Зами» — сильный и эмоциональный автофикшен («биомифография», как назвала жанр книги сама Лорд — сотворение мифа из собственной биографии), который из глубоко личной истории порой становится историей коллективной. Так персональное, биографическое превращается в общественно-важное, опыт, который невозможно не учесть и не заметить.
От себя скажу, что это книга, с которой можно случайно заиметь очень близкие персональные отношения, и для меня это невероятно ценно: через время, пространство, абсолютно инаковый опыт находить с кем-то близость.
Я подчеркнула половину рыжим пастельным карандашом для рисования, и теперь в этом тексте есть что-то мое — скобочки, звездочки, размазанные линии и неровные восклицательные знаки. Что и вам советую: поэтому ловите промокод lobby на 10% скидки в магазине издательства (действует на все книги и мерч, но не действует на предзаказы, подписку и бандлы.
Кстати, там у них до конца августа еще и бесплатная доставка, спешите пользоваться). Напоминаю, что там еще есть «Аргонавты» Мэгги Нельсон и «Инферно» Айлин Майлз 😏
Я по классике рекомендую её всем, кому не хватает крутых, рефлексивных, красивых и богатых на язык (😛 ) лесбийских текстов на русском.
🔥 Так вот, язык. Лорд пишет тягуче, размеренно, с огромным количеством деталей, за которыми нельзя не последовать. Картины её жизни так и встают перед глазами, а еще начинают пахнуть, звучать, наполняться красками и трепетать. Этот текст хрустит, звенит, шумит, орёт, плачет, оргазмирует, хлопает дверьми и стучит бутылками. В нем играет музыка, шорты-бермуды елозят по ногам, солнце слепит, под грудью собирается пот.
За главы о Мексике хочется отдать свою офисную работу нуждающимся, купить билет в один конец и отправиться на поиски красивой эмоционально закрытой сорокапятилетней женщины с полугодовым запасом текилы и кабриолетом.
🍹 Лесбийская история. Если вам не хватает лесбийской истории (а кому её хватает, будем честны), то вторая половина «Зами» — для вас (нас). Лорд рассказывает про свою жизнь в Нью-Йорке, про лесбийские бары и культуру 50-х, но через всегда присутствующую Черную линзу — она ходит в бары, где белые лесбиянки отыгрывают буч/фем роли, продолжая традиции общества, из которого вне этих пространств они исключены. Там же сохраняется и патриархальная модель отношений и расовая нетерпимость. Среди белых лесбиянок из рабочего класса Лорд чувствует себя чужой: она недостаточно хорошенькая или пассивная, чтобы быть фем, недостаточно заносчивая и суровая, чтобы быть буч.
Она остается в стороне: «Нетрадиционные люди кажутся опасными даже нетрадиционному обществу». И рефлексирует о том, как безо всяких теорий и диалектики они (Черные лесбиянки) пришли к пониманию, которое посетит «массовый» феминизм спустя десятки лет: угнетение есть угнетение, откуда бы оно не исходило.
Еще она — опытным, не академическим — путем приходит к пониманию фрагментарности, сложноустроенности идентичности. Быть женщинами сообща — недостаточно. Быть лесбиянками сообща — недостаточно. И так далее: «наше особое место было именно домом разнообразных различий, а не убежищем для какого-то одного из них», пишет Лорд, и дает, о чем подумать, даже в двадцать двадцать один.
🥇 Канон. Одри Лорд — важная феминистская, лесбийская и Черная писательница, поэтесса и активистка. Её литературный вес сложно переоценить: true classic.
🗽 Мощь. «Зами» — сильный и эмоциональный автофикшен («биомифография», как назвала жанр книги сама Лорд — сотворение мифа из собственной биографии), который из глубоко личной истории порой становится историей коллективной. Так персональное, биографическое превращается в общественно-важное, опыт, который невозможно не учесть и не заметить.
От себя скажу, что это книга, с которой можно случайно заиметь очень близкие персональные отношения, и для меня это невероятно ценно: через время, пространство, абсолютно инаковый опыт находить с кем-то близость.
Я подчеркнула половину рыжим пастельным карандашом для рисования, и теперь в этом тексте есть что-то мое — скобочки, звездочки, размазанные линии и неровные восклицательные знаки. Что и вам советую: поэтому ловите промокод lobby на 10% скидки в магазине издательства (действует на все книги и мерч, но не действует на предзаказы, подписку и бандлы.
Кстати, там у них до конца августа еще и бесплатная доставка, спешите пользоваться). Напоминаю, что там еще есть «Аргонавты» Мэгги Нельсон и «Инферно» Айлин Майлз 😏
Я люблю AI-generated art. Люблю читать тексты, написанные GTP-3, рассматривать нарисованные нейросетками картинки, слушать музыку (вот, например, на спотифае есть такой плейлист, ну и вообще — тысячи их уже). С музыкой, пожалуй, проще всего, потому что она ближе всего к математике, а значит — намного вероятнее, что нейросетка выдаст гармоничный и удобный уху материал.
Причина моей любви простая — ИИ производит то, что человек никогда не произведет, внутри всех этих произведений заложена совсем другая логика, очищенная от творческого эгоизма и прочих истинно человеческих наслоений смысла. Да, нейросеть учится на всем, что мы как цивилизация когда-либо произвели, но гибридизация, которую она осуществляет, не похожа на ту, что сделал бы человек.
Мое любимое рассуждение на тему — Дэвида Боуи, который в 90-х с друганом сделал приложение Verbasizer для Apple PowerBook. В приложение загружались предложения, слова бились на колонки, а потом нажатием кнопки слова в разных колонках перемешивались, и получался новый текст. Он говорил: «У вас получается настоящий калейдоскоп смыслов, тем, глаголов и существительных, которые бьются друг об друга». Красиво.
Например, текст песни Hallo Spaceboy из альбома Outside (1995), по словам Боуи, был в большинстве своем написан и вдохновлен текстом, произведенным рандомизатором.
(Hallo) Spaceboy,
You're sleepy now
Your silhouette is so stationary
You're released but your custody calls
And I want to be free
Don't you want to be free
Do you like girls or boysIt's confusing these days
But Moondust will cover you
Cover you
Боуи много игрался с рандомизацией как художественным методом, освобождающим воображение. Ну а у нас есть ИИ!
Например, недавно какие-то ребята сделали нейросеть, которая на основе комиксов New Yorker делает свои комиксы.
У комиксов New Yorker свой супер-узнаваемый визуальный код и художественный прием в основе формата, что позволило очень просто его «занейросетить» — новые комиксы валятся в твиттер-аккаунт. Результаты любопытные и тревожные, как, в общем, и все, что творят алгоритмы: вроде бы узнаваемые картинки разваливаются на безумные линии, а подпись окончательно превращает рисунок в полную бессмыслицу. Знакомое становится странным, необычным — и откуда, как не из этого месива, черпать вдохновение.
Причина моей любви простая — ИИ производит то, что человек никогда не произведет, внутри всех этих произведений заложена совсем другая логика, очищенная от творческого эгоизма и прочих истинно человеческих наслоений смысла. Да, нейросеть учится на всем, что мы как цивилизация когда-либо произвели, но гибридизация, которую она осуществляет, не похожа на ту, что сделал бы человек.
Мое любимое рассуждение на тему — Дэвида Боуи, который в 90-х с друганом сделал приложение Verbasizer для Apple PowerBook. В приложение загружались предложения, слова бились на колонки, а потом нажатием кнопки слова в разных колонках перемешивались, и получался новый текст. Он говорил: «У вас получается настоящий калейдоскоп смыслов, тем, глаголов и существительных, которые бьются друг об друга». Красиво.
Например, текст песни Hallo Spaceboy из альбома Outside (1995), по словам Боуи, был в большинстве своем написан и вдохновлен текстом, произведенным рандомизатором.
(Hallo) Spaceboy,
You're sleepy now
Your silhouette is so stationary
You're released but your custody calls
And I want to be free
Don't you want to be free
Do you like girls or boysIt's confusing these days
But Moondust will cover you
Cover you
Боуи много игрался с рандомизацией как художественным методом, освобождающим воображение. Ну а у нас есть ИИ!
Например, недавно какие-то ребята сделали нейросеть, которая на основе комиксов New Yorker делает свои комиксы.
У комиксов New Yorker свой супер-узнаваемый визуальный код и художественный прием в основе формата, что позволило очень просто его «занейросетить» — новые комиксы валятся в твиттер-аккаунт. Результаты любопытные и тревожные, как, в общем, и все, что творят алгоритмы: вроде бы узнаваемые картинки разваливаются на безумные линии, а подпись окончательно превращает рисунок в полную бессмыслицу. Знакомое становится странным, необычным — и откуда, как не из этого месива, черпать вдохновение.
Соблазнительно видеть в Мадлен бунтарку и оправдывать ее сомнительные поступки тягостной скукой существования, ограниченного рамками буржуазного дома. Двойственность общественного уклада в XIX веке (с одной стороны — публичная деятельность мужчин, с другой — замкнутая частная жизнь женщин; профессиональные области — для мужчин одни, для женщин другие; у первых — все права, вторые бесправны) легко подтверждается выдержками из разных руководств по этикету.
В реальности же все выглядело намного сложнее. Под словом «работа» в викторианской Англии подразумевалась деятельность, осуществляемая исключительно вне дома, следовательно, многое из того, что делали женщины, ведя домашнее хозяйство и внося свой вклад в семейный бизнес, для постороннего глаза оставалось невидимым. Вдобавок, чтобы не ранить самолюбие мужчины, женщины нередко изображали, что трудятся меньше, чем на самом деле.
Даже вопреки исключениям, в культуре того времени существовал устойчивый стереотип идеальной женщины — украшающей собой дом, поддерживающей в нем мир и влияющей на его моральный климат скорее своими добродетелями, а не трудолюбием и интеллектуальными способностями. У Мадлен Смит, судя по всему, подобная перспектива особого энтузиазма не вызывала, и относилась она к ней довольно холодно, но именно такой взгляд на роль женщины в обществе впоследствии и спас ее.
Эта история молодой девушки, избежавшей наказания за свое преступление благодаря сложившемуся представлению о том, какой следует быть женщине; эта история, почти неправдоподобная по счастливой своей развязке, наглядно показывает, насколько стереотипно наше суждение об обществе XIX века. Историки, изучающие этот период, потратили немало усилий, убеждая нас, что благоговейный трепет целомудрия, который мы привыкли считать важной составляющей образа жизни средних слоев общества в Викторианскую эпоху, есть не что иное, как измышление XX века. Например, известный миф, будто викторианцы усматривали нечто неприличное в форме рояльных ножек и потому облекали их в чехлы, давно развенчан. Разумеется, не каждая викторианская девушка-подросток оставалась девственницей, как и не каждая состоявшая в благополучном браке викторианская дама бывала счастлива оттого, что ее домашние обязанности ограничиваются хозяйственными заботами, посещениями церкви и воспитанием детей. При этом далеко не все они мучились подавленными желаниями и страстями, не находящими себе выхода. Женщин, подобных Марии Мэннинг и Мадлен Смит, мы помним потому, что их судьбы поставили перед современниками вопрос о том, что подобает и что не подобает женщине.
Из книги «Чисто британское убийство» Люси Уорсли.
В реальности же все выглядело намного сложнее. Под словом «работа» в викторианской Англии подразумевалась деятельность, осуществляемая исключительно вне дома, следовательно, многое из того, что делали женщины, ведя домашнее хозяйство и внося свой вклад в семейный бизнес, для постороннего глаза оставалось невидимым. Вдобавок, чтобы не ранить самолюбие мужчины, женщины нередко изображали, что трудятся меньше, чем на самом деле.
Даже вопреки исключениям, в культуре того времени существовал устойчивый стереотип идеальной женщины — украшающей собой дом, поддерживающей в нем мир и влияющей на его моральный климат скорее своими добродетелями, а не трудолюбием и интеллектуальными способностями. У Мадлен Смит, судя по всему, подобная перспектива особого энтузиазма не вызывала, и относилась она к ней довольно холодно, но именно такой взгляд на роль женщины в обществе впоследствии и спас ее.
Эта история молодой девушки, избежавшей наказания за свое преступление благодаря сложившемуся представлению о том, какой следует быть женщине; эта история, почти неправдоподобная по счастливой своей развязке, наглядно показывает, насколько стереотипно наше суждение об обществе XIX века. Историки, изучающие этот период, потратили немало усилий, убеждая нас, что благоговейный трепет целомудрия, который мы привыкли считать важной составляющей образа жизни средних слоев общества в Викторианскую эпоху, есть не что иное, как измышление XX века. Например, известный миф, будто викторианцы усматривали нечто неприличное в форме рояльных ножек и потому облекали их в чехлы, давно развенчан. Разумеется, не каждая викторианская девушка-подросток оставалась девственницей, как и не каждая состоявшая в благополучном браке викторианская дама бывала счастлива оттого, что ее домашние обязанности ограничиваются хозяйственными заботами, посещениями церкви и воспитанием детей. При этом далеко не все они мучились подавленными желаниями и страстями, не находящими себе выхода. Женщин, подобных Марии Мэннинг и Мадлен Смит, мы помним потому, что их судьбы поставили перед современниками вопрос о том, что подобает и что не подобает женщине.
Из книги «Чисто британское убийство» Люси Уорсли.
glass.gif.crdownload
5.8 MB
Я всегда, когда читаю про женщин-убийц (необязательно наемных).
Архетип читателя рассказов о Шерлоке Холмсе — это мужчина, листающий журнал по пути на работу, куда он едет на поезде. В 1920-х годах большинство мужчин добирались до места службы на собственных машинах, и читать за рулем не могли, так что детективы по большей части стали привилегией женщин, которые, сидя по домам, коротали день за книгой, взятой в библиотеке.
Это я всё еще читаю «Чисто английское убийство» и хочу сказать, что просто ОБОЖАЮ такие штуки. Уорсли пишет о том, почему на смену героям типа Шерлока Холмса (дерзким, вызывающим, живущим опасными и ужасающими историями) пришли герои и героини типа Эркюля Пуаро и миссис Марпл (спокойные, безопасные, добродушные, планомерные и совершенно не шокирующие). «Золотой век» детектива часто считают пресным, но это объясняется настроениями, которые тогда царили в обществе — Первая мировая закончилась, и людям хотелось спокойствия, мира, элегантности, а не историй, от которых стынет кровь и становится неуютно в собственной гостиной. В той же корзинке изменений, например — взлет популярности писательниц. Причин сразу несколько: тот самый запрос на спокойный «домашний» детектив, который у женщин получалось писать лучше благодаря своему жизненному опыту; обилие женских персонажей (помним про изменение ядра читательской аудитории); меньше жестокости, больше — историй о жизни женщин, овдовевших или так и не вышедших замуж из-за потери целого поколения мужчин; женщины получали новые профессии, жили разнообразнее, получили право голосовать, и просто начали занимать больше места во многих областях общественной жизни и — в литературе, где становилось все больше женского опыта.
Наверняка, конечно, все было намного сложнее, но я очень люблю искать такие параллели — между тем, как люди живут, и тем, какую культуру они производят (и потребляют).
Это я всё еще читаю «Чисто английское убийство» и хочу сказать, что просто ОБОЖАЮ такие штуки. Уорсли пишет о том, почему на смену героям типа Шерлока Холмса (дерзким, вызывающим, живущим опасными и ужасающими историями) пришли герои и героини типа Эркюля Пуаро и миссис Марпл (спокойные, безопасные, добродушные, планомерные и совершенно не шокирующие). «Золотой век» детектива часто считают пресным, но это объясняется настроениями, которые тогда царили в обществе — Первая мировая закончилась, и людям хотелось спокойствия, мира, элегантности, а не историй, от которых стынет кровь и становится неуютно в собственной гостиной. В той же корзинке изменений, например — взлет популярности писательниц. Причин сразу несколько: тот самый запрос на спокойный «домашний» детектив, который у женщин получалось писать лучше благодаря своему жизненному опыту; обилие женских персонажей (помним про изменение ядра читательской аудитории); меньше жестокости, больше — историй о жизни женщин, овдовевших или так и не вышедших замуж из-за потери целого поколения мужчин; женщины получали новые профессии, жили разнообразнее, получили право голосовать, и просто начали занимать больше места во многих областях общественной жизни и — в литературе, где становилось все больше женского опыта.
Наверняка, конечно, все было намного сложнее, но я очень люблю искать такие параллели — между тем, как люди живут, и тем, какую культуру они производят (и потребляют).
Недавно упала неприятно на ровном месте и подвернула ногу. Оказалось — частичный разрыв связок.
Долго рассматривала снимок, который мне сделали в больнице — на ренгене красивая и ровная нога, вообще невозможно разглядеть следов адской боли (перелома нет. хм, это не очень удачно, — сказал врач).
Изобретение УЗИ и (потом) других средств изучения невидимого в человеке, его нутра — ужасно интересная штука. Вообще изначально заглянуть куда-нибудь с помощью звука было задачей из материального мира — в начале XX века хотели сквозь воду рассмотреть Титаник; потом — искать немецкие подлодки; еще чуть позже — искать изъяны в больших металлических конструкциях. Механика тоже была простая — источник ультразвука находится с одной стороны изучаемого чего-то, а приемник — с противоположной. Он считывал сигналы, которые до него долетали, и показывал «тени», которые уже можно было интерпретировать. Потом придумывали и другие системы, главным было — сделать так, чтобы приемник и источник находились с одной стороны анализируемого чего угодно. Наконец, в середине XX века появился первый ультразвуковой снимок головки плода. Еще через несколько лет УЗИ помогло разглядеть в органах опухоль. Потом появились машины, с помощью которых внутренности можно было рассматривать в реальном времени, а еще позже научились разглядывать и движение крови по венам.
В общем — занимательный путь человечества к способности рассматривать детей на разных стадиях развития в утробе матери (а не мертвых — в банке с формалином) и разбираться в том, что же в наших внутренностях поломалось, без необходимости эти самые внутренности доставать и вертеть на свету. Это важный кусочек визуального поворота в истории человечества — еще она визуальная перспектива для смотрения на (в) человека, еще один павший барьер перед нашим зрением, которое с развитием технологий становилось все более всесильным, и все менее — направленным так, как велит золотой стандарт искусства, прямая перспектива, которая много лет считалась единственно верным и правильным способом отображения мира на плоскости. Мы научились фотографировать человека в стадиях, в которых его раньше невозможно было даже увидеть. Мы научились рассматривать человеческие тела в таких ракурсах, таких подробностях и таких масштабах, в которых раньше это было невозможно. Мы научились препарировать людей, не убивая и не калеча их в процессе — но при этом нарушая самые, казалось бы, важные и стойкие границы человеческой телесности, вторгаясь в их (буквально) внутренний мир — появилась совершенно иная степень инвазивности.
Сейчас это всего лишь очень подробный снимок ноги, конечно.
Долго рассматривала снимок, который мне сделали в больнице — на ренгене красивая и ровная нога, вообще невозможно разглядеть следов адской боли (перелома нет. хм, это не очень удачно, — сказал врач).
Изобретение УЗИ и (потом) других средств изучения невидимого в человеке, его нутра — ужасно интересная штука. Вообще изначально заглянуть куда-нибудь с помощью звука было задачей из материального мира — в начале XX века хотели сквозь воду рассмотреть Титаник; потом — искать немецкие подлодки; еще чуть позже — искать изъяны в больших металлических конструкциях. Механика тоже была простая — источник ультразвука находится с одной стороны изучаемого чего-то, а приемник — с противоположной. Он считывал сигналы, которые до него долетали, и показывал «тени», которые уже можно было интерпретировать. Потом придумывали и другие системы, главным было — сделать так, чтобы приемник и источник находились с одной стороны анализируемого чего угодно. Наконец, в середине XX века появился первый ультразвуковой снимок головки плода. Еще через несколько лет УЗИ помогло разглядеть в органах опухоль. Потом появились машины, с помощью которых внутренности можно было рассматривать в реальном времени, а еще позже научились разглядывать и движение крови по венам.
В общем — занимательный путь человечества к способности рассматривать детей на разных стадиях развития в утробе матери (а не мертвых — в банке с формалином) и разбираться в том, что же в наших внутренностях поломалось, без необходимости эти самые внутренности доставать и вертеть на свету. Это важный кусочек визуального поворота в истории человечества — еще она визуальная перспектива для смотрения на (в) человека, еще один павший барьер перед нашим зрением, которое с развитием технологий становилось все более всесильным, и все менее — направленным так, как велит золотой стандарт искусства, прямая перспектива, которая много лет считалась единственно верным и правильным способом отображения мира на плоскости. Мы научились фотографировать человека в стадиях, в которых его раньше невозможно было даже увидеть. Мы научились рассматривать человеческие тела в таких ракурсах, таких подробностях и таких масштабах, в которых раньше это было невозможно. Мы научились препарировать людей, не убивая и не калеча их в процессе — но при этом нарушая самые, казалось бы, важные и стойкие границы человеческой телесности, вторгаясь в их (буквально) внутренний мир — появилась совершенно иная степень инвазивности.
Сейчас это всего лишь очень подробный снимок ноги, конечно.
Люблю выложить сомнительный пост со снимком ноги и исчезнуть на пару недель. Умного контента нет, но я хочу порассуждать о сериале «Люцифер» (бывают и такие дни). Это сериал о том, как король Ада заскучал и решил затусить в Лос-Анджелесе на век-другой. У сериала забавная судьба: первые три сезона выпускал телеканал Fox, загнал сериал в могилу отвратительной сценарной работой и дешевым продакшеном, и счастливо сериал закрыл. Но потом права выкупил Netfix, и «старые вещи заиграли новыми красками» (тм).
Вообще спасение сериалов Netfix — это прямо какая-то новая религия, мы все ждем, что наших позорных любимцев заметят, осветят благосклонным вниманием, отмоют, накормят, накупят новых игрушек и будут всю жизнь говорить, какие они хорошие, добрые и смешные. Но я пожалуй впервые столкнулась с тем, как вот ты смотришь бонусные эпизоды ОТВРАТИТЕЛЬНОГО, УЖАСНОГО ПРОСТО третьего сезона, для которого сценарий писала черная плесень на дне кружки сценариста-стажера, который в сутки сдает сто восемьдесят страниц сценария для восьми разных сериалов, и на девятый у него тупо не хватило времени, и потом включаешь четвертый сезон, и тебе...нравится.
«Люцифер» не стал великим сериалом — там все еще выдохшийся в первом сезоне промис, все герои ходят по кругу и каждые три-четыре серии забывают все инсайты, которые они получили совсем недавно (не говоря уж об инсайтах, полученных сезон назад), ничего не происходит, рояли выкатываются из кустов, детективная часть давно уже просто декорация из трех драных простыней и ветки. Но с переездом на Netflix он стал...лучше?
Во-первых, улучшилась картинка. Да, вмазывание денег реально ПОМОГАЕТ. Оператор снимает не на картошку, из которой он гнал самогон, драки стали более эффектными, фоны глубже, локации разнообразнее. Ну короче, это тупо приятнее смотреть.
Во-вторых, в сериале появилась ирония. Вообще весь сетап довольно, ну, несерьезный: Люцифер ходит к терапевту и пересказывает свои детские травмы, выясняет отношения с отдаленным отцом, вечно превращает что-то банальное в проблему вселенской важности — и обратно. Пространство для иронии огромное, но с новой командой она стала как-то точнее, изобретательнее, ну то есть — просто лучше. А музыкальные эпизоды? А эпизод, стилизованный под нуар? Ну, в общем. Сорта херни стали разнообразнее!
В-третьих, ЛГБТ-тематика быстро стала частью пейзажа, как это почти всегда бывает у Netflix — она есть, такие отношения бывают, такие возможности равны гетеро-возможностям, без какого-либо излишнего внимания («О БОЖЕ А ВДРУГ ОНА ВСЕ-ТАКИ.....КАКОВ СКАНДАЛ»). Это все-таки замечательно.
В-четвертых, в мире «Люцифера» появились реальные вещи, а не только пластиковые и абсолютно нереалистичные пересказы терапевтических проблем! Например, только с переездом на Netflix чернокожий ангел, который раньше просто отвечал за абстрактную дайверсити в касте, вдруг заметил, как он воспринимается окружающими людьми — раньше этой темы просто не существовало. Раньше я и не замечала, как такие мелочи добавляют в происходящее глубину, делают даже абсолютно фэнтезийный сеттинг чуть более вещественным.
В общем, удивительное рядом, даже посредственные сериалы можно спасти, если насыпать им немного лоска, социальной повестки, самоиронии и музыкальных номеров.
Вообще спасение сериалов Netfix — это прямо какая-то новая религия, мы все ждем, что наших позорных любимцев заметят, осветят благосклонным вниманием, отмоют, накормят, накупят новых игрушек и будут всю жизнь говорить, какие они хорошие, добрые и смешные. Но я пожалуй впервые столкнулась с тем, как вот ты смотришь бонусные эпизоды ОТВРАТИТЕЛЬНОГО, УЖАСНОГО ПРОСТО третьего сезона, для которого сценарий писала черная плесень на дне кружки сценариста-стажера, который в сутки сдает сто восемьдесят страниц сценария для восьми разных сериалов, и на девятый у него тупо не хватило времени, и потом включаешь четвертый сезон, и тебе...нравится.
«Люцифер» не стал великим сериалом — там все еще выдохшийся в первом сезоне промис, все герои ходят по кругу и каждые три-четыре серии забывают все инсайты, которые они получили совсем недавно (не говоря уж об инсайтах, полученных сезон назад), ничего не происходит, рояли выкатываются из кустов, детективная часть давно уже просто декорация из трех драных простыней и ветки. Но с переездом на Netflix он стал...лучше?
Во-первых, улучшилась картинка. Да, вмазывание денег реально ПОМОГАЕТ. Оператор снимает не на картошку, из которой он гнал самогон, драки стали более эффектными, фоны глубже, локации разнообразнее. Ну короче, это тупо приятнее смотреть.
Во-вторых, в сериале появилась ирония. Вообще весь сетап довольно, ну, несерьезный: Люцифер ходит к терапевту и пересказывает свои детские травмы, выясняет отношения с отдаленным отцом, вечно превращает что-то банальное в проблему вселенской важности — и обратно. Пространство для иронии огромное, но с новой командой она стала как-то точнее, изобретательнее, ну то есть — просто лучше. А музыкальные эпизоды? А эпизод, стилизованный под нуар? Ну, в общем. Сорта херни стали разнообразнее!
В-третьих, ЛГБТ-тематика быстро стала частью пейзажа, как это почти всегда бывает у Netflix — она есть, такие отношения бывают, такие возможности равны гетеро-возможностям, без какого-либо излишнего внимания («О БОЖЕ А ВДРУГ ОНА ВСЕ-ТАКИ.....КАКОВ СКАНДАЛ»). Это все-таки замечательно.
В-четвертых, в мире «Люцифера» появились реальные вещи, а не только пластиковые и абсолютно нереалистичные пересказы терапевтических проблем! Например, только с переездом на Netflix чернокожий ангел, который раньше просто отвечал за абстрактную дайверсити в касте, вдруг заметил, как он воспринимается окружающими людьми — раньше этой темы просто не существовало. Раньше я и не замечала, как такие мелочи добавляют в происходящее глубину, делают даже абсолютно фэнтезийный сеттинг чуть более вещественным.
В общем, удивительное рядом, даже посредственные сериалы можно спасти, если насыпать им немного лоска, социальной повестки, самоиронии и музыкальных номеров.
YouTube
Lucifer | Final Season Trailer | Netflix
All bad things must come to an end. The final season of Lucifer premieres on Netflix on September 10th.
Watch Lucifer, only on Netflix: https://www.netflix.com/Lucifer
SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7
About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming…
Watch Lucifer, only on Netflix: https://www.netflix.com/Lucifer
SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7
About Netflix:
Netflix is the world's leading streaming…
Написала про книжки, которые очень жду. Это всё. Весь пост.
🍺 Я люблю книжки и квироту, поэтому снова не могу не написать про No Kidding Press и их новую подписку — сейчас можно купить четыре книги, которые готовятся к печати и выйдут в конце этого и начале следующего года, и тем самым сильно поддержать издательство.
Более того, в этом сезоне три из четырех книг написаны квир-авторками, так что.
Вот они:
📽 Шанталь Акерман («Моя мать смеется») — бельгийская режиссерка, классик феминистского кино. Она сняла несколько десятков игровых и документальных фильмов, преподавала в Городском колледже Нью-Йорка. Её фильмы, инсталляции и книги — про то, насколько тяжело бывает выносить повседневную жизнь. В центре её работ — женщины, их положение в обществе, их травмы и силы, которые действуют против них каждый день. Акерман покончила жизнь самоубийством 5 октября 2015 года, через год после смерти матери, вокруг отношений с (и к) которой построено очень многое в её работе.
В «Моя мать смеется», написанной за два года до смерти, Акерман пытается разобраться в своих разнообразных чувствах к матери. Переменчивость эмоций, которые у неё вызывает мать, проникает и в остальные сферы жизни Акерман — в том числе и отношения с девушкой.
Skinned alive, proud, arrogant, shy, whole, too much, and I had only scratched her sores. I was standing and I said, I don’t love you. I don’t love you anymore.
That’s not possible.
No. Yes. No. Yes.
Ожидаю душераздирающее чтение.
✊🏿 Одри Лорд («Сестра-аутсайдерка») — «Черная, лесбиянка, мать, воительница, поэтесса». Про неё и другую её книгу («Зами: как по-новому писать мое имя») я уже писала, и это потрясающий памятник лесбийской истории. «Сестра-аутсайдерка» — сборник из пятнадцати речей и эссе Лорд. В нем она рассуждает о расизме, гомофобии, женском опыте и женском письме — и выводит важную для её творческого и философского пути идею важности различия, непохожести в том, что касается расы, гендера, экономического состояния и так далее — и понимания того, что без этого принятия этого различия перемены невозможны. У Лорд невероятно мощный, мудрый, ясный язык. Еще, например, в сборнике есть её эссе про поездку в Россию в 1976 году, где она, например, отмечает, как отношение к её цвету кожи (спокойно-любопытствующее) в СССР заставило её с особенной силой почувствовать ужасающую и неизбежную повседневность расизма в Америке.
Мне очень импонирует то, как она думает и как пишет, да и вообще это будущий феминистский мастрид на русском языке, точно вам говорю.
Revolution is not a one time event.
💆♀️ Доди Беллами («Буддист») — важная фигура авангардной литературной сцены Сан-Франциско, представительница движения «Новый нарратив». Беллами фокусируется на сексуальности, политике, феминизме и новых нарративных стратегиях. А еще Беллами — бисексуалка, которая была замужем за бисексуальным писателем Кевином Киллианом. В «Буддисте» Беллами переживает расставание с калифорнийским духовным гуру. Она исследует политики страсти и стыда, задается вопросами об индивидуальной и коллективной духовности, и задается весьма актуальным вопросом — осталось ли что-то приватным в цифровой эпохе.
Она разбирает стереотипы о женщинах как о «слишком остро реагирующих» и «излишне эмоциональных», рассуждает о границах «овершеринга» и силе письма — и все это в материалах публичного блога, что делает эти тексты удивительно мета-рефлексивными.
Честно говоря, это все, что я люблю.
Writing is tough work, I don’t see how anyone can really write from a position of weakness. Sometimes I may start out in that position, but the act of commandeering words flips me into a position of power.
Купить подписку можно в интернет-магазине или у телеграм-бота издательства. А еще 200 рублей с каждой подписки на этот сезон отправится в Консорциум женских неправительственных организаций.
Более того, в этом сезоне три из четырех книг написаны квир-авторками, так что.
Вот они:
📽 Шанталь Акерман («Моя мать смеется») — бельгийская режиссерка, классик феминистского кино. Она сняла несколько десятков игровых и документальных фильмов, преподавала в Городском колледже Нью-Йорка. Её фильмы, инсталляции и книги — про то, насколько тяжело бывает выносить повседневную жизнь. В центре её работ — женщины, их положение в обществе, их травмы и силы, которые действуют против них каждый день. Акерман покончила жизнь самоубийством 5 октября 2015 года, через год после смерти матери, вокруг отношений с (и к) которой построено очень многое в её работе.
В «Моя мать смеется», написанной за два года до смерти, Акерман пытается разобраться в своих разнообразных чувствах к матери. Переменчивость эмоций, которые у неё вызывает мать, проникает и в остальные сферы жизни Акерман — в том числе и отношения с девушкой.
Skinned alive, proud, arrogant, shy, whole, too much, and I had only scratched her sores. I was standing and I said, I don’t love you. I don’t love you anymore.
That’s not possible.
No. Yes. No. Yes.
Ожидаю душераздирающее чтение.
✊🏿 Одри Лорд («Сестра-аутсайдерка») — «Черная, лесбиянка, мать, воительница, поэтесса». Про неё и другую её книгу («Зами: как по-новому писать мое имя») я уже писала, и это потрясающий памятник лесбийской истории. «Сестра-аутсайдерка» — сборник из пятнадцати речей и эссе Лорд. В нем она рассуждает о расизме, гомофобии, женском опыте и женском письме — и выводит важную для её творческого и философского пути идею важности различия, непохожести в том, что касается расы, гендера, экономического состояния и так далее — и понимания того, что без этого принятия этого различия перемены невозможны. У Лорд невероятно мощный, мудрый, ясный язык. Еще, например, в сборнике есть её эссе про поездку в Россию в 1976 году, где она, например, отмечает, как отношение к её цвету кожи (спокойно-любопытствующее) в СССР заставило её с особенной силой почувствовать ужасающую и неизбежную повседневность расизма в Америке.
Мне очень импонирует то, как она думает и как пишет, да и вообще это будущий феминистский мастрид на русском языке, точно вам говорю.
Revolution is not a one time event.
💆♀️ Доди Беллами («Буддист») — важная фигура авангардной литературной сцены Сан-Франциско, представительница движения «Новый нарратив». Беллами фокусируется на сексуальности, политике, феминизме и новых нарративных стратегиях. А еще Беллами — бисексуалка, которая была замужем за бисексуальным писателем Кевином Киллианом. В «Буддисте» Беллами переживает расставание с калифорнийским духовным гуру. Она исследует политики страсти и стыда, задается вопросами об индивидуальной и коллективной духовности, и задается весьма актуальным вопросом — осталось ли что-то приватным в цифровой эпохе.
Она разбирает стереотипы о женщинах как о «слишком остро реагирующих» и «излишне эмоциональных», рассуждает о границах «овершеринга» и силе письма — и все это в материалах публичного блога, что делает эти тексты удивительно мета-рефлексивными.
Честно говоря, это все, что я люблю.
Writing is tough work, I don’t see how anyone can really write from a position of weakness. Sometimes I may start out in that position, but the act of commandeering words flips me into a position of power.
Купить подписку можно в интернет-магазине или у телеграм-бота издательства. А еще 200 рублей с каждой подписки на этот сезон отправится в Консорциум женских неправительственных организаций.
Короткое, но задающее (на мой взгляд) правильные вопросы размышление культурологини Оксаны Мороз о том, где, собственно, небанальные, сложные, вдумчивые научные книги водятся, если все, что видим и читаем мы — это просто россыпи фактов, собранные в кучку имени некоторых недавних повседневных событий и триггеров. А никаких концептуально новых, анализирующих реальность, обширных книг не встречается.
Вот такие причины приводятся в тексте:
Этой ситуации, на мой взгляд, есть несколько объяснений. Часто их невольно воспроизводит сама академия:
— все фундаментальное уже обсудили в древности или на заре научной революции. Мыслители от Аристотеля до Декарта ответили на принципиальные вопросы о человеческом. Их не переплюнуть, сейчас стоит сосредоточиться на чем-то помельче и поконкретнее.
— как раз исследование кейсов — диковин — позволяет увидеть не коллективные явления, а частные.
— а еще наука поставлена на поток. Повседневные интересы становятся поводом / причиной для исследований. Так индивидуальные bias превращаются в драйверы аналитики.
И тут сложно спорить, конечно! Но меня вот особенно интересует последняя причина, потому что она видится куда более комплексной, чем может показаться на первый взгляд.
Важная предпосылка превращения книг про науку в «набор кулстори» — это расширение аудитории книг про науку. Из этого следует две вещи: во-первых, больше людей стали читать книжки про разные научные направления! Классно! Во-вторых, можно печатать больше книг про науку, ведь аудитория выросла! Но чем шире аудитория чего-либо — тем проще должен быть язык и темы, чтобы максимально совпасть с людьми из разных контекстов и с разным опытом, тем больше нужно париться о том, как и чем мы будем эту широкую аудиторию к книге привлекать, тем ближе к повседневному опыту широкой аудитории должен быть текст, чтобы чем-то её зацепить.
Тут где-то и кроется корень проблемы — широкие, глубокие и новаторские тексты, обобщенная аналитика — это не очень-то маркетинговая категория, людей, заинтересованных в сиянии чистого разума попросту очень мало, не сильно больше, чем было сто или тысячу лет назад, когда те самые «тексты обо всем» выходили «пачками» (разумеется, нет).
Есть и другая сторона — мы живем в мире, где с каждым годом остается все меньше веры в существование некоторой нормы, некоего эталонного слепка реальности, который можно взять за основу «обширного» текста об устройстве всего мира. Мы смотрим в детали, потому что там кроются, на самом-то деле, всякие драматические разницы человеческого опыта проживания жизни. Сейчас все сложнее найти концепцию или идею, на которую можно было бы гордо навесить ярлык «общечеловеческой», ибо не осталось никакого разделения на «общечеловеков» и «всех остальных», которые и раньше оставались погрешностью в тех самых фундаментально-универсальных трудах прошлого.
Это важный взгляд, но и он ограничен — «если аналитика есть следствие повседневных интересов, то все рассуждения ограничены зоной здравого смысла». This is good: универсальный текст гарантированно выкидывает кого-то из поля зрения, частный текст...конечно, делает то же самое, узкий и направленный в определенную точку взгляд — это его киллер фича.
Что остается? Литература и философия, похоже.
Вот такие причины приводятся в тексте:
Этой ситуации, на мой взгляд, есть несколько объяснений. Часто их невольно воспроизводит сама академия:
— все фундаментальное уже обсудили в древности или на заре научной революции. Мыслители от Аристотеля до Декарта ответили на принципиальные вопросы о человеческом. Их не переплюнуть, сейчас стоит сосредоточиться на чем-то помельче и поконкретнее.
— как раз исследование кейсов — диковин — позволяет увидеть не коллективные явления, а частные.
— а еще наука поставлена на поток. Повседневные интересы становятся поводом / причиной для исследований. Так индивидуальные bias превращаются в драйверы аналитики.
И тут сложно спорить, конечно! Но меня вот особенно интересует последняя причина, потому что она видится куда более комплексной, чем может показаться на первый взгляд.
Важная предпосылка превращения книг про науку в «набор кулстори» — это расширение аудитории книг про науку. Из этого следует две вещи: во-первых, больше людей стали читать книжки про разные научные направления! Классно! Во-вторых, можно печатать больше книг про науку, ведь аудитория выросла! Но чем шире аудитория чего-либо — тем проще должен быть язык и темы, чтобы максимально совпасть с людьми из разных контекстов и с разным опытом, тем больше нужно париться о том, как и чем мы будем эту широкую аудиторию к книге привлекать, тем ближе к повседневному опыту широкой аудитории должен быть текст, чтобы чем-то её зацепить.
Тут где-то и кроется корень проблемы — широкие, глубокие и новаторские тексты, обобщенная аналитика — это не очень-то маркетинговая категория, людей, заинтересованных в сиянии чистого разума попросту очень мало, не сильно больше, чем было сто или тысячу лет назад, когда те самые «тексты обо всем» выходили «пачками» (разумеется, нет).
Есть и другая сторона — мы живем в мире, где с каждым годом остается все меньше веры в существование некоторой нормы, некоего эталонного слепка реальности, который можно взять за основу «обширного» текста об устройстве всего мира. Мы смотрим в детали, потому что там кроются, на самом-то деле, всякие драматические разницы человеческого опыта проживания жизни. Сейчас все сложнее найти концепцию или идею, на которую можно было бы гордо навесить ярлык «общечеловеческой», ибо не осталось никакого разделения на «общечеловеков» и «всех остальных», которые и раньше оставались погрешностью в тех самых фундаментально-универсальных трудах прошлого.
Это важный взгляд, но и он ограничен — «если аналитика есть следствие повседневных интересов, то все рассуждения ограничены зоной здравого смысла». This is good: универсальный текст гарантированно выкидывает кого-то из поля зрения, частный текст...конечно, делает то же самое, узкий и направленный в определенную точку взгляд — это его киллер фича.
Что остается? Литература и философия, похоже.
Оксана Мороз
Мы исследуем банальности. Почему?
Зачем пытаться обобщенно мыслить, если можно описывать подробности и тонкости?
Редкий случай, когда я пропала из канальчика не в мирскую уныль и парализующее душу бездействие, а в самую что ни на есть новую работу, поэтому есть риск, что в некотором обозримом будущем я тут буду много писать про книжки No Kidding Press (как будто раньше мало про них писала, ок да).
Например, сегодня вышел долгожданный «Раз_рыв» Джоанны Уолш, текст про расставание в современном цифровом мире, где все разобщены, где ты сам с собой в раз_рыве. Интеллектуальное познание мира, путешествие, а не место назначения, бессюжетность, которая оголяет движение мысли и позволяет тексту разлиться до безграничных масштабов, цитаты из Кьеркегора, Барта, Краус и Батлер — в общем, все, что любят многие мои читательские, писательские и просто житейские субличности. (Кстати, мой промокод ALMOST на 10% скидки в онлайн-магазине издательства никуда не девается).
Например, сегодня вышел долгожданный «Раз_рыв» Джоанны Уолш, текст про расставание в современном цифровом мире, где все разобщены, где ты сам с собой в раз_рыве. Интеллектуальное познание мира, путешествие, а не место назначения, бессюжетность, которая оголяет движение мысли и позволяет тексту разлиться до безграничных масштабов, цитаты из Кьеркегора, Барта, Краус и Батлер — в общем, все, что любят многие мои читательские, писательские и просто житейские субличности. (Кстати, мой промокод ALMOST на 10% скидки в онлайн-магазине издательства никуда не девается).