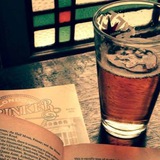(3)
Что тут интересного:
Большинство участвует в конфликтах. Никто не может сказать «а вот меня не спросили» и быть потом использованным в этом ключе (даже в современной истории вполне можно найти примеры таких ситуаций). Гражданин всегда участвует в стазисе — он может проиграть, может победить, но он несет свою ответственность за разрешение конфликта и разделяет с обществом его результаты.
Такое понимание гражданства до определенной степени решает проблему пассивности большинства — оно, опять же, не может не участвовать, ей ему приходится совершать политический выбор.
Политическое действие — это не формальное «сходил на выборы». Это участие в активном политическом конфликте. Конечно, в формате глобальных национальных государств это сложно представить — но можно ведь представлять не только глобальные национальные конфликты как пространство для политического действия.
Отсутствие стазисов, любая исключительная политика, которая вводится во времена кризисов, чтобы вернуть мир к «порядку и безопасности» — анти-демократическое действие (по Каливасу). Стазис — часть демократической повседневности, это не конец общественной жизни, а, напротив, её ре-актуализация (иными словами, не надо бояться конфликтов, даже внутри сообщества!).
Лично меня ужасно увлекает идея гражданства-как-последствия-твоих-действий-и-выборов, а не как статуса или привилегии (ну, свезло родиться в определенном месте, вот тебе тележка благ, не повезло — вот тебе тележка хреноты и ограниченные возможности эту ситуацию изменить).
Что тут интересного:
Большинство участвует в конфликтах. Никто не может сказать «а вот меня не спросили» и быть потом использованным в этом ключе (даже в современной истории вполне можно найти примеры таких ситуаций). Гражданин всегда участвует в стазисе — он может проиграть, может победить, но он несет свою ответственность за разрешение конфликта и разделяет с обществом его результаты.
Такое понимание гражданства до определенной степени решает проблему пассивности большинства — оно, опять же, не может не участвовать, ей ему приходится совершать политический выбор.
Политическое действие — это не формальное «сходил на выборы». Это участие в активном политическом конфликте. Конечно, в формате глобальных национальных государств это сложно представить — но можно ведь представлять не только глобальные национальные конфликты как пространство для политического действия.
Отсутствие стазисов, любая исключительная политика, которая вводится во времена кризисов, чтобы вернуть мир к «порядку и безопасности» — анти-демократическое действие (по Каливасу). Стазис — часть демократической повседневности, это не конец общественной жизни, а, напротив, её ре-актуализация (иными словами, не надо бояться конфликтов, даже внутри сообщества!).
Лично меня ужасно увлекает идея гражданства-как-последствия-твоих-действий-и-выборов, а не как статуса или привилегии (ну, свезло родиться в определенном месте, вот тебе тележка благ, не повезло — вот тебе тележка хреноты и ограниченные возможности эту ситуацию изменить).
🤔5
#политфилософия #цитата
Чакрабати — о том, почему боги и духи это не «социальный факт» (то есть заведомо сконструированный человеком социальный объект, который можно мыслить и оценивать только таковым — мол, если индийцы верят в богов, они до-политические субъекты, еще не достаточно развитые для самостоятельности), но и полноценные соучастники современной социальной жизни.
«Второй <посыл>, пронизывающий современную европейскую политическую мысль и общественные науки, состоит в том, что человек онтологически сингулярен, что боги и духи — это, в конце концов, «социальные факты». А существование социального некоторым образом предшествует их существованию. Я стараюсь, напротив, рассуждать без предустановки о приоритете социального, даже логическом. Эмпирически мы знаем, что ни одно сообщество никогда не существовало без присутствия богов и духов рядом с человеком. Бог монотеистов получил несколько чувствительных, хотя и не смертельных, ударов на протяжении европейского XIX века. Но боги и другие существа, наличествующие в так называемых суеверных практиках, нигде не умирали. Я считаю богов и духов экзистенциально ровесниками людей и рассуждаю, исходя из посыла о том, что вопрос бытия человека включает вопрос сосуществования с богами и духами. Быть человеком в числе прочего означает, говоря словами Рамачандры Ганди, раскрывать "возможность взывать к Богу [или богам] без навязанной необходимости сперва установить его [или их] реальность"».
Чакрабати — о том, почему боги и духи это не «социальный факт» (то есть заведомо сконструированный человеком социальный объект, который можно мыслить и оценивать только таковым — мол, если индийцы верят в богов, они до-политические субъекты, еще не достаточно развитые для самостоятельности), но и полноценные соучастники современной социальной жизни.
«Второй <посыл>, пронизывающий современную европейскую политическую мысль и общественные науки, состоит в том, что человек онтологически сингулярен, что боги и духи — это, в конце концов, «социальные факты». А существование социального некоторым образом предшествует их существованию. Я стараюсь, напротив, рассуждать без предустановки о приоритете социального, даже логическом. Эмпирически мы знаем, что ни одно сообщество никогда не существовало без присутствия богов и духов рядом с человеком. Бог монотеистов получил несколько чувствительных, хотя и не смертельных, ударов на протяжении европейского XIX века. Но боги и другие существа, наличествующие в так называемых суеверных практиках, нигде не умирали. Я считаю богов и духов экзистенциально ровесниками людей и рассуждаю, исходя из посыла о том, что вопрос бытия человека включает вопрос сосуществования с богами и духами. Быть человеком в числе прочего означает, говоря словами Рамачандры Ганди, раскрывать "возможность взывать к Богу [или богам] без навязанной необходимости сперва установить его [или их] реальность"».
🔥2😁2
#коучинг (i guess?)
(1)
В общем, был такой психолог — Лоуренс Кольберг. (Дальше идет пересказ Википедии). Кольберг задавал людям сложно-устроенные моральные дилеммы и на основе ответов людей придумал теорию морального развития. Которая заключается в следующем: моральные рассуждения, составляющие основу этического поведения человека, можно расположить на одной из шести идентифицируемых стадий развития. На каждой стадии ответы на моральные дилеммы более «адекватны», чем на предыдущей. В идеале наше моральное развитие происходит всю жизнь и мы последовательно перемещаемся от первой стадии к шестой.
В рамках теории Кольберг делает несколько утверждений:
— У человечества (вне зависимости от культуры) есть одиннадцать основных ценностей: законы и нормы, совесть, способность выразить свои чувства, авторитет, гражданские права, договор, доверие и справедливость в обмене, справедливость наказания, жизнь, право собственности, правда или истина, любовь и секс.
— Центральное понятие модели — понятие справедливости, то есть распределение прав и обязанностей, регулируемое понятиями равенства и взаимности.
— Моральные нормы человека не являются автоматически усвоенными «внешними» нормами и не складываются вследствие опыта наказания и вознаграждения, а вырабатываются в ходе социального взаимодействия.
Шесть этапов нравственного развития делятся на три уровня: доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный.
Доконвенциональный уровень:
1. Ориентация на наказание и послушание (Как я могу избежать наказания?)
2. Наивная гедонистическая ориентация (Какая здесь польза для меня?)
На этом уровне человек (чаще всего — ребенок, но не всегда) принимает решения, исходя из эгоцентрических мотивов. Других людей, их блага и интересов не существует. О нравственности действия на этом уровне судят по его прямым последствиям для индивида: если не накажут — можно. Если есть польза и не накажут — вообще отлично. Хорошо или плохо существует только в этих смысловых рамках (накажут — плохо, не накажут — хорошо).
Конвенциональный уровень:
3. Ориентация на соответствие ближнему окружению/малой группе (социальные нормы, модель «хорошего ребёнка»)
4. Желание поддерживать установленный порядок социальной справедливости и правил (Мораль соответствует правилам и законам)
На этом уровне человек судит о нравственности своих поступков, сравнивая их с мнениями и ожиданиями общества. Морально то, что принято обществом, хорошо — следовать этим нормам. Не следовать — плохо. Целесообразность норм редко подвергается сомнению. Основной страх — исключение из общества за не-следование конвенциям, поиск «своих», откуда не выгонят, и следование их нормам. Исполнение желаний группы — самоцель, получение внешнего одобрения — способ идентифицировать себя относительно группы.
Постконвенциональный уровень:
5. Утилитаризм и представление о морали как продукте общественного договора (социальный контракт)
6. Универсальные этические принципы (собственные нравственные принципы и совесть как регулятор)
Оказавшись здесь, человек понимает, что он является отдельным от общества объектом со своей точкой зрения, которая может иметь приоритет над общественной. Люди могут не подчиняться правилам, несовместимым с их собственными принципами. Законы здесь — полезные, но гибкие структуры, которые в идеале помогают строить справедливое общество, не происходит это не всегда. Правила и законы — не абсолютные диктаты. Можно заметить, что действия человека на шестой стадии могут сильно напоминать действия человека на первой или второй. Разница в том, как человек объясняет себе нравственную сторону своего поступка: её может не существовать (первая стадия) или же я могу создавать свою нравственность / критиковать правило, понимая принципы и причины его существования в обществе (шестая).
(1)
В общем, был такой психолог — Лоуренс Кольберг. (Дальше идет пересказ Википедии). Кольберг задавал людям сложно-устроенные моральные дилеммы и на основе ответов людей придумал теорию морального развития. Которая заключается в следующем: моральные рассуждения, составляющие основу этического поведения человека, можно расположить на одной из шести идентифицируемых стадий развития. На каждой стадии ответы на моральные дилеммы более «адекватны», чем на предыдущей. В идеале наше моральное развитие происходит всю жизнь и мы последовательно перемещаемся от первой стадии к шестой.
В рамках теории Кольберг делает несколько утверждений:
— У человечества (вне зависимости от культуры) есть одиннадцать основных ценностей: законы и нормы, совесть, способность выразить свои чувства, авторитет, гражданские права, договор, доверие и справедливость в обмене, справедливость наказания, жизнь, право собственности, правда или истина, любовь и секс.
— Центральное понятие модели — понятие справедливости, то есть распределение прав и обязанностей, регулируемое понятиями равенства и взаимности.
— Моральные нормы человека не являются автоматически усвоенными «внешними» нормами и не складываются вследствие опыта наказания и вознаграждения, а вырабатываются в ходе социального взаимодействия.
Шесть этапов нравственного развития делятся на три уровня: доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный.
Доконвенциональный уровень:
1. Ориентация на наказание и послушание (Как я могу избежать наказания?)
2. Наивная гедонистическая ориентация (Какая здесь польза для меня?)
На этом уровне человек (чаще всего — ребенок, но не всегда) принимает решения, исходя из эгоцентрических мотивов. Других людей, их блага и интересов не существует. О нравственности действия на этом уровне судят по его прямым последствиям для индивида: если не накажут — можно. Если есть польза и не накажут — вообще отлично. Хорошо или плохо существует только в этих смысловых рамках (накажут — плохо, не накажут — хорошо).
Конвенциональный уровень:
3. Ориентация на соответствие ближнему окружению/малой группе (социальные нормы, модель «хорошего ребёнка»)
4. Желание поддерживать установленный порядок социальной справедливости и правил (Мораль соответствует правилам и законам)
На этом уровне человек судит о нравственности своих поступков, сравнивая их с мнениями и ожиданиями общества. Морально то, что принято обществом, хорошо — следовать этим нормам. Не следовать — плохо. Целесообразность норм редко подвергается сомнению. Основной страх — исключение из общества за не-следование конвенциям, поиск «своих», откуда не выгонят, и следование их нормам. Исполнение желаний группы — самоцель, получение внешнего одобрения — способ идентифицировать себя относительно группы.
Постконвенциональный уровень:
5. Утилитаризм и представление о морали как продукте общественного договора (социальный контракт)
6. Универсальные этические принципы (собственные нравственные принципы и совесть как регулятор)
Оказавшись здесь, человек понимает, что он является отдельным от общества объектом со своей точкой зрения, которая может иметь приоритет над общественной. Люди могут не подчиняться правилам, несовместимым с их собственными принципами. Законы здесь — полезные, но гибкие структуры, которые в идеале помогают строить справедливое общество, не происходит это не всегда. Правила и законы — не абсолютные диктаты. Можно заметить, что действия человека на шестой стадии могут сильно напоминать действия человека на первой или второй. Разница в том, как человек объясняет себе нравственную сторону своего поступка: её может не существовать (первая стадия) или же я могу создавать свою нравственность / критиковать правило, понимая принципы и причины его существования в обществе (шестая).
🔥8
(2)
Несколько важных моментов:
У теории куча недостатков. Это теоретическая модель, к которой просто можно как-то отнестись самостоятельно, но ни в коем случае не использовать, чтобы тыкать другим людям в лицо.
Эмпирические данные о шестой стадии недостаточны (потому что туда доходит не так уж много людей).
По мнению Кольберга, большинство людей останавливается на четвёртой стадии морального совершенствования.
Переход от одной нравственной стадии к другой — результат развития не только когнитивных навыков, но и способности к эмпатии.
Что по критике:
Слегка сексизм. Кольберг использовал данные, преимущественно собранные по респондентам-мужчинам (потому что привет, середина-конец 20 века).
Слегка культурная генерализация. Кольберг утверждал, что культурные различия не важны, а стадии — универсальны. Что удивительно, некоторые исследования это действительно подтверждают. Однако кросс-культурные различия все же существуют — например, в том, какой смысл и значение внутри культуры могут иметь кажущиеся универсальными ценности типа «жизнь» или «закон».
Непоследовательность. Теория Кольберга плохо справляется с непоследовательными ответами внутри разных моральных дилемм.
Интуиция vs рациональность. Есть и вопросики к тому, насколько люди реально рационально принимают моральные решения, или же они просто следуют за интуицией, а уже потом рационализируют, почему они так поступили.
В общем, вопросы существуют, они валидны, есть альтернативы, и при этом методология выдержала некоторые штормы.
Несколько важных моментов:
У теории куча недостатков. Это теоретическая модель, к которой просто можно как-то отнестись самостоятельно, но ни в коем случае не использовать, чтобы тыкать другим людям в лицо.
Эмпирические данные о шестой стадии недостаточны (потому что туда доходит не так уж много людей).
По мнению Кольберга, большинство людей останавливается на четвёртой стадии морального совершенствования.
Переход от одной нравственной стадии к другой — результат развития не только когнитивных навыков, но и способности к эмпатии.
Что по критике:
Слегка сексизм. Кольберг использовал данные, преимущественно собранные по респондентам-мужчинам (потому что привет, середина-конец 20 века).
Слегка культурная генерализация. Кольберг утверждал, что культурные различия не важны, а стадии — универсальны. Что удивительно, некоторые исследования это действительно подтверждают. Однако кросс-культурные различия все же существуют — например, в том, какой смысл и значение внутри культуры могут иметь кажущиеся универсальными ценности типа «жизнь» или «закон».
Непоследовательность. Теория Кольберга плохо справляется с непоследовательными ответами внутри разных моральных дилемм.
Интуиция vs рациональность. Есть и вопросики к тому, насколько люди реально рационально принимают моральные решения, или же они просто следуют за интуицией, а уже потом рационализируют, почему они так поступили.
В общем, вопросы существуют, они валидны, есть альтернативы, и при этом методология выдержала некоторые штормы.
(3)
Чаще всего в контексте теории Кольберга приводят в пример дилемму Хайнца.
В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы её спасти. Это была форма радия, недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нём заработать, использовав все реальные средства». И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство.
Основной вопрос к дилемме (их там еще много всяких разных):
Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет?
Далее люди что-то там отвечают и по-разному объясняют свое решение. Не так важно, что конкретно выбирали люди — именно объяснение (и вообще — способность объяснить моральную подоплеку своего поступка) и использовал Кольберг для своей категоризации.
Доконвенциональный, послушание
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Оно стоило всего двести долларов, а фармацевт хотел слишком много. Хайнц даже предложил заплатить за него и больше ничего не украл
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Его посадят в тюрьму, что будет значить, что он плохой человек
Доконвенциональный, шкурный интерес
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Он будет счастливее, если спасет жену, пусть даже придется посидеть в тюрьме
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
В тюрьме очень плохо, и ему будет хуже в клетке, чем от смерти жены
Конвенциональный, конформность
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жена рассчитывает на лекарство, он хочет быть хорошим мужем
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Красть — плохо, а он не преступник. Он перепробовал все остальное, винить его нельзя
Конвенциональный, закон-и-порядок
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жене станет лучше, но он тоже должен принять соответствующее наказание за преступление и заплатить фармацевту. Преступники не могут просто так бегать без наказания со стороны закона. У действий есть последствия.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Закон запрещает красть.
Пост-конвенциональный, социальный контракт
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
У каждого есть право выбрать жизнь, вне зависимости от того, что велит закон.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Фармацевт заслуживает честной компенсации. Больная жена не дает Хайнцу права лишать его этого.
Пост-конвенциональный, универсальная этика
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Спасение жизни другого человека — более фундаментальная ценность, чем право собственности другого человека.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Другие тоже могут так же сильно нуждаться в лекарстве, жизнь жены Хайнца не более ценна, чем жизни других.
Чаще всего в контексте теории Кольберга приводят в пример дилемму Хайнца.
В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы её спасти. Это была форма радия, недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нём заработать, использовав все реальные средства». И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство.
Основной вопрос к дилемме (их там еще много всяких разных):
Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет?
Далее люди что-то там отвечают и по-разному объясняют свое решение. Не так важно, что конкретно выбирали люди — именно объяснение (и вообще — способность объяснить моральную подоплеку своего поступка) и использовал Кольберг для своей категоризации.
Доконвенциональный, послушание
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Оно стоило всего двести долларов, а фармацевт хотел слишком много. Хайнц даже предложил заплатить за него и больше ничего не украл
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Его посадят в тюрьму, что будет значить, что он плохой человек
Доконвенциональный, шкурный интерес
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Он будет счастливее, если спасет жену, пусть даже придется посидеть в тюрьме
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
В тюрьме очень плохо, и ему будет хуже в клетке, чем от смерти жены
Конвенциональный, конформность
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жена рассчитывает на лекарство, он хочет быть хорошим мужем
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Красть — плохо, а он не преступник. Он перепробовал все остальное, винить его нельзя
Конвенциональный, закон-и-порядок
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Его жене станет лучше, но он тоже должен принять соответствующее наказание за преступление и заплатить фармацевту. Преступники не могут просто так бегать без наказания со стороны закона. У действий есть последствия.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Закон запрещает красть.
Пост-конвенциональный, социальный контракт
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
У каждого есть право выбрать жизнь, вне зависимости от того, что велит закон.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Фармацевт заслуживает честной компенсации. Больная жена не дает Хайнцу права лишать его этого.
Пост-конвенциональный, универсальная этика
Хайнц должен украсть лекарство, потому что
Спасение жизни другого человека — более фундаментальная ценность, чем право собственности другого человека.
Хайнц не должен красть лекарство, потому что
Другие тоже могут так же сильно нуждаться в лекарстве, жизнь жены Хайнца не более ценна, чем жизни других.
❤14
(4)
Мне кажется интересным использовать эту систему для эдакой самодиагностики. Например, спрашивать себя, а я сейчас из какой (условной) стадии принимаю решение? А в сложных ситуациях я на что буду опираться? А это меня сейчас в конвенцию утащило, потому что там легко и приятно жить, или потому что это и правда соответствует моим представлениям о прекрасном? А то, что я хочу сейчас совершить, я как для себя описываю / оправдываю/объясняю?
Есть, о чем подумать, в общем.
Мне кажется интересным использовать эту систему для эдакой самодиагностики. Например, спрашивать себя, а я сейчас из какой (условной) стадии принимаю решение? А в сложных ситуациях я на что буду опираться? А это меня сейчас в конвенцию утащило, потому что там легко и приятно жить, или потому что это и правда соответствует моим представлениям о прекрасном? А то, что я хочу сейчас совершить, я как для себя описываю / оправдываю/объясняю?
Есть, о чем подумать, в общем.
❤15🔥3
Сколько избирателей нужно, чтобы поменять лампочку? (Ни одного, ведь избиратель не может ничего поменять).
😁14
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
☭☭☭ Славой Жижек:
Демократия в качестве идеологии в основном играет роль пространства виртуальной альтернативы: сама перспектива смены власти, вырисовывающаяся возможность такой смены, заставляет нас терпеть существующие властные отношения, то есть эти существующие отношения становятся устойчивыми и представляются терпимыми вследствие ложной открытости.
(Точно так же субъекты мирятся со своим экономическим положением, если оно сопровождается осознанием возможности перемен — «везение не за горами».)
Противники капиталистической глобализации любят подчеркивать важность сохранения мечты: глобальный капитализм — это не конец истории, можно думать и действовать иначе; но что если сама эта ловушка возможных перемен служит гарантией того, что на самом деле ничего не изменится? Что, если только полное признание отчаянной замкнутости существующей глобальной ситуации может подтолкнуть нас к действительным переменам? Именно в этом смысле виртуальная альтернатива обнаруживает собственную действительность, то есть представляет собой положительную онтологическую составляющую существующего порядка.
Демократия в качестве идеологии в основном играет роль пространства виртуальной альтернативы: сама перспектива смены власти, вырисовывающаяся возможность такой смены, заставляет нас терпеть существующие властные отношения, то есть эти существующие отношения становятся устойчивыми и представляются терпимыми вследствие ложной открытости.
(Точно так же субъекты мирятся со своим экономическим положением, если оно сопровождается осознанием возможности перемен — «везение не за горами».)
Противники капиталистической глобализации любят подчеркивать важность сохранения мечты: глобальный капитализм — это не конец истории, можно думать и действовать иначе; но что если сама эта ловушка возможных перемен служит гарантией того, что на самом деле ничего не изменится? Что, если только полное признание отчаянной замкнутости существующей глобальной ситуации может подтолкнуть нас к действительным переменам? Именно в этом смысле виртуальная альтернатива обнаруживает собственную действительность, то есть представляет собой положительную онтологическую составляющую существующего порядка.
❤6
Forwarded from Insolarance Cult
Жак Рансьер — это современный французский философ послевоенного поколения, известный теоретик политики и критик Альтюссера. Он противопоставляет политику полиции, где суть политики составляет несогласие тех, кто не включён в имеющуюся социальную систему. Под полицией же подразумевается система управления обществом, которая неизбежно не допускает к власти определенные группы населения. Однако, отказываясь от утопического видения политики, Рансьер считает крайне вероятным, что исключенные, будучи включенными, лишь преобразуют систему полиции и создадут новых исключенных, дав новый виток политического несогласия. Вместе с Сергеем Ребровым мы обсуждаем и разбираемся в деталях политической философии Рансьера.
https://youtu.be/QRPMT193fWM
https://youtu.be/QRPMT193fWM
YouTube
Кто такой Жак Рансьер? | В гостях Сергей Ребров [S01:E56]
Жак Рансьер — это современный французский философ послевоенного поколения, известный теоретик политики и критик Альтюссера. Он противопоставляет политику полиции, где суть политики составляет несогласие тех, кто не включён в имеющуюся социальную систему.…
Forwarded from либертарная теология
Забавное у Юма, в его критике идеи бессмертия души: если бы души людей были бы бессмертны, то это означало бы равенство полов, а именно бесконечную силу каждой души/воли/разума для обоих полов (рассчитанность души на бесконечность); но так как очевидно, что уровень сил и способностей духа у женщин явно меньше чем у мужчин, то и души следовательно смертны (рассчитаны на этот ограниченный мир с его гендерными ролями: женщина существует не для бесконечности Царства Божьего, а для «жизни, ограниченной домом»). Женщины - как мы знаем из опыта, считает Юм - обладают явно низшим в сравнении с мужчинами уровнем духа/воли/разума: женщины - дуры, истерички, слабачки, следовательно бессмертие души (и вообще вот это все ваше христианство) - вымысел, противоречащий очевидным фактам. Любопытно, что равенство полов, несправедливость патриархата доказывались как и Отцами Церкви (Григорий Назианзин), так и первыми феминистками (Мэри Уолстонкрафт) прямо наоборот Юму: очевидно («очевидность» каждый раз очень разная, то есть весьма не очевидная для других очей), что люди перед Богом равны, а следовательно неравенство (всякое, включая гендерное) - несправедливо. Итак (исходя из этих посылок): или христианство верно и тогда полы равны, или христианство - ложь, и полы не равны, как и наоборот: или полы равны и тогда христианство истинно, или полы не равны и тогда христианство ложно. Женщина - или дура для дома/семьи, или бессмертный дух, созданная для Царства Божьего.
❤14
Славой Жижек, «Почему "типична" мать-одиночка?»
Например, в неприятии системы социального обеспечения «новыми правыми» в США общее представление о неэффективности системы социального обеспечения основывалось на псевдо-конкретном представлении о пресловутой проамериканской матери-одиночке, как если бы социальное обеспечение в конечном итоге представляло собой программу для черных матерей-одиночек — частный случай «черной матери-одиночки» молчаливо считался «типичным» примером социальной помощи, с которой что-то было не так. В случае кампании против абортов в качестве «типичного» примера фигурирует полная противоположность черной матери-одиночке: неразборчивая в своих сексуальных связях женщина-профессионалка, которая отдает приоритет своей карьере перед «естественным» долгом материнства (что явно противоречит тому факту, что большинство абортов совершается в многодетных семьях, принадлежащих к низшему классу). Такое своеобразное искажение, особенное содержание, которое провозглашается «типичным» всеобщего понятия, суть составляющая фантазии, фантазматического фона/опоры всеобщего идеологического понятия — выражаясь в кантовских терминах, оно играет роль «трансцендентальной схемы», переводящей пустую всеобщую идею в понятие, которое имеет непосредственное отношение к нашему «жизненному опыту». Как таковая эта фантазматическая детализация ни в коей мере не является всего лишь несущественной иллюстрацией или примером: именно на этом уровне выигрываются или проигрываются идеологические баталии — когда мы начинаем считать «типичным» случай аборта в большинстве семей, принадлежащих к низшему классу и неспособных справиться с еще одним ребенком, перспектива радикальным образом меняется.
<...>
Тот факт, что эта связь между Всеобщим и особенным содержанием, которое функционирует как его заместитель, случайна, означает как раз то, что она является результатом политической борьбы за идеологическую гегемонию.
Например, в неприятии системы социального обеспечения «новыми правыми» в США общее представление о неэффективности системы социального обеспечения основывалось на псевдо-конкретном представлении о пресловутой проамериканской матери-одиночке, как если бы социальное обеспечение в конечном итоге представляло собой программу для черных матерей-одиночек — частный случай «черной матери-одиночки» молчаливо считался «типичным» примером социальной помощи, с которой что-то было не так. В случае кампании против абортов в качестве «типичного» примера фигурирует полная противоположность черной матери-одиночке: неразборчивая в своих сексуальных связях женщина-профессионалка, которая отдает приоритет своей карьере перед «естественным» долгом материнства (что явно противоречит тому факту, что большинство абортов совершается в многодетных семьях, принадлежащих к низшему классу). Такое своеобразное искажение, особенное содержание, которое провозглашается «типичным» всеобщего понятия, суть составляющая фантазии, фантазматического фона/опоры всеобщего идеологического понятия — выражаясь в кантовских терминах, оно играет роль «трансцендентальной схемы», переводящей пустую всеобщую идею в понятие, которое имеет непосредственное отношение к нашему «жизненному опыту». Как таковая эта фантазматическая детализация ни в коей мере не является всего лишь несущественной иллюстрацией или примером: именно на этом уровне выигрываются или проигрываются идеологические баталии — когда мы начинаем считать «типичным» случай аборта в большинстве семей, принадлежащих к низшему классу и неспособных справиться с еще одним ребенком, перспектива радикальным образом меняется.
<...>
Тот факт, что эта связь между Всеобщим и особенным содержанием, которое функционирует как его заместитель, случайна, означает как раз то, что она является результатом политической борьбы за идеологическую гегемонию.
Напомню здесь свой же парафраз остроты Де Квинси по поводу изящного искусства убийства: сколько людей начинало с невинной групповушки и заканчивало совместной трапезой в китайском ресторане! Суть этого парафраза заключается в полном перевертывании традиционного соотношения между поверхностной отговоркой и непризнаваемым желанием: иногда труднее всего принять явление во всей его поверхностности — мы воображаем множество фантазматических сценариев, скрывающих его «глубокие смыслы». Вполне возможно, что мое «подлинное желание», которое можно угадать в моем отказе пообедать в китайском ресторане, — это моя очарованность фантазмом группового секса, но суть в том, что фантазм, который структурирует мое желание, сам по себе уже служит зашитой от моего «орального» влечения, которое обладает абсолютно принудительным характером…
...и вот поэтому, дети, вы не должны читать Лакана и увлекаться кокаином. Нет? Ну ладно.
...и вот поэтому, дети, вы не должны читать Лакана и увлекаться кокаином. Нет? Ну ладно.
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
☭☭☭ Славой Жижек:
Как быть революционером сегодня? Прежде всего, необходимо видеть проблему сегодняшней ситуации непосредственно в капитализме. Что это значит? Это значит видеть проблему не в технологиях, природе человека, авторитарной политике, даже не в расизме или сексизме, не в экологической угрозе; но видеть проблему в тотальности капитализма...нам нужно стремиться, пусть это звучит и утопично, к преодолению капитализма как к конечной цели. Не к капитализму с человеческим лицом, как когда-то мы стремились к социализму с человеческим лицом.
Давайте будем честны, большинство левых сегодня играют в игры капитализма с человеческим лицом...
Ни капитализм с человеческим лицом (у которого, кстати, могут быть разные выражения: государство благосостояния, толерантность, и так далее, и так далее), ни возвращение к старым формам ..., даже если они выглядят как борьба против колониализма.
Как быть революционером сегодня? Прежде всего, необходимо видеть проблему сегодняшней ситуации непосредственно в капитализме. Что это значит? Это значит видеть проблему не в технологиях, природе человека, авторитарной политике, даже не в расизме или сексизме, не в экологической угрозе; но видеть проблему в тотальности капитализма...нам нужно стремиться, пусть это звучит и утопично, к преодолению капитализма как к конечной цели. Не к капитализму с человеческим лицом, как когда-то мы стремились к социализму с человеческим лицом.
Давайте будем честны, большинство левых сегодня играют в игры капитализма с человеческим лицом...
Ни капитализм с человеческим лицом (у которого, кстати, могут быть разные выражения: государство благосостояния, толерантность, и так далее, и так далее), ни возвращение к старым формам ..., даже если они выглядят как борьба против колониализма.
🔥6
Словами Адамса можно сказать, что «автоэтнография — это квир-теория, подрывающая основы гуманитарного знания, хотя многие гуманитарии об этом еще даже не подозревают».
Кек. Обзорная статья Рогозина про метод автоэтнографии — почти как автофикшен, только автоэтнография!
Автоэтнография — это этнография, направленная «внутрь», где объектом исследования становится сам исследователь, его собственный опыт, знания и жизнь. Это непривычная позиция для многих: этнография утвердилась в позиции «говорим за другого, исследуем другого» (о колониальности этнографического метода еще напишу).
«Автоэтнография вступает в конфликт с очень мощной научно-исследовательской традицией, которая образно может быть выражена следующей фразой: «Чтобы изучать рыб, необязательно быть рыбой». А автоэтнография говорит обратное: «Чтобы изучать рыб, надо пожить рыбой». Мы не можем изучать рыб, поскольку мы не рыбы, мы можем изучать только себя. Единственное гуманитарное знание, которое имеет какие-то шансы отразить то, что происходит здесь и сейчас на самом деле, — это наблюдения за собой».
Метод растет из маргинальных сред и табуированных тем (а как иначе): квир-исследований и исследований сексуальности, исследований опытов «окраин» нормальности (мигрантов, преступных группировок, потребителей наркотиков и тд). Оказалось, что изучать социальную реальность не с колониальной верхатуры («мы к вам придем и будем вас изучать и описывать, как жуков») более продуктивно (who knew!).
Автоэтнограф «наблюдает за собой, а потом уже за остальными. Он ставит эксперимент над собой, а уже потом над остальными. И вот это — базовая этическая норма автоэтнографа. То есть прежде, чем обвинять кого-то во лжи или искать какие-то девиантные формы поведения, необходимо посмотреть на себя и описать себя. Тогда, может быть, чужая ложь станет совершенно мизерной и никчемной по отношению к собственным заблуждениям и собственным траекториям, уводящим от познания истины». Аминь.
Кек. Обзорная статья Рогозина про метод автоэтнографии — почти как автофикшен, только автоэтнография!
Автоэтнография — это этнография, направленная «внутрь», где объектом исследования становится сам исследователь, его собственный опыт, знания и жизнь. Это непривычная позиция для многих: этнография утвердилась в позиции «говорим за другого, исследуем другого» (о колониальности этнографического метода еще напишу).
«Автоэтнография вступает в конфликт с очень мощной научно-исследовательской традицией, которая образно может быть выражена следующей фразой: «Чтобы изучать рыб, необязательно быть рыбой». А автоэтнография говорит обратное: «Чтобы изучать рыб, надо пожить рыбой». Мы не можем изучать рыб, поскольку мы не рыбы, мы можем изучать только себя. Единственное гуманитарное знание, которое имеет какие-то шансы отразить то, что происходит здесь и сейчас на самом деле, — это наблюдения за собой».
Метод растет из маргинальных сред и табуированных тем (а как иначе): квир-исследований и исследований сексуальности, исследований опытов «окраин» нормальности (мигрантов, преступных группировок, потребителей наркотиков и тд). Оказалось, что изучать социальную реальность не с колониальной верхатуры («мы к вам придем и будем вас изучать и описывать, как жуков») более продуктивно (who knew!).
Автоэтнограф «наблюдает за собой, а потом уже за остальными. Он ставит эксперимент над собой, а уже потом над остальными. И вот это — базовая этическая норма автоэтнографа. То есть прежде, чем обвинять кого-то во лжи или искать какие-то девиантные формы поведения, необходимо посмотреть на себя и описать себя. Тогда, может быть, чужая ложь станет совершенно мизерной и никчемной по отношению к собственным заблуждениям и собственным траекториям, уводящим от познания истины». Аминь.
🔥1
Европа: русские атомизированные орки не могут просто выйти на улицы и изменить политическую ситуацию в своей стране вот лохи
Европейцы: выходят на улицы чтобы изменить политическую ситуацию в своей стране
Европа: иу нет не так
(Настроение упрощать в интернете с комедийными целями)
Европейцы: выходят на улицы чтобы изменить политическую ситуацию в своей стране
Европа: иу нет не так
(Настроение упрощать в интернете с комедийными целями)
🔥10🤔1
Forwarded from алло, макрон
Спустя 4 года после «желтых жилетов» Эммануэль Макрон наказывает штрафами тех, кто выступает против реформ его правительства.
Пока секретарь французской коммунистической партии Фабьен Руссель отращивает усы, чтобы привлечь внимание к борьбе с раком простаты, Эммануэль Макрон, переодевшись в костюм Путина решил установить уголовные фиксированные штрафы (AFD) за участие в протестах. Подстилает себе соломку перед протестами, которые могут грянуть в связи с намеченной на январь пенсионной реформой-79 процентов французов против продления пенсионного возраста до 65 лет.
В планах учредить штраф от 500 до 1000 евро за протесты в школах. Сюда подпадают любые ученики средней школы, которые хотели бы блокировать школы таким образом, выражая протест.
Также закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 до 1600 евро за любое воспрепятствование движению на улицах. Целями становятся непосредственно активисты-экологи и желтые жилеты.
Скоро только богатые будут способны жить мирно во Франции.
Пока секретарь французской коммунистической партии Фабьен Руссель отращивает усы, чтобы привлечь внимание к борьбе с раком простаты, Эммануэль Макрон, переодевшись в костюм Путина решил установить уголовные фиксированные штрафы (AFD) за участие в протестах. Подстилает себе соломку перед протестами, которые могут грянуть в связи с намеченной на январь пенсионной реформой-79 процентов французов против продления пенсионного возраста до 65 лет.
В планах учредить штраф от 500 до 1000 евро за протесты в школах. Сюда подпадают любые ученики средней школы, которые хотели бы блокировать школы таким образом, выражая протест.
Также закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 до 1600 евро за любое воспрепятствование движению на улицах. Целями становятся непосредственно активисты-экологи и желтые жилеты.
Скоро только богатые будут способны жить мирно во Франции.
🔥8🤔4🤯2
Нельзя, пишет Геральд Раунинг в «Искусстве и революции», захватить государственную власть, и потом пытаться вокруг неё новое общество. Революция без нового содержания — просто передача (государственной) власти из одних рук в другие, которая сутево ничего не может изменить, а чаще всего лишь усиливает государственную машину. Обновляющая, учредительная власть не может возникнуть, если у вас партия захватывает власть — власть партии уже учреждена. Учрежденная власть уже установила условия, которые препятствуют возникновению учредительной (созидательной, создающей) власти. Партия создается, чтобы участвовать в работе аппарата или захватить его. Она не мыслит новые формы устройства общества — она использует те, что есть, чтобы захватить уже имеющуюся власть. Революции мыслятся как захват национального государства, а не попытки помыслить практики, не фиксированные на государстве. Не надо так, говорит нам Раунинг.
Неразрывно переплетенные между собой измерения «крика против» и «движения способности к...», как называет Холлоуэй два компонента сопротивления и учредительной власти, лучше всего обнаруживаются «в тех видах борьбы, которые сознательно носят характер предвосхищения, в которых борьба нацелена, по своей форме, не на воспроизведение структур и практик того, с чем она борется, а на создание того типа общественных отношений, который представляется желательным». Здесь вновь повторяется призыв не стремиться к одному лишь захвату государства. Именно в гуще разнородных форм сопротивления и должно происходить экспериментирование с тем, что представляется желанным в качестве «справедливого мира»; его не следует откладывать на далекое будущее или переносить в неопределенную точку времени после революции. Примеры взаимодействия сопротивления и экспериментов с новыми формами организации, которые приводит Холлоуэй, не столько зрелищны, сколько конкретны: «Забастовки, которые не просто останавливают работу, но указывают на альтернативный образ действий (предоставляя бесплатный транспорт, другой тип медицинского обслуживания); протесты в университетах, которые не просто закрывают университет, но предлагают другой опыт обучения; захваты зданий, которые превращают эти здания в социальные центры, центры для другого типа политической деятельности; революционная борьба, которая пытается не просто свергнуть правительство, но преобразовать опыт общественной жизни».
Неразрывно переплетенные между собой измерения «крика против» и «движения способности к...», как называет Холлоуэй два компонента сопротивления и учредительной власти, лучше всего обнаруживаются «в тех видах борьбы, которые сознательно носят характер предвосхищения, в которых борьба нацелена, по своей форме, не на воспроизведение структур и практик того, с чем она борется, а на создание того типа общественных отношений, который представляется желательным». Здесь вновь повторяется призыв не стремиться к одному лишь захвату государства. Именно в гуще разнородных форм сопротивления и должно происходить экспериментирование с тем, что представляется желанным в качестве «справедливого мира»; его не следует откладывать на далекое будущее или переносить в неопределенную точку времени после революции. Примеры взаимодействия сопротивления и экспериментов с новыми формами организации, которые приводит Холлоуэй, не столько зрелищны, сколько конкретны: «Забастовки, которые не просто останавливают работу, но указывают на альтернативный образ действий (предоставляя бесплатный транспорт, другой тип медицинского обслуживания); протесты в университетах, которые не просто закрывают университет, но предлагают другой опыт обучения; захваты зданий, которые превращают эти здания в социальные центры, центры для другого типа политической деятельности; революционная борьба, которая пытается не просто свергнуть правительство, но преобразовать опыт общественной жизни».
🔥8