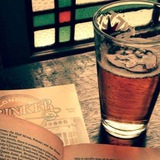Forwarded from издательство без шуток
Внезапно: open call в зин «Сады»🌱
От дремотного яблоневого сада Сапфо до сада расходящихся тропок Борхеса, от полного разнообразной жизни ботанического сада Вирджинии Вулф до продуваемого всеми ветрами сада Дерека Джармена на мысе Дандженесс, сад для пишущего или пишущей — это и замкнутая модель мира, и рукотворная утопия. Сад устроен как текст, текст устроен как сад. Саду требуется время, чтобы обрести задуманную форму; сад — это надолго. Что растим мы в наших садах сегодня?
Сад может быть как местом уединения и отшельничества, так и пространством совместной заботы и обмена знанием. Можно возделывать свой сад, пережидая катастрофу, а можно объединиться с другими и разбить общественный сад на городском пустыре. «Сад, в особенности запущенный, очень эротичен», — пишет Джармен в «Современной природе». Сад — хранитель семейной памяти, и три горшка на балконе у человека, начинающего новую жизнь в новой стране, — тоже сад.
Принимаем тексты и визуальные проекты до 31 января включительно. Отправить работу можно через наш интернет-магазин — подача заявки стоит как капучино в @chernyicooperative. Собранные средства мы потратим на подготовку издания, печать и гонорары автор:кам. Печатная версия зина будет распространяться в книжных магазинах, электронная — на нашем сайте.
В карточках оставляем цитатник с несколькими примерами подхода к теме. Прочесть опен-колл целиком и подать заявку можно по ссылке.
От дремотного яблоневого сада Сапфо до сада расходящихся тропок Борхеса, от полного разнообразной жизни ботанического сада Вирджинии Вулф до продуваемого всеми ветрами сада Дерека Джармена на мысе Дандженесс, сад для пишущего или пишущей — это и замкнутая модель мира, и рукотворная утопия. Сад устроен как текст, текст устроен как сад. Саду требуется время, чтобы обрести задуманную форму; сад — это надолго. Что растим мы в наших садах сегодня?
Сад может быть как местом уединения и отшельничества, так и пространством совместной заботы и обмена знанием. Можно возделывать свой сад, пережидая катастрофу, а можно объединиться с другими и разбить общественный сад на городском пустыре. «Сад, в особенности запущенный, очень эротичен», — пишет Джармен в «Современной природе». Сад — хранитель семейной памяти, и три горшка на балконе у человека, начинающего новую жизнь в новой стране, — тоже сад.
Принимаем тексты и визуальные проекты до 31 января включительно. Отправить работу можно через наш интернет-магазин — подача заявки стоит как капучино в @chernyicooperative. Собранные средства мы потратим на подготовку издания, печать и гонорары автор:кам. Печатная версия зина будет распространяться в книжных магазинах, электронная — на нашем сайте.
В карточках оставляем цитатник с несколькими примерами подхода к теме. Прочесть опен-колл целиком и подать заявку можно по ссылке.
❤13
Люк Дженкинс, оказывается, пишет продолжение Killing Eve. В своей колонке он довольно подробно описывает, почему — потому что фанаты остались дико разочарованы концовкой сериала (где в рамках тропа Bury Your Gays Вилланель умирает идиотской, сюжетно никак неоправданной и попросту бессмысленной смертью). В оригинале книжки заканчивались тем, что Ева и Вилланель прячутся ото всех в Санкт-Петербурге (судьба, возможно, не слишком завидная, но более, так сказать, предпочтительная).
Но еще он там пишет про два интересных, на мой взгляд, процесса, которые происходят в сфере творческого производства в широком смысле — не только литературы.
Во-первых, он описывает долгий путь от задумки (написать еще одну книжку по вселенной, чтобы минимизировать эмоциональный урон от концовки сериала и порадовать фанатов) до, собственно, её конечной цели: сначала закрыть свои прошлые проекты; переехать; переболеть ковидом, потерять память (what); написать; найти издательство, продать книгу; подождать год до твердой обложки, которую не будут читать, и восемнадцать месяцев — до мягкой, которую наконец прочитают. Он этого не пишет, но мысль его понятна: да всем уже будет пофиг, момент будет упущен, эмоциональная потребность аудитории есть сейчас. Но со временем она спадет, и у людей будет новый контент, по которому они будут страдать. Традиционные темпы производства контента внутри одной вселенной уже слишком медленные — людям нужно вот прямо сейчас. Хорошо это или нет — вопрос другой; но так есть.
Во-вторых, он очень четко понимает, что сама творческая реальность изменилась, и что публиковать книжку бесплатно, на открытой платформе, где люди могут обсуждать и комментировать каждую главу, куда более релевантно этой изменившейся реальности. Фанаты, читатели и зрители — такие же участники процесса создания мира; и единолично автор уже никогда не удержит в своих руках власть над своим творением — а не можешь, как известно, победить — возглавь.
«Один из уроков, который преподал мне более широкий проект "Убивая Еву", заключается в том, насколько сильно изменились отношения между писателем и читателем (или зрителем) за последнее десятилетие. Создавать запоминающихся персонажей сегодня — значит предлагать совместное участие, потому что рост власти фанатов — фан-фиков, фан-арта, мнений в социальных сетях — гарантирует, что эти персонажи проживут множество жизней в разных измерениях».
И это, как мне кажется, верная интуиция, и она дает много свободы — авторам и читателям, зрителям, фанатам, вселенным в целом. Никакой «конец» не является финальным, никакая интерпретация — единственно верной. И в этом смысле платформы — площадки и форматы для публикации и потребления контента, будь то книги или сериалы, издательства и стриминг-платформы, киностудии и кинотеатры, все-все-все, — сейчас, похоже, начинают отставать со своими коммерческими политиками и длинными циклами продакшена. Люк Дженкинс идет даже не на Амазон, а на Substack. Это будет не мега-событие, а фанатский сабантуйчик. Да, ностальгия по «старому интернету», но еще — вполне современный тренд на локальные, нишевые пространства без ока больших корпораций и кучи требований, которые никому не хочется соблюдать.
Но еще он там пишет про два интересных, на мой взгляд, процесса, которые происходят в сфере творческого производства в широком смысле — не только литературы.
Во-первых, он описывает долгий путь от задумки (написать еще одну книжку по вселенной, чтобы минимизировать эмоциональный урон от концовки сериала и порадовать фанатов) до, собственно, её конечной цели: сначала закрыть свои прошлые проекты; переехать; переболеть ковидом, потерять память (what); написать; найти издательство, продать книгу; подождать год до твердой обложки, которую не будут читать, и восемнадцать месяцев — до мягкой, которую наконец прочитают. Он этого не пишет, но мысль его понятна: да всем уже будет пофиг, момент будет упущен, эмоциональная потребность аудитории есть сейчас. Но со временем она спадет, и у людей будет новый контент, по которому они будут страдать. Традиционные темпы производства контента внутри одной вселенной уже слишком медленные — людям нужно вот прямо сейчас. Хорошо это или нет — вопрос другой; но так есть.
Во-вторых, он очень четко понимает, что сама творческая реальность изменилась, и что публиковать книжку бесплатно, на открытой платформе, где люди могут обсуждать и комментировать каждую главу, куда более релевантно этой изменившейся реальности. Фанаты, читатели и зрители — такие же участники процесса создания мира; и единолично автор уже никогда не удержит в своих руках власть над своим творением — а не можешь, как известно, победить — возглавь.
«Один из уроков, который преподал мне более широкий проект "Убивая Еву", заключается в том, насколько сильно изменились отношения между писателем и читателем (или зрителем) за последнее десятилетие. Создавать запоминающихся персонажей сегодня — значит предлагать совместное участие, потому что рост власти фанатов — фан-фиков, фан-арта, мнений в социальных сетях — гарантирует, что эти персонажи проживут множество жизней в разных измерениях».
И это, как мне кажется, верная интуиция, и она дает много свободы — авторам и читателям, зрителям, фанатам, вселенным в целом. Никакой «конец» не является финальным, никакая интерпретация — единственно верной. И в этом смысле платформы — площадки и форматы для публикации и потребления контента, будь то книги или сериалы, издательства и стриминг-платформы, киностудии и кинотеатры, все-все-все, — сейчас, похоже, начинают отставать со своими коммерческими политиками и длинными циклами продакшена. Люк Дженкинс идет даже не на Амазон, а на Substack. Это будет не мега-событие, а фанатский сабантуйчик. Да, ностальгия по «старому интернету», но еще — вполне современный тренд на локальные, нишевые пространства без ока больших корпораций и кучи требований, которые никому не хочется соблюдать.
👍14🔥10❤4🤬1
Forwarded from Таймс Нью Рома
Вот кстати щас обсуждают, что на прямых линиях и выступлениях звучит пацанская дворовая риторика (знаменитое "если драка неизбежна..." и т.д.) и Россия типа страна-гопник, ну так государства между собой примерно так и взаимодействует. Кто сильнее, тот и прав. У кого ресурсов больше, тот и отжимает деньги/артефакты/людей/технологии, забивает стрелки, решает кого надо наказывать, а кого нет. Международное право не менее лицемерно чем пацанские понятия лол
❤6
Таймс Нью Рома
Вот кстати щас обсуждают, что на прямых линиях и выступлениях звучит пацанская дворовая риторика (знаменитое "если драка неизбежна..." и т.д.) и Россия типа страна-гопник, ну так государства между собой примерно так и взаимодействует. Кто сильнее, тот и прав.…
Ну кстати, а так и есть. Теория международных отношений — одна из самых «устаревших» в политической науке, и одной из центральных теорий в ней является реализм.
Согласно реалистической теории, государства — основные и самые сильные акторы международной политики, которая в свою очередь является игрой на выживание и процессом борьбы за самую сильную позицию в международной системе. Государства всегда рациональны: они действуют исходя из своих национальных интересов (например, безопасность, процветание или суверенитет) и стремятся укрепить свою власть за счет разнообразных ресурсов. Государства преследуют свои интересы без оглядки на относительные моральные и этические принципы, а природа международных отношений подчинена законам борьбы за власть и влияние. Другие акторы международной политики (международные организации, гражданские общества и другие негосударственные участники, типа знаете, народ, люди...), воспринимаются как слабые и не имеющие реального влияния на глобальную политику. Международное право реалистическая модель тоже не признает — так как за ним нет реальной силы, которая могла бы принудить остальных ему следовать. А когда условные (кхе) США заставляют другие страны выполнять условия международного права — на деле, просто более сильный игрок вынуждает более слабых делать то, что ему выгодно.
Реализм понимает мировую систему как анархию, где нет единых центров и источников власти. Санкции, кстати, в этом контексте — это не только силовое давление, но и попытка показать, что государство ведет себя нерационально. Буквально: продолжишь плохо себя вести, не сможешь реализовывать свои интересы, это же глупо, да? Переставай. Если государство не перестает — включаются другие методы силового давления.
Других форматов политического действия (то есть действий, имеющих какие-то значительные последствия для международной системы) в рамках этой теории не существует.
У реализма как теории есть проблемы — начиная, как минимум, с того, что он вообще не заинтересован социально-экономической реальностью и историей государств, рассматривая их всегда как максимально рациональных игроков, а именно — всегда выполняющих логичные если/то операции. Многие факты современности ставят перед реалистами сложные вопросы: например, в случае с санкционным режимом им остается делать две вещи — либо признать декоративный характер санкций (это не реальное силовое давление, а просто «поза»), либо же столкнуться с тем пониманием, что реализм в текущем виде не способен интерпретировать реальность. Вся мораль, разумеется, тоже частное дело (и когда какая-то страна начинает выступать универсальным моральным камертоном — это проблема; тут с реализмом можно согласиться). Но нет и причин принимать решения, невыгодные для единственной конечной цели: максимизации власти государства (например, сюда попадают все «глобальные» проекты типа климатических).
Интересно и другое: насколько эта теория не столько исследует реальность, сколько создает её. Будучи одной из центральных логик международной политики, она формирует определенный взгляд на реальность: кругом анархия, все — враги, интересы есть только у государства, и главное — набирать себе как можно больше власти и ресурсов, и никому вообще не доверять. Реализм рисует мрачный мир и выдает его за единственную рациональную реальность — но мы-то знаем, что никакой реальности нет. Осознавая мир как опасный, мы и создаем опасный мир.
Согласно реалистической теории, государства — основные и самые сильные акторы международной политики, которая в свою очередь является игрой на выживание и процессом борьбы за самую сильную позицию в международной системе. Государства всегда рациональны: они действуют исходя из своих национальных интересов (например, безопасность, процветание или суверенитет) и стремятся укрепить свою власть за счет разнообразных ресурсов. Государства преследуют свои интересы без оглядки на относительные моральные и этические принципы, а природа международных отношений подчинена законам борьбы за власть и влияние. Другие акторы международной политики (международные организации, гражданские общества и другие негосударственные участники, типа знаете, народ, люди...), воспринимаются как слабые и не имеющие реального влияния на глобальную политику. Международное право реалистическая модель тоже не признает — так как за ним нет реальной силы, которая могла бы принудить остальных ему следовать. А когда условные (кхе) США заставляют другие страны выполнять условия международного права — на деле, просто более сильный игрок вынуждает более слабых делать то, что ему выгодно.
Реализм понимает мировую систему как анархию, где нет единых центров и источников власти. Санкции, кстати, в этом контексте — это не только силовое давление, но и попытка показать, что государство ведет себя нерационально. Буквально: продолжишь плохо себя вести, не сможешь реализовывать свои интересы, это же глупо, да? Переставай. Если государство не перестает — включаются другие методы силового давления.
Других форматов политического действия (то есть действий, имеющих какие-то значительные последствия для международной системы) в рамках этой теории не существует.
«Мы предполагаем, что политики думают и действуют с точки зрения интереса, определенного в терминах власти, и исторические примеры подтверждают это. Данное предположение позволяет нам предугадать и проследить действия политика. Мысля в терминах интереса, определенного как власть, мы рассуждаем так же, как и он, и как беспристрастные наблюдатели понимаем смысл его действий, может быть, лучше, чем он сам».Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир (1997).
У реализма как теории есть проблемы — начиная, как минимум, с того, что он вообще не заинтересован социально-экономической реальностью и историей государств, рассматривая их всегда как максимально рациональных игроков, а именно — всегда выполняющих логичные если/то операции. Многие факты современности ставят перед реалистами сложные вопросы: например, в случае с санкционным режимом им остается делать две вещи — либо признать декоративный характер санкций (это не реальное силовое давление, а просто «поза»), либо же столкнуться с тем пониманием, что реализм в текущем виде не способен интерпретировать реальность. Вся мораль, разумеется, тоже частное дело (и когда какая-то страна начинает выступать универсальным моральным камертоном — это проблема; тут с реализмом можно согласиться). Но нет и причин принимать решения, невыгодные для единственной конечной цели: максимизации власти государства (например, сюда попадают все «глобальные» проекты типа климатических).
Интересно и другое: насколько эта теория не столько исследует реальность, сколько создает её. Будучи одной из центральных логик международной политики, она формирует определенный взгляд на реальность: кругом анархия, все — враги, интересы есть только у государства, и главное — набирать себе как можно больше власти и ресурсов, и никому вообще не доверять. Реализм рисует мрачный мир и выдает его за единственную рациональную реальность — но мы-то знаем, что никакой реальности нет. Осознавая мир как опасный, мы и создаем опасный мир.
💯14❤9👍2
Прочитала «Протагониста» Аси Володиной. Большая радость для меня, потому что в последнее время с художественной литературой у меня Не Очень — читаю знакомых (знакомые уже издают книжки, dear god), или любимых, или чисто поорать. Но тут я решила: раз я пишу книгу (а я пишу), нужно погружаться в художественный вайб (а это помогает писать).
Сюжет университетский: студент лучшего вуза страны (некоей Академии) выходит из окна. Девять глав — девять историй от лица его родственников, преподов, сокурсников, соседей по общаге. У каждого болит свое, и каждый вроде имел отношение к смерти студента — а вроде как и…не особо?
Понравился закос под Фолкнера (полифонический рассказ разными голосами из своего угла в истории Другого, который так и остается упрятан под толщей поглощенности людьми собой). Цепанули студенческие воспоминания (в десятых молились на Вышку, дрочили на рейтинг, выходили из окна из-за сессий — ну и что? ну и ради чего?). Не вызвали желания кринжануть бандитские истории мрачнявых девяностых. Почти сразу стало понятно, что это — ложный детектив, и душу из напряжения никто не отпустит, удовлетворительного ответа не будет. Последний пункт — интересный.
Жанровая литература (которая держит читателя в первую очередь крепким, плотным сюжетом и обещанием того, что в конце все сойдется) в современном литпроцессе считается массовым, низковатым жанром. А вот эмоциональная трушность, психологическая глубина, сложность бессмертной человеческой души и прочая травмированность и богооставленность — признак литературы более возвышенной и сложной, «заставляющей задуматься» (ну а ты попробуй вовлекись в книжку без сюжета, тут работа некоторая нужна).
В итоге, как мне кажется, произошло ненужное разделение, которое само себя воспроизводит: вот тут у нас книги с сюжетом, вот тут — про сложное и задумчивое, смотрите не перепутайте.
В «Протагонисте» сюжет вроде есть, точнее — есть все основные составляющие. Видит бог, эта книга даже называется так, как будто вот она история, вот он, протагонист…но он выходит из окна на первой странице. Дальше — интеллектуальная задумка: девять масок (в греческих трагедиях три актера на сцене играли всех персонажей, меняя маски. Плюс ковидная масочная тема), девять историй, девять разных Я; каждое Я — протагонист своей истории, но, погружаясь в неё, они не видят, что толкают к краю подоконника другого человека. Но работает ли эта интеллектуальная идея на литературном уровне? Вот тут — не уверена.
И я думаю, что честный детективный сюжет эту проблему бы решил. В детективах жертва редко бывает главным героем: сама авторка в интервью говорит, что её беспокоит, когда читатели считают протагонистом истории самоубившегося студента (а они и правда считают), который существует только как повод или второстепенный персонаж историй других людей, тот, об кого они чувствуют штуки, но который не чувствует и делает ничего сам. Истории других людей — внешнее объяснение, но не эмоциональная правда студента: её мы так и не узнаем. История «Протагониста» начинается во мраке и во мраке заканчивается, разменявшись с читателем намеками и идеей, что нет никаких нормальных людей и семей, надо держаться и постараться научиться вывозить.
Детективный сюжет предполагает другое движение: прояснение тьмы, его финальный аккорд — раскрытие всех карт, действительное упорядочивание мира, ответ на вопрос «почему». Автор с самого начала должен знать ответ на этот вопрос, чтобы все детали истории работали на главное «почему». И у меня есть ощущение, что в «Протагонисте» этого нет: никто на самом деле не знает, чего такое студент удумал, и человек, который его создал, в том числе. Вдвойне обидно: ладно, близкие забросили студента, но автор, автор-то чего? Казалось бы, единственный человек, заинтересованный в том, чтобы жертва получила resolution — но этого не происходит. Нужно просто пожалеть студента и подумать о тщетности человеческой близости. А вот настолько общая мораль — уже, как мне кажется, для книжки проблема.
Короче, давайте не забрасывать сюжет (это я и себе в том числе говорю).
Сюжет университетский: студент лучшего вуза страны (некоей Академии) выходит из окна. Девять глав — девять историй от лица его родственников, преподов, сокурсников, соседей по общаге. У каждого болит свое, и каждый вроде имел отношение к смерти студента — а вроде как и…не особо?
Понравился закос под Фолкнера (полифонический рассказ разными голосами из своего угла в истории Другого, который так и остается упрятан под толщей поглощенности людьми собой). Цепанули студенческие воспоминания (в десятых молились на Вышку, дрочили на рейтинг, выходили из окна из-за сессий — ну и что? ну и ради чего?). Не вызвали желания кринжануть бандитские истории мрачнявых девяностых. Почти сразу стало понятно, что это — ложный детектив, и душу из напряжения никто не отпустит, удовлетворительного ответа не будет. Последний пункт — интересный.
Жанровая литература (которая держит читателя в первую очередь крепким, плотным сюжетом и обещанием того, что в конце все сойдется) в современном литпроцессе считается массовым, низковатым жанром. А вот эмоциональная трушность, психологическая глубина, сложность бессмертной человеческой души и прочая травмированность и богооставленность — признак литературы более возвышенной и сложной, «заставляющей задуматься» (ну а ты попробуй вовлекись в книжку без сюжета, тут работа некоторая нужна).
В итоге, как мне кажется, произошло ненужное разделение, которое само себя воспроизводит: вот тут у нас книги с сюжетом, вот тут — про сложное и задумчивое, смотрите не перепутайте.
В «Протагонисте» сюжет вроде есть, точнее — есть все основные составляющие. Видит бог, эта книга даже называется так, как будто вот она история, вот он, протагонист…но он выходит из окна на первой странице. Дальше — интеллектуальная задумка: девять масок (в греческих трагедиях три актера на сцене играли всех персонажей, меняя маски. Плюс ковидная масочная тема), девять историй, девять разных Я; каждое Я — протагонист своей истории, но, погружаясь в неё, они не видят, что толкают к краю подоконника другого человека. Но работает ли эта интеллектуальная идея на литературном уровне? Вот тут — не уверена.
И я думаю, что честный детективный сюжет эту проблему бы решил. В детективах жертва редко бывает главным героем: сама авторка в интервью говорит, что её беспокоит, когда читатели считают протагонистом истории самоубившегося студента (а они и правда считают), который существует только как повод или второстепенный персонаж историй других людей, тот, об кого они чувствуют штуки, но который не чувствует и делает ничего сам. Истории других людей — внешнее объяснение, но не эмоциональная правда студента: её мы так и не узнаем. История «Протагониста» начинается во мраке и во мраке заканчивается, разменявшись с читателем намеками и идеей, что нет никаких нормальных людей и семей, надо держаться и постараться научиться вывозить.
Детективный сюжет предполагает другое движение: прояснение тьмы, его финальный аккорд — раскрытие всех карт, действительное упорядочивание мира, ответ на вопрос «почему». Автор с самого начала должен знать ответ на этот вопрос, чтобы все детали истории работали на главное «почему». И у меня есть ощущение, что в «Протагонисте» этого нет: никто на самом деле не знает, чего такое студент удумал, и человек, который его создал, в том числе. Вдвойне обидно: ладно, близкие забросили студента, но автор, автор-то чего? Казалось бы, единственный человек, заинтересованный в том, чтобы жертва получила resolution — но этого не происходит. Нужно просто пожалеть студента и подумать о тщетности человеческой близости. А вот настолько общая мораль — уже, как мне кажется, для книжки проблема.
Короче, давайте не забрасывать сюжет (это я и себе в том числе говорю).
👍15❤6
Отдельно мне понравились тычки в философию как академическую дисциплину (студент учится на философа, одна из масок — декан факультета философии).
«Польза которой не доказана, а вред очевиден», действительно.
Виновата ли в этом философия, польза которой не доказана, а вред очевиден, как сказал человек, в свое время посмевший закрыть наш факультет? Самый старый, самый престижный, но и самый мятежный. Мятежный дух — безусловная плата за то, что мы учим думать. Еще одна мутация, с которой надлежит расправиться, пока она не загубила Академию.
«Польза которой не доказана, а вред очевиден», действительно.
❤11
(1/2) Я тут посмотрела спин-офф величайшего сериала Orphan Black — Orphan Black: Echoes. Как и оригинальный Orphan Black, этот сериал — про женщин, клонов и борьбу со злодейскими корпорациями за право на собственную биологию. Сериал — не очень (плохой райтинг; персонажи болтаются в воздухе; отвратительный грим; будущее не такое уж и будущее; много странных решений; etc). Но есть там одна вещь, из-за которой он запал мне в сердечко, и это, конечно, лесбийская драма. Я проспойлерю весь сериал к чертям, так и знайте.
Но сначала я все-таки поною. Оригинальный OB в первой серии задал высочайшую планку. У пилота невероятный сценарий: мощный, сложный замут, который они умудрились развернуть быстро и ритмично, вообще ни волоска не торчало. Первая же сцена — измученная Бет Чайлдс выходит на железнодорожную платформу, делает шаг перед мчащимся поездом, и последнее, что она видит в своей жизни — свое собственное лицо, то самое лицо, которое довело её до этого шага, очередного клона. Chills, literal chills. Они поддерживали этот темп два сезона — дальше сценарий стал расползаться, но навык наносить удары поддых у создателей никуда не делся. Этот сериал держит тебя на краешке дивана.
Спин-офф не держит тебя на краешке дивана. Он с трудом держит тебя на диване вообще — то и дело кажется, что пока герои что-то там решают не очень интересное, можно отскочить помыть посуду.
Вторая сильная вещь в оригинальном OB — персонажи. Это персонажная драма, чье величие определяется не только сценарием, но и тем, что большинство персонажей играет одна актриса, и она умудряется с с самой собой иметь чертову ХИМИЮ. Она делает это настолько убедительно, что порой ты забываешь, что на экране один и тот же человек. Это работает на мета-уровне: в сериале о том, что биология тебя не определяет, мы буквально учимся думать, что все люди — разные, и даже то, что они биологически идентичны, еще ничего не значит. В спин-оффе обратная идея: одного и того же человека играют разные люди (в разных возрастах). Нам предлагается обратный ход: могут ли разные люди, с разным опытом и памятью, но биологически идентичные, считаться одним и тем же человеком?
Но сначала я все-таки поною. Оригинальный OB в первой серии задал высочайшую планку. У пилота невероятный сценарий: мощный, сложный замут, который они умудрились развернуть быстро и ритмично, вообще ни волоска не торчало. Первая же сцена — измученная Бет Чайлдс выходит на железнодорожную платформу, делает шаг перед мчащимся поездом, и последнее, что она видит в своей жизни — свое собственное лицо, то самое лицо, которое довело её до этого шага, очередного клона. Chills, literal chills. Они поддерживали этот темп два сезона — дальше сценарий стал расползаться, но навык наносить удары поддых у создателей никуда не делся. Этот сериал держит тебя на краешке дивана.
Спин-офф не держит тебя на краешке дивана. Он с трудом держит тебя на диване вообще — то и дело кажется, что пока герои что-то там решают не очень интересное, можно отскочить помыть посуду.
Вторая сильная вещь в оригинальном OB — персонажи. Это персонажная драма, чье величие определяется не только сценарием, но и тем, что большинство персонажей играет одна актриса, и она умудряется с с самой собой иметь чертову ХИМИЮ. Она делает это настолько убедительно, что порой ты забываешь, что на экране один и тот же человек. Это работает на мета-уровне: в сериале о том, что биология тебя не определяет, мы буквально учимся думать, что все люди — разные, и даже то, что они биологически идентичны, еще ничего не значит. В спин-оффе обратная идея: одного и того же человека играют разные люди (в разных возрастах). Нам предлагается обратный ход: могут ли разные люди, с разным опытом и памятью, но биологически идентичные, считаться одним и тем же человеком?
(2/2) И тут к нам подкатывает лесбийская драма. Сюжет спин-оффа закручивается вокруг взрослой Киры Мэннинг — дочери главной героини OB Сары, дочери клона, чудо-ребенка, который должен был быть биологически невозможен. Сначала мы узнаем, что она зачем-то «напечатала» людей — Кира Мэннинг, дочь клона, после всего, что было с ней и её семьей, делает клонов? Безумие. Постепенно мы понимаем, что это её сомнительный способ справиться с утратой жены — более молодые версии «не сработали», а вот более «старая» (но, значит, обреченная скоро умереть от той же болезни, что «оригинал») — да. И в этот момент мы понимаем: ну ничего себе, Кира Мэннинг живет с клоном своей мертвой жены. Deep shit.
Пятая серия в сезоне — флэшбек в юность Киры, её знакомство с Элеанор (эту версию Элеанор играет Кристен Риттер) и, знаете, вот-это-от-все: университеты, исследовательские проекты, переглядывания в лифтах, флирт с профессоркой, а потом хоп — и вы двадцать лет женаты и отправляете сына в колледж. Это отличная серия, и Кира из флэшбека выглядит куда более похожей на ту Киру, которой девочка из оригинального сериала могла бы стать: мрачноватый, немного социально и эмоционально ушибленный дайк со всякими странностями. Но вне флэшбека мы получаем совсем другую Киру: женственную, невротичную, избегающую ответственности, во всем виноватую и совершенно, трагически серьезную. Она очень боится потерять людей, но при этом не может достичь с ними истинной близости, воротит какую-то мало убедительную чушь и потом долго, мучительно все это разгребает ценой невероятных усилий. Показательно и то, что у неё нет хороших отношений с матерью — человеком, который столько раз её бросал или затаскивал в дикие дебри пиздеца, но которого мы-то, зрители, знаем совсем с другой стороны, как протагониста, героя, человека, который рискует всем.
Это звучит как плохая персонажная работа — но еще это звучит подозрительно похоже на простого человека с расшатанной психикой и ветвистым моральным стержнем. Должна ли Кира была быть странненькой, упорной, деятельной и четко различающей добро и зло? Наверное. Но реально ли обстоятельства её жизни способствовали формированию здоровой кукушечки? Сильно не уверена. И это тоже интересно, конечно: люди далеко не всегда получаются такими, как мы ожидаем. Прошлое не определяет будущее.
В результате именно центральная драма-то мне и показалась убедительной: вот это медленное расползание людей из-за недоговоренностей и страха (ну да, одна женщина напечатала другую в принтере, ДЕТАЛИ), странная измена просто ради того, чтобы развести партнера на эмоции, эгоистичная тру лав сквозь смерть и этику, согнем правила реальности ради женщины, невротизм…что-то в этом есть такое сермяжное, неприятное, возможно, но что уж тут. Я, конечно, необъективна, но гетеро-роман это бы не продал (честно говоря, в этом сериале единственный гетеро-роман не продал бы за бесплатно бутылку воды умирающему в пустыне, такая это шляпа). Все остальное в этом сериале — not so much.
(Ну и да, совершенно понятно, что тетушка Косима — какая научная этика, мне тут женщину очаровывать надо, — любимая тетушка Киры Мэннинг. Наша тоже).
Пятая серия в сезоне — флэшбек в юность Киры, её знакомство с Элеанор (эту версию Элеанор играет Кристен Риттер) и, знаете, вот-это-от-все: университеты, исследовательские проекты, переглядывания в лифтах, флирт с профессоркой, а потом хоп — и вы двадцать лет женаты и отправляете сына в колледж. Это отличная серия, и Кира из флэшбека выглядит куда более похожей на ту Киру, которой девочка из оригинального сериала могла бы стать: мрачноватый, немного социально и эмоционально ушибленный дайк со всякими странностями. Но вне флэшбека мы получаем совсем другую Киру: женственную, невротичную, избегающую ответственности, во всем виноватую и совершенно, трагически серьезную. Она очень боится потерять людей, но при этом не может достичь с ними истинной близости, воротит какую-то мало убедительную чушь и потом долго, мучительно все это разгребает ценой невероятных усилий. Показательно и то, что у неё нет хороших отношений с матерью — человеком, который столько раз её бросал или затаскивал в дикие дебри пиздеца, но которого мы-то, зрители, знаем совсем с другой стороны, как протагониста, героя, человека, который рискует всем.
Это звучит как плохая персонажная работа — но еще это звучит подозрительно похоже на простого человека с расшатанной психикой и ветвистым моральным стержнем. Должна ли Кира была быть странненькой, упорной, деятельной и четко различающей добро и зло? Наверное. Но реально ли обстоятельства её жизни способствовали формированию здоровой кукушечки? Сильно не уверена. И это тоже интересно, конечно: люди далеко не всегда получаются такими, как мы ожидаем. Прошлое не определяет будущее.
В результате именно центральная драма-то мне и показалась убедительной: вот это медленное расползание людей из-за недоговоренностей и страха (ну да, одна женщина напечатала другую в принтере, ДЕТАЛИ), странная измена просто ради того, чтобы развести партнера на эмоции, эгоистичная тру лав сквозь смерть и этику, согнем правила реальности ради женщины, невротизм…что-то в этом есть такое сермяжное, неприятное, возможно, но что уж тут. Я, конечно, необъективна, но гетеро-роман это бы не продал (честно говоря, в этом сериале единственный гетеро-роман не продал бы за бесплатно бутылку воды умирающему в пустыне, такая это шляпа). Все остальное в этом сериале — not so much.
(Ну и да, совершенно понятно, что тетушка Косима — какая научная этика, мне тут женщину очаровывать надо, — любимая тетушка Киры Мэннинг. Наша тоже).
❤13👍1
«Обратимся за тем же к Аристотелю. Он пишет: "...достойный малого благоразумен, но не величав, ведь величавость состоит в величии...", а величавый — это тот, "кто считает себя достойным великого, будучи этого достойным". Но осознание своей соизмеримости великому ведет к тому, что величавый "ничего не признает великим". Ему мало что важно, и он предпочитает владеть прекрасными и невыгодными вещами, будучи самодостаточным, ведь праздность не нуждается в выгодном и полезном, но тяготеет к прекрасному. Даже честь — величайшее из внешних благ — не воспринимается величавым как нечто величайшее». (О.П. Зубец, Праздность и лень, Этическая мысль | Ethical Thought: № 3 (2002)).
Так-то вот! Не лень, а vita contemplativa (единственная форма истинной свободы по Аристотелю — свобода ничего не делать, не приносить пользы, никак не зависеть от внешнего мира, и особенно никак от него не зависеть в определении собственной ценности). Я — не есть нечто внешнее, чем нужно «правильно распорядиться», чем нужно нанести пользу, чье время нужно правильно заполнить. Свободный человек стремится в первую очередь к покою души, подлинному умиротворению, отсутствию тщеславия и тяги к любой форме власти.
Короче, мы или мы?
Так-то вот! Не лень, а vita contemplativa (единственная форма истинной свободы по Аристотелю — свобода ничего не делать, не приносить пользы, никак не зависеть от внешнего мира, и особенно никак от него не зависеть в определении собственной ценности). Я — не есть нечто внешнее, чем нужно «правильно распорядиться», чем нужно нанести пользу, чье время нужно правильно заполнить. Свободный человек стремится в первую очередь к покою души, подлинному умиротворению, отсутствию тщеславия и тяги к любой форме власти.
Короче, мы или мы?
❤28🐳2💯2👍1
Забавная (ну, так) колонка о том, как ученый, из-за которого мы высаживаем деревья за каждый полет на самолете, теперь пытается остановить высаживание деревьев за каждый полет на самолете.
Бывший chief scientific adviser проекта «Триллион деревьев» ООН эколог Томас Кроуфер начал просить министров охраны окружающей среды по всему миру прекратить сажать так много деревьев.
Почему? Оказалось, что вновь созданные леса не так уж здорово поглощают углерод, как ожидалось, а еще они могут быть вредны для биоразнообразия. Но то, что действительно наносит ущерб планете — так это, конечно, люди-на-блюде, которые решили, что посадка деревьев — классная индульгенция, и можно просто продолжать работать, как обычно, и не сокращать выбросы всего того, что мы сейчас пытаемся сократить. Иными словами, зачем реже летать на самолете, если можно просто посадить пару деревьев с помощью очень удачно существующих только для этого фондов? (Хотя я, конечно, против того, чтобы перекладывать коллективную ответственность больших корпораций на частную жизнь индивидов — но та же логика работает и на уровне компаний).
Ну, короче, сюрприз.
Но я думаю, что эта история, конечно, отлично показывает системную проблему связи науки и, собственно, коллективной практики в том, что касается проектов планетарного масштаба.
Итак, что мы имеем: в 2019 году лаборатория Кроуфера выпускает статью, которая говорит, что на планете есть место для дополнительных 1,2 трлн деревьев, которые могут поглотить две трети от всего объема углерода, поставляемого человеками в атмосферу. Кроуфер называет эту меру «самым эффективным решением климатического кризиса» и ездит по миру с интервью. Ученые, которые говорят, что все не так-то просто, обтекают в уголке, корпорации бросаются на это простое решение, и вместо того, чтобы заменять устаревшее оборудование или платить огромные деньги за переработку отходов, просто. Сажают. Деревья. В 2023 году Кроуфер выпускает куда более нюансированное исследование, где говорит, что сохранение существующих лесов куда эффективнее, чем высадка новых, и выступает за борьбу с гринвошингом и за «распределение богатств между коренным населением, фермерами и общинами, живущими в условиях биоразнообразия». После него на COP28 выступает Мариам Альмхейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, которая обещает высадить 100 млн манговых деревьев к 2030 году (пока их нефтяная компания расширяется быстрее, чем все остальные нефтяные компании мира). Норвегия с ампломбом анонсирует пожертвование в 50 млн долларов в фонд восстановления лесов Бразилии, но не говорит о том, что планирует потратить 18 млрд долларов на нефтяные и газовые проекты (в том числе в государственной Equinor).
Так в чем эта системная проблема? В том, что в теме экологии и эко-science есть своя форма Valley of Death (так называется временной разрыв между медицинскими исследованиями и моментом, когда какое-то новое лечение или таблетка становятся доступны людям — у нас уже есть решение, но мы пока его не выпустили, поэтому какое-то время проведем в долине смерти). Только это разрыв между словами и делом: а именно, между ценностным сообщением (конечно, мы хотим спасти планету!) и практическим, повседневным действием (но мне нужно бюджетик закрыть и бонус получить, на перестройку всего многомиллиардного бизнеса не хватит). Проблема еще и в том, что это не индивидуальное действие (я хочу быть спортивным котиком, но каждый день делаю выбор в пользу полежать — ну, эту проблему можно решить на индивидуальном уровне), а коллективное — воли одного, двух, десяти человек тупо недостаточно. Важно и то, что в этой дискуссии происходит подмена объекта спасения: планете-то поебать. Человечеству два миллиона лет в обед, и в контексте всей истории нашего камушка мы — просто секундочка, причем далеко не самая интересная. Мы не можем планету спасти или разрушить, да это и неважно — но мы можем спасти или разрушить пригодную для нашей комфортной жизни экосистему. И то, что мы не можем договориться, чтобы спасти, на деле, самих себя — конечно, максимально показательно.
Бывший chief scientific adviser проекта «Триллион деревьев» ООН эколог Томас Кроуфер начал просить министров охраны окружающей среды по всему миру прекратить сажать так много деревьев.
Почему? Оказалось, что вновь созданные леса не так уж здорово поглощают углерод, как ожидалось, а еще они могут быть вредны для биоразнообразия. Но то, что действительно наносит ущерб планете — так это, конечно, люди-на-блюде, которые решили, что посадка деревьев — классная индульгенция, и можно просто продолжать работать, как обычно, и не сокращать выбросы всего того, что мы сейчас пытаемся сократить. Иными словами, зачем реже летать на самолете, если можно просто посадить пару деревьев с помощью очень удачно существующих только для этого фондов? (Хотя я, конечно, против того, чтобы перекладывать коллективную ответственность больших корпораций на частную жизнь индивидов — но та же логика работает и на уровне компаний).
Ну, короче, сюрприз.
Но я думаю, что эта история, конечно, отлично показывает системную проблему связи науки и, собственно, коллективной практики в том, что касается проектов планетарного масштаба.
Итак, что мы имеем: в 2019 году лаборатория Кроуфера выпускает статью, которая говорит, что на планете есть место для дополнительных 1,2 трлн деревьев, которые могут поглотить две трети от всего объема углерода, поставляемого человеками в атмосферу. Кроуфер называет эту меру «самым эффективным решением климатического кризиса» и ездит по миру с интервью. Ученые, которые говорят, что все не так-то просто, обтекают в уголке, корпорации бросаются на это простое решение, и вместо того, чтобы заменять устаревшее оборудование или платить огромные деньги за переработку отходов, просто. Сажают. Деревья. В 2023 году Кроуфер выпускает куда более нюансированное исследование, где говорит, что сохранение существующих лесов куда эффективнее, чем высадка новых, и выступает за борьбу с гринвошингом и за «распределение богатств между коренным населением, фермерами и общинами, живущими в условиях биоразнообразия». После него на COP28 выступает Мариам Альмхейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, которая обещает высадить 100 млн манговых деревьев к 2030 году (пока их нефтяная компания расширяется быстрее, чем все остальные нефтяные компании мира). Норвегия с ампломбом анонсирует пожертвование в 50 млн долларов в фонд восстановления лесов Бразилии, но не говорит о том, что планирует потратить 18 млрд долларов на нефтяные и газовые проекты (в том числе в государственной Equinor).
Так в чем эта системная проблема? В том, что в теме экологии и эко-science есть своя форма Valley of Death (так называется временной разрыв между медицинскими исследованиями и моментом, когда какое-то новое лечение или таблетка становятся доступны людям — у нас уже есть решение, но мы пока его не выпустили, поэтому какое-то время проведем в долине смерти). Только это разрыв между словами и делом: а именно, между ценностным сообщением (конечно, мы хотим спасти планету!) и практическим, повседневным действием (но мне нужно бюджетик закрыть и бонус получить, на перестройку всего многомиллиардного бизнеса не хватит). Проблема еще и в том, что это не индивидуальное действие (я хочу быть спортивным котиком, но каждый день делаю выбор в пользу полежать — ну, эту проблему можно решить на индивидуальном уровне), а коллективное — воли одного, двух, десяти человек тупо недостаточно. Важно и то, что в этой дискуссии происходит подмена объекта спасения: планете-то поебать. Человечеству два миллиона лет в обед, и в контексте всей истории нашего камушка мы — просто секундочка, причем далеко не самая интересная. Мы не можем планету спасти или разрушить, да это и неважно — но мы можем спасти или разрушить пригодную для нашей комфортной жизни экосистему. И то, что мы не можем договориться, чтобы спасти, на деле, самих себя — конечно, максимально показательно.
WIRED
Stop Planting Trees, Says Guy Who Inspired World to Plant a Trillion Trees
Ecologist Thomas Crowther’s research inspired countless tree-planting campaigns, greenwashing, and attacks from scientists. Now he’s back with a new plan for nature restoration.
🔥27🗿6👍3❤2
Я тут решила поэкспериментировать с занятиями практической философией (надо же как-то использовать ЕГО — магистерский диплом по философии Шанинки). Вещь, кстати, реальная и собирающая сторонников — хотя и со стандартами есть проблемы; но зря нам что ли боженька послал коучинговые стандарты ICF? Не зря.
Что это такое: 1:1 разговор о себе и о волнующих вещах в контексте какой-то философской традиции, школы мысли или языка. Философия разнообразна, и между античными текстами, аналитической философией, философией познания, теориями демократии и прочими, прочими есть пространство для разговора буквально о чем угодно. Философия может предложить модель мышления или языковую рамку для разговора о самых разных, в том числе очень сложных вещах — и помочь бросить вызов собственным ценностям и убеждениям, проверить на прочность свои моральные, этические, политические принципы, испытать свои аргументы и мнения — и, в конечном итоге, утвердиться в своей картине мира или изменить и развить её. Наверное, философия не поставляет Невероятные Инсайты — но она может расширить перспективы и помочь посмотреть на привычные мысли или чувства с новой стороны. Мне кажется, это скорее про принятие и спокойствие, чем про бурную реку трансформаций, but who knows.
Что это не такое: не психотерапия и не коучинг в прямом смысле, и не академические консультации. Я представляю свою роль как в первую очередь собеседника, а не консультанта или эксперта. Иными словами, это видится как разговор двух любопытных людей, которые любят почитать и перетереть за философские вопросы — но с практическим смыслом, с опорой на свою жизнь и опыт. И я постараюсь сблизить философию и реальность — через призму заданной собеседником проблематики.
Как это будет выглядеть: представляется, что для начала мы должны встретиться и поговорить о том, что вас волнует, и попробовать сформулировать на этой основе философский вопрос (или несколько). После этого я предложу почитать что-то (небольшое: главу, статью или кусок текста) вокруг этого вопроса, и постараюсь захватить несколько разных философских подходов к одной теме. После чтения встретимся и обсудим, что надумали: поделимся идеями, покрутим вопрос с разных сторон, поищем пересечения с реальностью.
Что по темам: моя специализация — критическая теория (как сложились нарративы и ценности, которые мы сейчас считаем неоспоримыми) и политическая философия (отношения между индивидом и обществом, государством, политикой, политическими тактиками, действие и изменения, vita activa и vita contemplativa). Но пока кажется, что значительных тематических ограничений нет. Философская рамка предполагает движение от частного к общему: что такое я; что такое смысл жизни; что такое счастье; что такое осмысленная жизнь; что такое выбор; что такое изменения; что такое Я и Другие. Например, если вас волнуют вопросы мотивации, желания и поиска собственных «хочу», мы можем погрузиться в вопросы типа «Что такое свобода», «Что такое желание» или «Что такое счастливая жизнь» — или любой другой, который покажется важным.
Предложенные философские оптики — это не способ установления истины, не авторитетное высказывание и не инструкция к действию — это чужая мысль, которая обычно хорошо аргументирована. Мы же используем её, чтобы потренировать собственное мышление, разобрать свои нормативные позиции и изучить собственную логику.
Если вам такое интересно — пишите @humanaviator.
Ален Бадью, «Истинная жизнь»
Что это такое: 1:1 разговор о себе и о волнующих вещах в контексте какой-то философской традиции, школы мысли или языка. Философия разнообразна, и между античными текстами, аналитической философией, философией познания, теориями демократии и прочими, прочими есть пространство для разговора буквально о чем угодно. Философия может предложить модель мышления или языковую рамку для разговора о самых разных, в том числе очень сложных вещах — и помочь бросить вызов собственным ценностям и убеждениям, проверить на прочность свои моральные, этические, политические принципы, испытать свои аргументы и мнения — и, в конечном итоге, утвердиться в своей картине мира или изменить и развить её. Наверное, философия не поставляет Невероятные Инсайты — но она может расширить перспективы и помочь посмотреть на привычные мысли или чувства с новой стороны. Мне кажется, это скорее про принятие и спокойствие, чем про бурную реку трансформаций, but who knows.
Что это не такое: не психотерапия и не коучинг в прямом смысле, и не академические консультации. Я представляю свою роль как в первую очередь собеседника, а не консультанта или эксперта. Иными словами, это видится как разговор двух любопытных людей, которые любят почитать и перетереть за философские вопросы — но с практическим смыслом, с опорой на свою жизнь и опыт. И я постараюсь сблизить философию и реальность — через призму заданной собеседником проблематики.
Как это будет выглядеть: представляется, что для начала мы должны встретиться и поговорить о том, что вас волнует, и попробовать сформулировать на этой основе философский вопрос (или несколько). После этого я предложу почитать что-то (небольшое: главу, статью или кусок текста) вокруг этого вопроса, и постараюсь захватить несколько разных философских подходов к одной теме. После чтения встретимся и обсудим, что надумали: поделимся идеями, покрутим вопрос с разных сторон, поищем пересечения с реальностью.
Что по темам: моя специализация — критическая теория (как сложились нарративы и ценности, которые мы сейчас считаем неоспоримыми) и политическая философия (отношения между индивидом и обществом, государством, политикой, политическими тактиками, действие и изменения, vita activa и vita contemplativa). Но пока кажется, что значительных тематических ограничений нет. Философская рамка предполагает движение от частного к общему: что такое я; что такое смысл жизни; что такое счастье; что такое осмысленная жизнь; что такое выбор; что такое изменения; что такое Я и Другие. Например, если вас волнуют вопросы мотивации, желания и поиска собственных «хочу», мы можем погрузиться в вопросы типа «Что такое свобода», «Что такое желание» или «Что такое счастливая жизнь» — или любой другой, который покажется важным.
Предложенные философские оптики — это не способ установления истины, не авторитетное высказывание и не инструкция к действию — это чужая мысль, которая обычно хорошо аргументирована. Мы же используем её, чтобы потренировать собственное мышление, разобрать свои нормативные позиции и изучить собственную логику.
Если вам такое интересно — пишите @humanaviator.
Однако начать мне хотелось бы издалека, с довольно известного в истории философии эпизода. Если конкретно, то с Сократа, этого отца всех философов, который был приговорен к смертной казни за «развращение молодежи». Таким образом, официальные власти, впервые столкнувшись с таким явлением, как «философия», облекли её в форму тяжкого обвинения в развращении молодежи. И если придерживаться подобной точки зрения, то я должен заявить прямо: да, моя цель в том и состоит, чтобы развращать молодежь.
Ален Бадью, «Истинная жизнь»
🔥15👍3❤1
Читала с утреца статью о том, как дела у американских новостных медиа (плохо). Массовые увольнения, отсутствие инвестиций и развития традиционных медиа, перетекание рекламных бюджетов и внимания к социальным сетям, стримингам и прочим — а также ожидаемое нежелание техногигантов типа Google и других платить паблишерам и авторам контента за трафик, и тот факт, что даже скорые выборы (традиционно главное событие политического медиаспекталя) не спасают, — все это складывается в достойную пессимизма картину.
Но меня заинтересовала фраза колумнистки Маргарет Салливан, которая очень обеспокоена: «Чтобы функционировать, демократии нужен информированный электорат, и его количество трагически сокращается во многих регионах».
Вообще вопрос о том, нуждается ли электоральная демократия (то есть та, где формы политического участия народа редуцированы до пассивного проставления галки в четко определенных рамках) в политически образованном населении — с точки зрения политической науки совсем неочевидный.
Привычная нам либеральная демократическая теория сказала бы примерно так: нет, ну было бы неплохо, конечно; но ожидать от людей, которые отлично разбираются в собственных областях знания и которые погружены в личные интересы, чтобы они аналогично хорошо разбирались во внешне- и внутриполитических вопросах — абсурдно. Иными словами, мы всегда будем иметь дело с людьми, которые могут быть очень умными, скажем, в медицине или биохимии, но которые превращаются в детей, когда перед ними оказывается вопрос политический. В медицине разбираются профессиональные медики. Кто разбирается в политических вопросах? Профессиональные политики. Simple as that.
Как в такой ситуации обеспечить демократическую форму правления? Предлагать народу простое действие, которое неспособно нанести реальный вред демократии: построить систему политической конкуренции между элитами, где народ периодически будет выбирать того или иного представителя той или иной элиты. А потом — меняются. Иными словами, люди не смогут принимать действительно что-то меняющие решения по глупости или потому, что не до конца разобрались.
Это — не баг системы. Отсутствие политической грамотности народа — это одна из её исходных предпосылок, одна из основ для той идеи, которую мы привыкли сейчас называть демократией. Ощущение, что выборы ничего не меняют — верное в том смысле, что они и не были задуманы как инструмент изменений.
Йозеф Шумпетер (один из авторов, благодаря которому современная демократия выглядит так, как выглядит), «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
Но меня заинтересовала фраза колумнистки Маргарет Салливан, которая очень обеспокоена: «Чтобы функционировать, демократии нужен информированный электорат, и его количество трагически сокращается во многих регионах».
Вообще вопрос о том, нуждается ли электоральная демократия (то есть та, где формы политического участия народа редуцированы до пассивного проставления галки в четко определенных рамках) в политически образованном населении — с точки зрения политической науки совсем неочевидный.
Привычная нам либеральная демократическая теория сказала бы примерно так: нет, ну было бы неплохо, конечно; но ожидать от людей, которые отлично разбираются в собственных областях знания и которые погружены в личные интересы, чтобы они аналогично хорошо разбирались во внешне- и внутриполитических вопросах — абсурдно. Иными словами, мы всегда будем иметь дело с людьми, которые могут быть очень умными, скажем, в медицине или биохимии, но которые превращаются в детей, когда перед ними оказывается вопрос политический. В медицине разбираются профессиональные медики. Кто разбирается в политических вопросах? Профессиональные политики. Simple as that.
Как в такой ситуации обеспечить демократическую форму правления? Предлагать народу простое действие, которое неспособно нанести реальный вред демократии: построить систему политической конкуренции между элитами, где народ периодически будет выбирать того или иного представителя той или иной элиты. А потом — меняются. Иными словами, люди не смогут принимать действительно что-то меняющие решения по глупости или потому, что не до конца разобрались.
Это — не баг системы. Отсутствие политической грамотности народа — это одна из её исходных предпосылок, одна из основ для той идеи, которую мы привыкли сейчас называть демократией. Ощущение, что выборы ничего не меняют — верное в том смысле, что они и не были задуманы как инструмент изменений.
И есть правда в мысли Джефферсона о том, что в конечном счете народ мудрее каждого отдельно взятого индивида, или в высказывании Линкольна о невозможности "дурачить всех все время". Но оба эти высказывания не случайно подчеркивают долгосрочный аспект. Без сомнения, можно утверждать, что со временем коллективное сознание людей вырабатывает мнения, которые весьма часто представляются в высшей степени разумными и даже проницательными. История, однако, состоит из последовательных краткосрочных ситуаций, которые могут в корне изменить ход событий. Если в краткосрочной перспективе можно одурачить всех и заставить их принять то, чего они на самом деле не хотят, и если это не исключение, на которое можно закрыть глаза, то никакое количество ретроспективного здравого смысла не меняет главного вывода: не народ в действительности поднимает и решает вопросы, эти вопросы, определяющие его участь, поднимаются и решаются за него. Приверженец демократии более, чем кто бы то ни было, должен принять этот факт как данность, тогда никто не сможет утверждать, что его вера в демократию основана на притворстве.
Йозеф Шумпетер (один из авторов, благодаря которому современная демократия выглядит так, как выглядит), «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
👍19🤔3
Нашла древний, аж из 2022 года, черновик поста про квир-репрезентацию — и про то, почему требование о ней есть, скорее всего, пустое. Дописывать мне лень, поэтому пусть полежит тут, как докумэнт эпохи (тогда меня это интересовало, кажется, больше, чем сейчас).
Есть гипотеза, что такой репрезентации опыта, которую многие ждут в кино, сериалах, книгах и прочих объектах культуры, не существует.
Потому что до определенной степени производство контента «об опыте меньшинств» (в зависимости от определения меньшинства в эту категорию может попадать самый разный опыт — от опыта целых гендерных групп до опыта переживающих какое-то локальное событие) — это некая форма колониальной этнографии.
Мы знаем с некоторой долей уверенности, что западная этнография (то есть опыт описания «других» народов и опытов) — это колониальная практика (в том смысле, что она создавалась и применялась в своем историческом контексте). Нарратив описывает этнограф, используя других как материал, его голос остается главным. Более того, саму деятельность этнографического письма можно описать как большую западную искупительную аллегорию, где культурное описание не «представляет и символизирует это или то», а «является морально нагруженной историей о том-то» (Джеймс Клиффорд).
Задача этнографа — сделать «человечески понятным» какое-то иначе странное, необъяснимое поведение. В этой оптике существует некий экзотический опыт или образ жизни, который, однако, можно объяснить с «общечеловеческой» точки зрения. Что-то напоминает, в общем-то! А именно: любой опыт (женский, квир, мигранты в каждой конкретной стране, цвет кожи, возраст, социальный класс, etc) «можно объяснить» (или написать, снять, представить) как не-маргинальный (или маргинальный, но когда-то давно или где-то далеко), если вписать его в правильный нарратив, в общепонятную сеть символов. Любая генерализующая практика по определению будет исключать часть картины реальности — потому что её задача, в конечном итоге, сделать высказывание внутри своего контекста и по своим правилам. Любой опыт обобщается и соотносится с «интерпретацией образа» того, кого пытаются описать.
В западной/европейской модели мысли у репрезентации есть две модальности: «реалистическая», где образы должны достоверно отображать мир, и «риторическая», где эти образы в силу своей формы дают оценку изображаемому миру. Вторая модальность — пространство либо эстетики, либо идеологии. И, на мой взгляд, в случае с нарративом репрезентации мы имеем дело, конечно, с риторикой и с идеологией — именно они формируют тот язык, которым рассказывается история, и именно это определяет, кто является целевой аудиторией истории.
Получается, мы хотим услышать свою историю на своем языке (на языке, который ощущается для нас естественным и понятным), историю про себя для себя, а получаем «репрезентацию» — риторический этнографический рассказ про себя, но для других. И понятно, почему дамы в кино постоянно в чепчиках изменившимся лицом бегут к пруду, где одна умрет, а вторая выйдет замуж: это буквально антропологическое исследование прошлых, социально-обусловленных, страданий, мол, посмотрите, как они/мы дико жили, как это было несправедливо и трагично, как дивно и хорошо, что больше — не так, и об этой особенности можно не думать. Этнография — это либо история об отличиях (посмотрите на них, насколько они другие), либо история с определенной моралью (посмотрите на них, а теперь посмотрите на себя и сделайте выводы — например, да они же ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ((так, например, писала Маргарет Мид)), но это всегда история о Других, эстетическая или риторическая.
But is this even fun anymore? (Не уверена)
Есть гипотеза, что такой репрезентации опыта, которую многие ждут в кино, сериалах, книгах и прочих объектах культуры, не существует.
Потому что до определенной степени производство контента «об опыте меньшинств» (в зависимости от определения меньшинства в эту категорию может попадать самый разный опыт — от опыта целых гендерных групп до опыта переживающих какое-то локальное событие) — это некая форма колониальной этнографии.
Мы знаем с некоторой долей уверенности, что западная этнография (то есть опыт описания «других» народов и опытов) — это колониальная практика (в том смысле, что она создавалась и применялась в своем историческом контексте). Нарратив описывает этнограф, используя других как материал, его голос остается главным. Более того, саму деятельность этнографического письма можно описать как большую западную искупительную аллегорию, где культурное описание не «представляет и символизирует это или то», а «является морально нагруженной историей о том-то» (Джеймс Клиффорд).
Задача этнографа — сделать «человечески понятным» какое-то иначе странное, необъяснимое поведение. В этой оптике существует некий экзотический опыт или образ жизни, который, однако, можно объяснить с «общечеловеческой» точки зрения. Что-то напоминает, в общем-то! А именно: любой опыт (женский, квир, мигранты в каждой конкретной стране, цвет кожи, возраст, социальный класс, etc) «можно объяснить» (или написать, снять, представить) как не-маргинальный (или маргинальный, но когда-то давно или где-то далеко), если вписать его в правильный нарратив, в общепонятную сеть символов. Любая генерализующая практика по определению будет исключать часть картины реальности — потому что её задача, в конечном итоге, сделать высказывание внутри своего контекста и по своим правилам. Любой опыт обобщается и соотносится с «интерпретацией образа» того, кого пытаются описать.
В западной/европейской модели мысли у репрезентации есть две модальности: «реалистическая», где образы должны достоверно отображать мир, и «риторическая», где эти образы в силу своей формы дают оценку изображаемому миру. Вторая модальность — пространство либо эстетики, либо идеологии. И, на мой взгляд, в случае с нарративом репрезентации мы имеем дело, конечно, с риторикой и с идеологией — именно они формируют тот язык, которым рассказывается история, и именно это определяет, кто является целевой аудиторией истории.
Получается, мы хотим услышать свою историю на своем языке (на языке, который ощущается для нас естественным и понятным), историю про себя для себя, а получаем «репрезентацию» — риторический этнографический рассказ про себя, но для других. И понятно, почему дамы в кино постоянно в чепчиках изменившимся лицом бегут к пруду, где одна умрет, а вторая выйдет замуж: это буквально антропологическое исследование прошлых, социально-обусловленных, страданий, мол, посмотрите, как они/мы дико жили, как это было несправедливо и трагично, как дивно и хорошо, что больше — не так, и об этой особенности можно не думать. Этнография — это либо история об отличиях (посмотрите на них, насколько они другие), либо история с определенной моралью (посмотрите на них, а теперь посмотрите на себя и сделайте выводы — например, да они же ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ((так, например, писала Маргарет Мид)), но это всегда история о Других, эстетическая или риторическая.
But is this even fun anymore? (Не уверена)
❤21❤🔥6👍3
Сегодня Эрнст Юнгер приходит в ленту и напоминает: Уходя в Лес, не забывайте не возвращаться. Поглядим, вернется ли он еще раз с новыми гостинцами.
«Вызывает тревогу трансформация привычных вещей и понятий: они меняют свой облик зачастую совершенно внезапно и рождают совершенно иные плоды, чем ожидалось. Это признак анархии.
Рассмотрим для примера права и свободы одиночки по отношению к властям. Они определены конституцией. Однако придется и дальше, причем довольно долгое время считаться с нарушением этих прав, будь то со стороны государства или партии, завладевшей государством, или со стороны иноземного захватчика или всего этого сразу. Можно, пожалуй, сказать, что массы, по крайней мере у нас в стране, пребывают в таком состоянии, что они вряд ли вообще способны замечать нарушения конституции. Там, где это сознание однажды утеряно, его уже искусственно не восстановить.
Нарушение прав может также иметь легальную окраску, если, например, господствующая партия располагает большинством, необходимым для изменения конституции. Оказывается, большинство одновременно может обладать правом и творить несправедливость: такое противоречие не помещается в простые головы. Уже во время голосования трудно понять, где кончается право и начинается насилие.
Превышение полномочий постепенно учащается и усугубляется, начиная выглядеть в отношении определенных групп как чистое преступление. Кто мог наблюдать принятие подобных, поддержанных массовым одобрением документов, тот знает, как мало против этого можно предпринять обычными средствами. Этического самоубийства нельзя требовать ни от кого, особенно если оно предписывается из-за границы.
<...>
Мы можем понять эти упреки, хотя они и принимали гротескные формы, отнюдь не курьезные. Речь, скорее, идет о новой черте нашего мира, и можно только порекомендовать всегда иметь ее в виду во времена, когда нет недостатка в общественной несправедливости. В одном случае оккупанты навешивают на вас ярлык коллаборациониста, в другом случае партии навешивают на вас ярлык попутчика. Так одиночка оказывается в ситуации между Сциллой и Харибдой; ему грозит ликвидация как за участие, так и за неучастие.
От одиночки ожидается большое мужество; от него требуется, чтобы он протянул руку помощи праву, даже входя тем самым в противостояние с государственной властью. Кто-то усомнится, что подобных людей вообще можно найти. Между тем они появятся и станут Ушедшими в Лес. Столь же непременно подобный тип будет вписан в картину истории, поскольку существуют такие формы принуждения, которые не оставляют выбора. <...>
Странный образ: одиночка — или даже множество одиночек, — обороняющийся от Левиафана. И все же именно в таком положении колосс оказывается под угрозой. Нужно понимать, что даже малое число людей, по-настоящему решительных, не только в моральном смысле, но и в действительности представляют собой угрозу».
«Вызывает тревогу трансформация привычных вещей и понятий: они меняют свой облик зачастую совершенно внезапно и рождают совершенно иные плоды, чем ожидалось. Это признак анархии.
Рассмотрим для примера права и свободы одиночки по отношению к властям. Они определены конституцией. Однако придется и дальше, причем довольно долгое время считаться с нарушением этих прав, будь то со стороны государства или партии, завладевшей государством, или со стороны иноземного захватчика или всего этого сразу. Можно, пожалуй, сказать, что массы, по крайней мере у нас в стране, пребывают в таком состоянии, что они вряд ли вообще способны замечать нарушения конституции. Там, где это сознание однажды утеряно, его уже искусственно не восстановить.
Нарушение прав может также иметь легальную окраску, если, например, господствующая партия располагает большинством, необходимым для изменения конституции. Оказывается, большинство одновременно может обладать правом и творить несправедливость: такое противоречие не помещается в простые головы. Уже во время голосования трудно понять, где кончается право и начинается насилие.
Превышение полномочий постепенно учащается и усугубляется, начиная выглядеть в отношении определенных групп как чистое преступление. Кто мог наблюдать принятие подобных, поддержанных массовым одобрением документов, тот знает, как мало против этого можно предпринять обычными средствами. Этического самоубийства нельзя требовать ни от кого, особенно если оно предписывается из-за границы.
<...>
Мы можем понять эти упреки, хотя они и принимали гротескные формы, отнюдь не курьезные. Речь, скорее, идет о новой черте нашего мира, и можно только порекомендовать всегда иметь ее в виду во времена, когда нет недостатка в общественной несправедливости. В одном случае оккупанты навешивают на вас ярлык коллаборациониста, в другом случае партии навешивают на вас ярлык попутчика. Так одиночка оказывается в ситуации между Сциллой и Харибдой; ему грозит ликвидация как за участие, так и за неучастие.
От одиночки ожидается большое мужество; от него требуется, чтобы он протянул руку помощи праву, даже входя тем самым в противостояние с государственной властью. Кто-то усомнится, что подобных людей вообще можно найти. Между тем они появятся и станут Ушедшими в Лес. Столь же непременно подобный тип будет вписан в картину истории, поскольку существуют такие формы принуждения, которые не оставляют выбора. <...>
Странный образ: одиночка — или даже множество одиночек, — обороняющийся от Левиафана. И все же именно в таком положении колосс оказывается под угрозой. Нужно понимать, что даже малое число людей, по-настоящему решительных, не только в моральном смысле, но и в действительности представляют собой угрозу».
Telegram
Вроде культурный человек
Эрнст Юнгер, «Уход в лес»:
Как и все стратегические фигуры, «котёл» являет нам точный образ эпохи, стремящейся прояснить свои вопросы огнём. Безвыходное окружение человека давно уже подготовлено в первую очередь теориями, стремящимися к логичному и исчерпывающему…
Как и все стратегические фигуры, «котёл» являет нам точный образ эпохи, стремящейся прояснить свои вопросы огнём. Безвыходное окружение человека давно уже подготовлено в первую очередь теориями, стремящимися к логичному и исчерпывающему…
❤10❤🔥3👍1
(Идея Юнгера — одиночка, который находит силы сказать «нет» режимам власти (будь-то режим государственной, тиранической, партийной или демократической, массовой власти, тут Юнгер, следуя платоновской традиции, не делает никаких сутевых различий, и режима оппозиционного или либерального, который вынужден создавать собственные логики пропаганды и ограничений свободы). Обе системы заставляют делать выбор или-или — или ты с нами, или ты против нас, иного не дано; Уход в Лес — тот самый иной выбор, создающий особенную форму одиночества. У такого одиночки есть три спасительные силы, неподконтрольные Левиафану: любое учение о трансценденции (религия или любая форма духовности, согласно которой есть нечто большее, чем комфорт и отсутствие боли в физической жизни — иначе нет никакого смысла выбирать что-то кроме комфорта и отсутствия боли), любовь и творчество. Что ж еще.
«Уход в Лес — это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает нечто большее».
Ничего особенно хорошего в эпохе модерна с Ушедшим в Лес не происходит — это похоже на выбор агента, который, может быть, и хотел бы остаться частью той или иной силы, но это противоречит важности практиковать свободу, а значит, противоречит исконному, еще древнегреческому пониманию подлинной политики).
«Уход в Лес — это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает нечто большее».
Ничего особенно хорошего в эпохе модерна с Ушедшим в Лес не происходит — это похоже на выбор агента, который, может быть, и хотел бы остаться частью той или иной силы, но это противоречит важности практиковать свободу, а значит, противоречит исконному, еще древнегреческому пониманию подлинной политики).
❤17