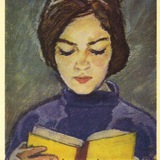Со всеми мужчинами, которые берутся рассуждать о том, что если женщина родила, то и пусть сидит дома и растит и нехрен шастать по улицам с дитем, я бы поиграла в одну очень увлекательную игру.
Я бы закрыла каждого на относительно небольшой территории, где они все время должны были бы чистить свой персональный плац от снега. Снег по идиотским правилам игры падает 24 часа в сутки совсем с небольшими и абсолютно непредсказуемыми перерывами. В эти небольшие перерывы ты можешь делать абсолютно, что угодно - есть, ходить в туалет, принимать душ (хахаха), причесываться (Хахахаха!!!), чистить зубы (нет, я щас скончаюсь от смеха) и даже смотреть телевизор, но без звука, потому что от любого звука снег начинает падать в три раза быстрее. Выйти с плаца можно при условии, что снега на нем нет. Естественно, по правилам этой подлой игры, когда он решит, что вот оно счастье - снег весь убран и больше не падает и небо чистое, и откроет дверь, чтобы выходить, надо нажать кнопку и навалить ему туда такую кучу, чтобы он забыл как мать родную зовут и когда мылся в последний раз.
Валить и валить им, да побольше, побольше, и днём и ночью.
Проведывать наказуемых надо раз в сутки - приходить, спрашивать - что на ужин? Неспеша ужинать, глядя, как он убирает снег. Потом полчаса барахтаться в снегу, играя и веселясь и даже как будто бы, немного убирая его, а потом идти спать. Перед сном требовать сексуальных утех и игрищ! А утром, глядя на чистый от снега плац, говорить - ну и чо ты жалуешься вечно? Вот же - всю ночь снег не шёл! В то, что снег ночью шёл и ещё как - с градом и молниями, а вы все проспали, категорически не верить!!!
Его нытьё, мол, а ты не могла бы поубирать за меня снег хотя бы два часа - игнорировать полностью! Это его снег, вы абсолютно не знаете как его убирать и вообще вы и так устали на своей работе, а он просто убирает снег - это легко и каждый дурак может!
А когда они скажут, что это бессмысленно и все дни одинаковые, и начнут орать и лупить лопатой по плацу, запустить им, например, розовый снег! Или солнышко на десять минут - впервые за три месяца. И чтобы снег растаял и даже сам потек, но на десять минут!
На все просьбы их купить снегоуборочную машину, которая существенно облегчает жизнь, отвечать - ну ты чо, не мужик? Ты чо - снег убрать не можешь? Все убирают, а ты нет? Да наши деды испокон веков его убирали, а вот таких лопат, как у тебя, у них не было!
И так далее. Жаль, нельзя так.
Marina Sokolovskaya
Я бы закрыла каждого на относительно небольшой территории, где они все время должны были бы чистить свой персональный плац от снега. Снег по идиотским правилам игры падает 24 часа в сутки совсем с небольшими и абсолютно непредсказуемыми перерывами. В эти небольшие перерывы ты можешь делать абсолютно, что угодно - есть, ходить в туалет, принимать душ (хахаха), причесываться (Хахахаха!!!), чистить зубы (нет, я щас скончаюсь от смеха) и даже смотреть телевизор, но без звука, потому что от любого звука снег начинает падать в три раза быстрее. Выйти с плаца можно при условии, что снега на нем нет. Естественно, по правилам этой подлой игры, когда он решит, что вот оно счастье - снег весь убран и больше не падает и небо чистое, и откроет дверь, чтобы выходить, надо нажать кнопку и навалить ему туда такую кучу, чтобы он забыл как мать родную зовут и когда мылся в последний раз.
Валить и валить им, да побольше, побольше, и днём и ночью.
Проведывать наказуемых надо раз в сутки - приходить, спрашивать - что на ужин? Неспеша ужинать, глядя, как он убирает снег. Потом полчаса барахтаться в снегу, играя и веселясь и даже как будто бы, немного убирая его, а потом идти спать. Перед сном требовать сексуальных утех и игрищ! А утром, глядя на чистый от снега плац, говорить - ну и чо ты жалуешься вечно? Вот же - всю ночь снег не шёл! В то, что снег ночью шёл и ещё как - с градом и молниями, а вы все проспали, категорически не верить!!!
Его нытьё, мол, а ты не могла бы поубирать за меня снег хотя бы два часа - игнорировать полностью! Это его снег, вы абсолютно не знаете как его убирать и вообще вы и так устали на своей работе, а он просто убирает снег - это легко и каждый дурак может!
А когда они скажут, что это бессмысленно и все дни одинаковые, и начнут орать и лупить лопатой по плацу, запустить им, например, розовый снег! Или солнышко на десять минут - впервые за три месяца. И чтобы снег растаял и даже сам потек, но на десять минут!
На все просьбы их купить снегоуборочную машину, которая существенно облегчает жизнь, отвечать - ну ты чо, не мужик? Ты чо - снег убрать не можешь? Все убирают, а ты нет? Да наши деды испокон веков его убирали, а вот таких лопат, как у тебя, у них не было!
И так далее. Жаль, нельзя так.
Marina Sokolovskaya
👍112🔥78💯34❤17
Некоторые из нас имеют очень ограниченный взгляд на мир. Мы говорим: то, что случается с нами как с женщинами, на самом деле случается с нами как с индивидами. Мы даже говорим, что любое насилие, испытанное нами как женщинами — например, изнасилование или побои от рук мужа, любовника или незнакомца, — было деянием одного индивида против другого. Некоторые из нас даже извиняются перед агрессором — мы жалеем его; мы говорим: он не виноват, его просто спровоцировала женщина, которая не так себя повела, не так оделась, не в то время подвернулась ему под руку.
Мужчины заявляют, что и на их долю выпадают тяготы «угнетения». Они говорят, что за свою жизнь не раз становятся жертвами матерей, жен и «подружек». Они говорят, что женщины сами провоцируют насилие своей похотью, злобой, меркантильностью, высокомерием и глупостью. Они говорят, что мы — источник их агрессии и должны ответить за это. Они говорят, что их жизни полны тягот, и виной тому — мы. Они говорят, что матери наносят им неисцелимые травмы, жены — кастрируют, а любовницы крадут их драгоценное семя, юность и мужество — и никогда матери, жены и любовницы не бывают для них достаточно хороши.
И что нам остается думать? Ведь если мы сложим воедино все случаи насилия — изнасилования, домогательства, искалечивания, нападения, массовые убийства; если внимательно прочтем их романы, поэмы, политические и философские трактаты и увидим в них сегодня ту же ненависть, с какой писала о нас Инквизиция вчера; если мы поймем, что гиноцид на протяжении всей нашей истории — это не просто какая-то ошибка, случайный просчет или досадное недоразумение, но логический исход того, что они считают нашей ниспосланной богом или биологической натурой; тогда нам наконец придется признать, что при патриархате гиноцид — это реальность сегодняшнего дня для живущих в нем женщин. И тогда нам ничего больше не останется, кроме как обратиться друг к другу — в поисках сил вынести все это и смелости бороться.
Андреа Дворкин
Памяти ведьм
Мужчины заявляют, что и на их долю выпадают тяготы «угнетения». Они говорят, что за свою жизнь не раз становятся жертвами матерей, жен и «подружек». Они говорят, что женщины сами провоцируют насилие своей похотью, злобой, меркантильностью, высокомерием и глупостью. Они говорят, что мы — источник их агрессии и должны ответить за это. Они говорят, что их жизни полны тягот, и виной тому — мы. Они говорят, что матери наносят им неисцелимые травмы, жены — кастрируют, а любовницы крадут их драгоценное семя, юность и мужество — и никогда матери, жены и любовницы не бывают для них достаточно хороши.
И что нам остается думать? Ведь если мы сложим воедино все случаи насилия — изнасилования, домогательства, искалечивания, нападения, массовые убийства; если внимательно прочтем их романы, поэмы, политические и философские трактаты и увидим в них сегодня ту же ненависть, с какой писала о нас Инквизиция вчера; если мы поймем, что гиноцид на протяжении всей нашей истории — это не просто какая-то ошибка, случайный просчет или досадное недоразумение, но логический исход того, что они считают нашей ниспосланной богом или биологической натурой; тогда нам наконец придется признать, что при патриархате гиноцид — это реальность сегодняшнего дня для живущих в нем женщин. И тогда нам ничего больше не останется, кроме как обратиться друг к другу — в поисках сил вынести все это и смелости бороться.
Андреа Дворкин
Памяти ведьм
💯125❤30❤🔥13
Миллионы работников образования не могут самостоятельно преодолеть бюропатологии, освободиться от бумажного прессинга, влиять на инновации в образовании, чем подтверждаются слова М. Вебера об учителях как полупрофессионалах. Адаптируясь к авторитарному бюрократическому управлению, они осваивают новые профессиональные стратегии и ролевые модели. Это освоение неизбежно, так как бумажный прессинг настигает каждого работника образования практически везде: в организации своей учебной и внеучебной работы с учащимися и ведении отчетности, во взаимодействиях с коллегами и руководителями, в планировании своей профессиональной карьеры и трудовых доходов, в сохранении или размывании профессионально-культурных ценностей, в школьном классе и приемной директора или декана, вузовской кафедре и кабинете районного комитета образования.
Системный характер бюропатологий в современном российском образовании, приведший к ролевому расслоению работников, годами вуалируется бюрократами. Но он уже превратил всю отрасль, включая ее разные уровни и сегменты, в «черную дыру», в которой текучесть кадров из-за бумажного прессинга практически сравнялась с объемами впервые вступающих в профессиональную жизнь молодых специалистов.
Многие из них, еще со студенческой скамьи и опыта своей первой школьной практики, осваивают в благородной по своей сути профессии роли эскейпистов или пассивных жертв бумажного прессинга. Это – наиболее зримый экономический результат бюрократического управления образованием, при котором система подготовки педагогов для огромной страны обречена лишь ненадолго статистически (в состоянии кадрового потенциала образования) компенсировать выгорание, потерю творческого начала и преданности профессии и, в конечном счете, ежегодный уход десятков тысяч работников из нее.
Одной из главных опасностей бумажного прессинга, ставшего в XXI веке системной технологией управления российским образованием, стало реальное расслоение работников. Являются ли эти ролевые модели устойчивыми, распространяются ли они на все виды профессиональной работы и внешкольной деятельности, патологическими (ведут к пролонгации и усугублению бюропатологий) – еще предстоит выяснить. Их многообразие сводится к основным четырем категориям по признакам поддержки или сопротивления бумажному прессингу, активности или пассивности его.
Оправдание бумажного прессинга и активное содействие ему свойственно меньшинству работников образования, которое, со статистической точки зрения, можно назвать ничтожным. Однако и противостояние такому прессингу нередко уподоблено «борьбе с системой» и ее руководителями, осуждается как бесперспективное или вредное занятие. Кроме того, статистическое большинство, относящееся к противникам такого прессинга, лишено реальных организационных ресурсов для противодействия бюропатологиям, а также концептуального видения бюропатологического кризиса в отрасли. Такая лишенность видения картины кризиса, в определенном смысле социальная «слепота» является следствием слабой подготовки их в проблематике социологии образования и механизмов образовательной политики – части сложного комплекса социально-экономических, информационных, общественно-политических и профессионально-воспроизводственных предпосылок бюропатологий в современном российском образовании.
Перспектива выхода из бюропатологического кризиса образования связана, по нашему мнению, с достижением основной массой работников понимания системных механизмов управления, с ориентацией образовательной политики на государственно-общественное управление отраслью и принципиальный отказ от все еще популярного среди политических лидеров универсального менеджмента, с опорой на критически мыслящих педагогов и администраторов. До тех пор даже массовые роли, выражающие сопротивление любым бюропатологиям в образовании, обречены на непосильное противостояние бюрократии.
Кукушкина А. Г., Осипова А. А.
Ролевые модели работников образования в контексте системных бюропатологий
Системный характер бюропатологий в современном российском образовании, приведший к ролевому расслоению работников, годами вуалируется бюрократами. Но он уже превратил всю отрасль, включая ее разные уровни и сегменты, в «черную дыру», в которой текучесть кадров из-за бумажного прессинга практически сравнялась с объемами впервые вступающих в профессиональную жизнь молодых специалистов.
Многие из них, еще со студенческой скамьи и опыта своей первой школьной практики, осваивают в благородной по своей сути профессии роли эскейпистов или пассивных жертв бумажного прессинга. Это – наиболее зримый экономический результат бюрократического управления образованием, при котором система подготовки педагогов для огромной страны обречена лишь ненадолго статистически (в состоянии кадрового потенциала образования) компенсировать выгорание, потерю творческого начала и преданности профессии и, в конечном счете, ежегодный уход десятков тысяч работников из нее.
Одной из главных опасностей бумажного прессинга, ставшего в XXI веке системной технологией управления российским образованием, стало реальное расслоение работников. Являются ли эти ролевые модели устойчивыми, распространяются ли они на все виды профессиональной работы и внешкольной деятельности, патологическими (ведут к пролонгации и усугублению бюропатологий) – еще предстоит выяснить. Их многообразие сводится к основным четырем категориям по признакам поддержки или сопротивления бумажному прессингу, активности или пассивности его.
Оправдание бумажного прессинга и активное содействие ему свойственно меньшинству работников образования, которое, со статистической точки зрения, можно назвать ничтожным. Однако и противостояние такому прессингу нередко уподоблено «борьбе с системой» и ее руководителями, осуждается как бесперспективное или вредное занятие. Кроме того, статистическое большинство, относящееся к противникам такого прессинга, лишено реальных организационных ресурсов для противодействия бюропатологиям, а также концептуального видения бюропатологического кризиса в отрасли. Такая лишенность видения картины кризиса, в определенном смысле социальная «слепота» является следствием слабой подготовки их в проблематике социологии образования и механизмов образовательной политики – части сложного комплекса социально-экономических, информационных, общественно-политических и профессионально-воспроизводственных предпосылок бюропатологий в современном российском образовании.
Перспектива выхода из бюропатологического кризиса образования связана, по нашему мнению, с достижением основной массой работников понимания системных механизмов управления, с ориентацией образовательной политики на государственно-общественное управление отраслью и принципиальный отказ от все еще популярного среди политических лидеров универсального менеджмента, с опорой на критически мыслящих педагогов и администраторов. До тех пор даже массовые роли, выражающие сопротивление любым бюропатологиям в образовании, обречены на непосильное противостояние бюрократии.
Кукушкина А. Г., Осипова А. А.
Ролевые модели работников образования в контексте системных бюропатологий
😢38👍11💯5🔥3❤1
То, что происходило тогда и что продолжает отыгрываться в связи с сексуальным насилием, – это ретравматизация и стигматизация, еще одна разновидность властного насилия. Снова мы видим, что пострадавшие зависят от произвола какого-то человека, предоставлены воле некоего эксперта, который обесценивает тяжелые психические расстройства до не подлежащей возмещению неврозоподобной психосоматической реакции или с недоверием и неприкрытым предубеждением приписывает жертвам инцеста сексуальную готовность и желание ребенка соблазнять.
Ни жертвы концлагеря, ни дети в суде не могли почувствовать, что их принимают всерьез и уважают как людей. Процесс расследования, скорее, носил характер судебной оценки объектов. Неоднократно утверждалось, что субъективным заявлениям выживших не следует доверять, потому что они могут оказаться преувеличениями. Однако компетентные эксперты и опытные психологи знают, что выжившие, как правило, преуменьшают степень насилия, так как часто боятся потерять самообладание при мысленном возвращении к прежнему опыту.
В ходе судебных процессов дети видят, что достоверность их слов подвергается особо суровым сомнениям. Это включает обсуждение их возможного соучастия, сознательное соблазнение или желание стать значительным. Это особенно часто бывает, когда у жертвы инцеста нет тяжелых физических увечий, когда сексуальная эксплуатация происходила без видимых следов насилия. Факт отсутствия физического ущерба ошибочно интерпретируют, что, возможно, все было не так уж ужасно.
В основном при этом оспаривается роль жертвы, что усиливает ощущение того, что пострадавший – снова жертва. Когда в суде в стиле перекрестного допроса ребенка спрашивают, почему же он не защищался, не убегал или не позвал на помощь, то в таких действиях юристов мы распознаем влияние социально значимых предрассудков о соучастии жертв в сексуальных преступлениях.
Я помню, например, освещенный в прессе случай берлинского врача и политического деятеля.Когда одна из его дочерей вернулась после побега из дома, отец раздел обеих дочерей в возрасте 14 и 16 лет и нанес около 39 ударов по ягодицам. Перед этим он гладил голые ягодицы дочерей, а потом долго и тщательно наносил на рубцы и синяки мазь. По утрам в воскресенье девочки, несмотря на попытки защищаться, обязаны были приходить к нему в постель, где он ложился на них голым или полураздетым или заставлял их раздеваться и мыться перед ним, в то время как он насвистывал мелодии и в такт им наносил удары по их ягодицам. После неудавшейся попытки самоубийства одной из дочерей им еще пришлось выслушать от лечащего психиатра, что у них были фантазии об изнасиловании и что они хотели насилия со стороны отца, чтобы он признал их как женщин.
Коллективное вытеснение реальности травмы под предводительством Фрейда является при этом ключевым. Рационализации, под влиянием которых работает суд, возмутительны. Я вспоминаю случай в Дармштадте, когда мать узнала о злоупотреблениях со стороны отца с помощью явно сексуальных игр дочери 3,5 лет. Два психологических исследования подтвердили, что заявления и поведение ребенка не могут быть плодом детской фантазии, а указывают на конкретные события. Адвокат обвиняемого отрицал все подозрения, ссылаясь на компетентность и социальное положение своего клиента. Якобы политик и член экономической экспертной комиссии не станет эксплуатировать своего ребенка!
Урсула Виртц
Убийство души: Инцест и терапия
Ни жертвы концлагеря, ни дети в суде не могли почувствовать, что их принимают всерьез и уважают как людей. Процесс расследования, скорее, носил характер судебной оценки объектов. Неоднократно утверждалось, что субъективным заявлениям выживших не следует доверять, потому что они могут оказаться преувеличениями. Однако компетентные эксперты и опытные психологи знают, что выжившие, как правило, преуменьшают степень насилия, так как часто боятся потерять самообладание при мысленном возвращении к прежнему опыту.
В ходе судебных процессов дети видят, что достоверность их слов подвергается особо суровым сомнениям. Это включает обсуждение их возможного соучастия, сознательное соблазнение или желание стать значительным. Это особенно часто бывает, когда у жертвы инцеста нет тяжелых физических увечий, когда сексуальная эксплуатация происходила без видимых следов насилия. Факт отсутствия физического ущерба ошибочно интерпретируют, что, возможно, все было не так уж ужасно.
В основном при этом оспаривается роль жертвы, что усиливает ощущение того, что пострадавший – снова жертва. Когда в суде в стиле перекрестного допроса ребенка спрашивают, почему же он не защищался, не убегал или не позвал на помощь, то в таких действиях юристов мы распознаем влияние социально значимых предрассудков о соучастии жертв в сексуальных преступлениях.
Я помню, например, освещенный в прессе случай берлинского врача и политического деятеля.
Коллективное вытеснение реальности травмы под предводительством Фрейда является при этом ключевым. Рационализации, под влиянием которых работает суд, возмутительны. Я вспоминаю случай в Дармштадте, когда мать узнала о злоупотреблениях со стороны отца с помощью явно сексуальных игр дочери 3,5 лет. Два психологических исследования подтвердили, что заявления и поведение ребенка не могут быть плодом детской фантазии, а указывают на конкретные события. Адвокат обвиняемого отрицал все подозрения, ссылаясь на компетентность и социальное положение своего клиента. Якобы политик и член экономической экспертной комиссии не станет эксплуатировать своего ребенка!
Урсула Виртц
Убийство души: Инцест и терапия
😢116💯16❤5
Учительница (женщина, 47 лет) сетует:
Классный руководитель пятого класса (женщина, 44 года) добавляет:
Особенностью бумажного прессинга, ведущей к надломленности и выгоранию подчиненных, является его агрессивный стиль. Пассивное противодействие – массовая ролевая модель, которая порождает не открытое сопротивление, но «липу» в ответ на нерелевантные запросы сверху. Ее приверженцы кулуарно высказывают недовольство и принимают ситуативные меры противодействия, решая проблему в узких рамках своих ресурсов и обязанностей. «Эскейписты» игнорируют бумажную работу даже в ущерб своему заработку (лишение премий, стимулирующих надбавок) и лояльности начальства.
Преподаватель вуза (мужчина, 61 год) так комментирует свой опыт заполнения документов для «эффективного контракта» – одного из одиозных продуктов бюрократического нормотворчества:
Учитель физики (женщина, 56 лет) высказывается:
Учитель истории (мужчина, 58 лет) рассказывает о бюрократических нововведениях в работе с неуспевающими:
Существуют и «лукавые» вариации эскейпизма. Вот как описывает учительница (женщина, 42 года) в мегаполисе поведение некоторых коллег:
«Адаптирующиеся» лавируют в информационных потоках, пытаясь сохранить хорошее расположение руководства и сократить объем ненужных документов. Как рассказывает учитель информатики (мужчина, 38 лет):
«Адаптирующиеся» практикуют кооперацию (написание одной образовательной программы на группу коллег), часто пользуются доступными шаблонами документов из сети Интернет. Педагог-организатор (женщина,
44 года), по совместительству учитель начальной школы, испытывает на себе гнет бумажного прессинга:
Учитель физкультуры (женщина, 47 лет), ранее заместитель директора спортшколы, признается:
Учитель русского языка и литературы (женщина, 41 год) поддерживает коллегу:
Мы теперь за все в ответе. Ученика моего класса во дворе задела машина. Но на комиссию с ним иду я, а не его родители. Мне – отчитаться о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений ПДД, показать план воспитательной работы. Почему это не спросят с родителей?
Классный руководитель пятого класса (женщина, 44 года) добавляет:
Нас обязали клеить в дневники маршрут безопасной дороги домой. Его еще нужно продумать и составить. Кажется, учитель теперь – самый ответственный человек в жизни ребенка.
Особенностью бумажного прессинга, ведущей к надломленности и выгоранию подчиненных, является его агрессивный стиль. Пассивное противодействие – массовая ролевая модель, которая порождает не открытое сопротивление, но «липу» в ответ на нерелевантные запросы сверху. Ее приверженцы кулуарно высказывают недовольство и принимают ситуативные меры противодействия, решая проблему в узких рамках своих ресурсов и обязанностей. «Эскейписты» игнорируют бумажную работу даже в ущерб своему заработку (лишение премий, стимулирующих надбавок) и лояльности начальства.
Преподаватель вуза (мужчина, 61 год) так комментирует свой опыт заполнения документов для «эффективного контракта» – одного из одиозных продуктов бюрократического нормотворчества:
Когда я понял, сколько нужно подтверждений и приложений оформить, передумал писать эти бумаги. К тому же, когда за написание монографии и статьи получаешь одинаковые баллы, а за выпуск учебника – ничего, то пропадает желание заполнять отчеты.
Учитель физики (женщина, 56 лет) высказывается:
Постоянно на педсовете говорят, что у меня одной что-то не заполнено: то документы на стимулирующую, то какой-то отчет. А я понимаю, если начну вкладываться в эти отчеты, то из меня получится сухой работник политбюро. Детям такой учитель опасен.
Учитель истории (мужчина, 58 лет) рассказывает о бюрократических нововведениях в работе с неуспевающими:
Ставить плохую оценку – себе дороже. Есть неуспевающий – будь добр сдай документы о работе с ним: план мероприятий, диагностику... Мы эту работу и так проводим… Но пока все это перенесешь на бумагу – потерял еще один час или больше.
Существуют и «лукавые» вариации эскейпизма. Вот как описывает учительница (женщина, 42 года) в мегаполисе поведение некоторых коллег:
В школе есть люди, которые просто любят жаловаться. Они даже не пытаются разобраться, что, зачем и как делать, а просто закатывают глаза на все, оправдываясь своей бумажной нагрузкой: это, конечно, удобно. Прикинулся очень занятым – и все отстали и даже сочувственно потрепали по плечу…
«Адаптирующиеся» лавируют в информационных потоках, пытаясь сохранить хорошее расположение руководства и сократить объем ненужных документов. Как рассказывает учитель информатики (мужчина, 38 лет):
Школьные информатики должны вести журнал учета работ на компьютерах (по истории браузеров). Кому он нужен? Конечно, никто его не ведет, уже три года его не проверяют.
«Адаптирующиеся» практикуют кооперацию (написание одной образовательной программы на группу коллег), часто пользуются доступными шаблонами документов из сети Интернет. Педагог-организатор (женщина,
44 года), по совместительству учитель начальной школы, испытывает на себе гнет бумажного прессинга:
Чувствую односторонний поток этой информации: если по внутришкольному отчету я получаю обратную связь, то по всем остальным документам – нет... Сверху спускают такой большой объем обязательных мероприятий воспитательной работы, что страдает и их качество, и запал на вдумчивую работу с детьми.
Учитель физкультуры (женщина, 47 лет), ранее заместитель директора спортшколы, признается:
Отчеты всегда красивее реальности. Потому что … там наверху никому не интересна реальность, никто не готов работать с проблемами... Вот и показываешь такую картинку, чтобы от тебя отстали.
Учитель русского языка и литературы (женщина, 41 год) поддерживает коллегу:
Часть требований отчетов сваливается на нас «задним числом», с ними остается только «импровизировать».
😢63👍3
В ответ на прессинг работники сдают некачественную информацию. Практикуется «теория четырех гвоздей», описанная завучем школы (женщина, 38 лет):
Эта комическая теория подтверждает нерелевантность бюрократических информационных потоков: отчеты теряют актуальность, хотя и сдаются начальству.
Кукушкина А. Г., Осипова А. А.
Ролевые модели работников образования в контексте системных бюропатологий
При получении запроса сразу откладываю его (вешаю на первый гвоздь) и занимаюсь своими делами. При новом напоминании «перевешиваю» поручение на второй гвоздь и вновь оставляю. Так продолжаю до четвертого гвоздя. Некоторые поручения отменяются, если кто-то сверху поменял за это время свои планы.
Эта комическая теория подтверждает нерелевантность бюрократических информационных потоков: отчеты теряют актуальность, хотя и сдаются начальству.
Кукушкина А. Г., Осипова А. А.
Ролевые модели работников образования в контексте системных бюропатологий
😢67👍20❤🔥10💯4
Врачи долго не могли понять, почему же женщины, которые редко участвуют в военных действиях, гораздо чаще страдают от посттравматического стрессового расстройства, чем мужчины. Нежелательные сексуальные приставания, объективизация и постоянный фон домогательств частично это объясняют. Но также причина может быть в постоянно культивируемом осознании угрозы и подавляемом гневе. В СМИ редко проводится связь между уличными домогательствами и более серьезными преступлениями, но эта связь очевидна. Подобные случаи то и дело появляются в новостях, хотя и вне контекста с домогательствами в целом: например, мужчина бросил мяч для боулинга женщине в голову, когда она отказалась от его предложения купить ей выпить, или другой мужчина разбил стакан о голову женщины, когда она отказалась с ним танцевать. В 2014 году во Флориде мужчина в машине предложил 14-летней школьнице 200 долларов за секс с ним, когда она отказалась, он схватил ее за волосы, затащил в машину, душил, пока она не потеряла сознание, а затем выбросил из машины и проехался по ней несколько раз на глазах шокированных прохожих. Она выжила и смогла опознать его. В 2009 году женщина погибла на тротуаре, когда мужчины, которые кричали ей непристойности, наехали на грузовике на нее и ее подругу. Всего несколько недель спустя мужчина переехал женщину, когда она отказалась от его предложения ее подвезти. В Сан-Франциско мужчина ударил женщину ножом в лицо и руку, когда она отказала ему. Женщины, которые занимаются бегом или ездят на велосипеде, женщины на автобусных остановках и в барах прекрасно знают о подобных опасностях. Такие истории встретить не трудно.
Конечно, проблема не только в уличных домогательствах незнакомцев. Мужчины так же бывают уверены в том, что у них есть право на тела знакомых женщин, и эта уверенность в своем праве стоит за всеми историями о мести за «неразделенную любовь», преступлениях на почве «подростковой страсти» и «хороших мальчиках», которые «сорвались».
Например, в 2014 году 16-летняя Марен Санчес была убита своим одноклассником, потому что она отказалась пойти с ним на школьный выпускной. Во время написания этой главы полиция сообщила, что в 2016 году 16-летняя Шемель Меркуриус из Бруклина была застрелена 25-летним мужчиной, который хотел с ней встречаться. Когда она отказалась, он выстрелил в нее три раза из автомата.
«Уязвимость – это не врожденная характеристика женских тел, – говорит Сара Ахмет в «Культурной политике эмоций». – Скорее это явление, которое оберегает феминность как ограничение свободы передвижения в публичном пространстве и нарушение границ в частном».
Такой уровень домогательств и постоянный фон намеков на насилие регулярно напоминает женщинам и девочкам, где «их место». По большей части, опыт домогательств, который переживают девочки и женщины, все еще принято замалчивать, и мы продолжаем, как общество в целом, пропагандировать девочкам опасный совет «соблюдать правила осторожности». Цель таких советов не в безопасности. Ведь мальчикам, которые тоже могут стать мишенями сексуального насилия, ничего подобного не внушают. Цель в социальном контроле
«Улыбнись, детка»: влияние домогательств на жизнь женщин
Конечно, проблема не только в уличных домогательствах незнакомцев. Мужчины так же бывают уверены в том, что у них есть право на тела знакомых женщин, и эта уверенность в своем праве стоит за всеми историями о мести за «неразделенную любовь», преступлениях на почве «подростковой страсти» и «хороших мальчиках», которые «сорвались».
Например, в 2014 году 16-летняя Марен Санчес была убита своим одноклассником, потому что она отказалась пойти с ним на школьный выпускной. Во время написания этой главы полиция сообщила, что в 2016 году 16-летняя Шемель Меркуриус из Бруклина была застрелена 25-летним мужчиной, который хотел с ней встречаться. Когда она отказалась, он выстрелил в нее три раза из автомата.
«Уязвимость – это не врожденная характеристика женских тел, – говорит Сара Ахмет в «Культурной политике эмоций». – Скорее это явление, которое оберегает феминность как ограничение свободы передвижения в публичном пространстве и нарушение границ в частном».
Такой уровень домогательств и постоянный фон намеков на насилие регулярно напоминает женщинам и девочкам, где «их место». По большей части, опыт домогательств, который переживают девочки и женщины, все еще принято замалчивать, и мы продолжаем, как общество в целом, пропагандировать девочкам опасный совет «соблюдать правила осторожности». Цель таких советов не в безопасности. Ведь мальчикам, которые тоже могут стать мишенями сексуального насилия, ничего подобного не внушают. Цель в социальном контроле
«Улыбнись, детка»: влияние домогательств на жизнь женщин
💯96😢47👍12🔥8❤1
После своего возвращения из Косово я пришла на встречу в очень формальную организацию, посвященную повышению уровня информированности о внешней политике. Ее участники собирались в роскошном центральном офисе на Манхэттене, чтобы вместе пообедать и выслушать обращение какого-нибудь научного эксперта или официального представителя правительства. На «моей» встрече как раз рассматривалась политика США в отношении Косово. После того как спикер закончил свое выступление, он предложил слушателям задать ему вопросы. И хотя я знала о ситуации больше, чем значительная часть присутствующих, я не решалась сама задать вопрос. Согласно протоколу, для этого нужно было встать, представиться и назвать свое место работы. В зале было много людей на высоких должностях, большинство из них – мужчины старше меня, а я на тот момент была молодой и неработающей женщиной.
Пока я собиралась с силами, один широко известный инвестор и филантроп поднялся, чтобы обратиться к спикеру с вопросом. Когда он назвал свое имя и место работы, все заулыбались, поскольку и так знали, кто он такой. И мысль о том, чтобы встать и сказать: «Меня зовут Ким, я безработная» показалась мне еще более сомнительной.
Следующий вопрос задал известный и недавно ушедший в отставку инвестиционный банкир. Он встал, произнес свое имя и сказал «в свободном плавании». Ах! Так вот какую фразу употребляли члены этого клуба в значении «безработный». Итак, я снова подняла руку. Когда спикер обратился ко мне, я встала, произнесла свое имя и сказала, что я «в свободном плавании».
И тут один религиозный лидер в конце зала прокричал: «В свободном плавании или одинокая?» Комната взорвалась от смеха. Мне хотелось бы сказать, что я спокойно восприняла этот выкрик, но горячие слезы унижения тут же стали жечь мне глаза. Я сделала глубокий вздох, притворилась, будто ничего не заметила, и задала свой вопрос.
Если бы нашелся хоть один человек, который мог встать, повернуться к мистеру «свободна-или-одинока» и спросить «Почему вы грубите?» или сказать «Вы не имеете права неуважительно относиться к другим членам клуба», то общее настроение в зале изменилось бы на 180 градусов. И уже сам мистер «свободна-или-одинока», а не я, пришел бы в смущение. Или если хотя бы один человек подошел ко мне после встречи и сказал, что считает его поведение недобрым и оскорбительным, это также имело бы для меня большое значение. Но никто этого не сделал.
С тех пор нахождение в клубе стало вызывать у меня постоянное чувство неловкости. В конечном счете я покинула его, несмотря на то что уход означал потерю выдающейся сети контактов. Хуже того, мое молчание в ответ на брошенную фразу ужасно навредило моей самооценке.
Ким Скотт
Антология офисного неравенства. Природа и механизмы притеснения сотрудников
Пока я собиралась с силами, один широко известный инвестор и филантроп поднялся, чтобы обратиться к спикеру с вопросом. Когда он назвал свое имя и место работы, все заулыбались, поскольку и так знали, кто он такой. И мысль о том, чтобы встать и сказать: «Меня зовут Ким, я безработная» показалась мне еще более сомнительной.
Следующий вопрос задал известный и недавно ушедший в отставку инвестиционный банкир. Он встал, произнес свое имя и сказал «в свободном плавании». Ах! Так вот какую фразу употребляли члены этого клуба в значении «безработный». Итак, я снова подняла руку. Когда спикер обратился ко мне, я встала, произнесла свое имя и сказала, что я «в свободном плавании».
И тут один религиозный лидер в конце зала прокричал: «В свободном плавании или одинокая?» Комната взорвалась от смеха. Мне хотелось бы сказать, что я спокойно восприняла этот выкрик, но горячие слезы унижения тут же стали жечь мне глаза. Я сделала глубокий вздох, притворилась, будто ничего не заметила, и задала свой вопрос.
Если бы нашелся хоть один человек, который мог встать, повернуться к мистеру «свободна-или-одинока» и спросить «Почему вы грубите?» или сказать «Вы не имеете права неуважительно относиться к другим членам клуба», то общее настроение в зале изменилось бы на 180 градусов. И уже сам мистер «свободна-или-одинока», а не я, пришел бы в смущение. Или если хотя бы один человек подошел ко мне после встречи и сказал, что считает его поведение недобрым и оскорбительным, это также имело бы для меня большое значение. Но никто этого не сделал.
С тех пор нахождение в клубе стало вызывать у меня постоянное чувство неловкости. В конечном счете я покинула его, несмотря на то что уход означал потерю выдающейся сети контактов. Хуже того, мое молчание в ответ на брошенную фразу ужасно навредило моей самооценке.
Ким Скотт
Антология офисного неравенства. Природа и механизмы притеснения сотрудников
😢123❤26👍8
Люди, заинтересованные в гламуризации проституции, стараются свести дискуссию к частному уровню, говоря только о конкретной персоне или конкретной ситуации. Так сложнее увидеть угнетение — чтобы понять угнетение, мы должны смотреть на паттерны.
Это применимо ко всем видам угнетения. Неслучайно людям с иностранными именами сложнее найти работу, хотя в частном случае невозможно доказать, что именно это мешает. Чтобы
увидеть бытовой расизм, следует смотреть как на конкретные примеры, так и на картину в целом — нужно увидеть, являются ли случаи частью системы.
Когда мы реагируем на пример угнетения женщин, часто это пытаются представить совпадением. Чтобы преодолеть это, норвежская феминистка Кирсти Эрикссон придумала термин «систематические совпадения».
Сложенные воедино, все эти «случайные» ситуации угнетения укладываются в определенную схему, согласно которой к девочкам и мальчикам, а также к женщинам и мужчинам относятся по-разному в зависимости от конфигурации гениталий — вследствие чего они получают
разное количество власти.
Вот почему мы не можем понять проституцию, не связав ее с другими формами угнетения женщин, такими как неравная оплата труда, дискриминация в области здравоохранения, изнасилования, невидимость женской истории и все другие примеры, которые укладываются в социальный паттерн системного распределения власти в зависимости от гендера.
Говоря о проституции.
Ответы на частые аргументы
Сборник аргументов от Женского фронта Швеции (Kvinnofronten)
Это применимо ко всем видам угнетения. Неслучайно людям с иностранными именами сложнее найти работу, хотя в частном случае невозможно доказать, что именно это мешает. Чтобы
увидеть бытовой расизм, следует смотреть как на конкретные примеры, так и на картину в целом — нужно увидеть, являются ли случаи частью системы.
Когда мы реагируем на пример угнетения женщин, часто это пытаются представить совпадением. Чтобы преодолеть это, норвежская феминистка Кирсти Эрикссон придумала термин «систематические совпадения».
Сложенные воедино, все эти «случайные» ситуации угнетения укладываются в определенную схему, согласно которой к девочкам и мальчикам, а также к женщинам и мужчинам относятся по-разному в зависимости от конфигурации гениталий — вследствие чего они получают
разное количество власти.
Вот почему мы не можем понять проституцию, не связав ее с другими формами угнетения женщин, такими как неравная оплата труда, дискриминация в области здравоохранения, изнасилования, невидимость женской истории и все другие примеры, которые укладываются в социальный паттерн системного распределения власти в зависимости от гендера.
Говоря о проституции.
Ответы на частые аргументы
Сборник аргументов от Женского фронта Швеции (Kvinnofronten)
💯80🔥17❤8😢5👍4
Понятие опыта активно использовалось и используется как инструмент (ре)конструирования гендерной ассиметрии. Слова опыт, опытность несут позитивные коннотации при характеристике мужчин и мужественности и часто получают негативные значения в контекстах, связанных с репрезентациями женственности. Опытность противопоставляется здесь прежде всего невинности и чистоте, атрибутируемой женщине. Патриархатная традиция предписывает женщине эти свойства как «натуральные» для «нормальной», «правильной» женственности. Опытная женщина, напротив, - это прежде нечистая, сексуально опытная, перешедшая границы, свойственные полу.
Опыт как Erlebnis, как переживание, связанное с эмоциональным, интеллектуальным и сексуальным развитием, осуществляемым самостоятельно, без руководства наставника и учителя, рассматривается как опасный для женщин, разрушающий чистоту. Особенно это заметно, если мы обратимся к контекстам обсуждения женского творчества, которое и выражает публично скрываемый и табуированный женский опыт - точнее, конечно, женские опыты. Недаром, поэтесса XVIII - начала XIX века Анна Бунина называет свою книгу «Неопытная муза» (1809), а первая женщина в России, выступавшая с позиции профеминисткого критика, Александра Зражевская в эссе «Зверинец» (1842) воспроизводит укоряющие голоса патриархатных критиков следующим образом: «Что может сочинить девушка? о каких страстях заговорит она? - всякий укажет на нее, прибавляя - видно испытала это, мало что подумала. Так говорит этот страшный зверь». Творческий опыт сопоставлялся с сексуальным, разрушающим чистоту.
Приобретать опыт самостоятельно женщине нельзя - нужен учитель, наставник, нужна передача «правильной традиции», научение опыту извне. В этой роли может выступать не только мужчина-учитель, но старшая женщина: мать, тетушка или бабушка, старуха. Одна из функций последней - это именно трансляция предания, научение опыту.
Почему пожилой женщине разрешена и даже вменена в обязанность подобная роль? Почему и в каком смысле старухам разрешается быть опытными? Почему их опыт и их опытность рассматривались патриархатной традицией как безопасные? И всегда ли это так? Может ли опыт старух представлять угрозу? Если да, то кому, в каких ситуациях и почему?
Ответы на некоторые из этих вопросов можно найти, посмотрев, какие коннотации имело понятие «старость», «женская старость» в русской культурной традиции, изначально - в крестьянской жизни, где «стариками считались те, кто утратил репродуктивную способность и полноценность, как в физиологическом, так и социально-экономическом отношении». Старики и старухи приравниваются к детям, подчеркивается их несостоятельность, асексуальность, что маркируется, например, в одежде. Асексуальность имеет и еще один аспект. Особый статус пожилой женщины в народной культуре был связан с тем, что, переходя из возраста бабы в возраст бабушки (с прекращением регул и способности к деторождению), женщина, согласно народным представлениям, «очищалась».
То есть одна из общественно значимых функций пожилой женщины - «соблюдать старинку», передавать незыблемые правила, нормы и ритуалы (социально значимый, коллективный опыт) молодому поколению и следить за исполнением норм, быть авторитетом для окружающих. Такую роль старухи, бабушки-матриарха можно видеть и в народной, и в дворянской культуре, - она репрезентирована в фольклорных ритуалах, песнях и сказках, литературных текстах и семейных воспоминаниях.
Историки культуры, описывая роль бабушек в семье, говорят о том, что «в самых разных культурах именно бабушки связывают новые поколения с прошлым, они хранительницы семейной памяти, через них реализуется важнейший элемент сохранения культуры - устная история, которая непосредственно передается от человека к человеку, живая связь ушедших поколений с грядущими». Таким образом, можно сделать вывод, что одна из культурных функций старой женщины, зафиксированная в разного типа текстах, - быть воплощением полезного, позитивного опыта.
Ирина Савкина
Бремя опыта: женская старость в современной русской женской литературе
Опыт как Erlebnis, как переживание, связанное с эмоциональным, интеллектуальным и сексуальным развитием, осуществляемым самостоятельно, без руководства наставника и учителя, рассматривается как опасный для женщин, разрушающий чистоту. Особенно это заметно, если мы обратимся к контекстам обсуждения женского творчества, которое и выражает публично скрываемый и табуированный женский опыт - точнее, конечно, женские опыты. Недаром, поэтесса XVIII - начала XIX века Анна Бунина называет свою книгу «Неопытная муза» (1809), а первая женщина в России, выступавшая с позиции профеминисткого критика, Александра Зражевская в эссе «Зверинец» (1842) воспроизводит укоряющие голоса патриархатных критиков следующим образом: «Что может сочинить девушка? о каких страстях заговорит она? - всякий укажет на нее, прибавляя - видно испытала это, мало что подумала. Так говорит этот страшный зверь». Творческий опыт сопоставлялся с сексуальным, разрушающим чистоту.
Приобретать опыт самостоятельно женщине нельзя - нужен учитель, наставник, нужна передача «правильной традиции», научение опыту извне. В этой роли может выступать не только мужчина-учитель, но старшая женщина: мать, тетушка или бабушка, старуха. Одна из функций последней - это именно трансляция предания, научение опыту.
Почему пожилой женщине разрешена и даже вменена в обязанность подобная роль? Почему и в каком смысле старухам разрешается быть опытными? Почему их опыт и их опытность рассматривались патриархатной традицией как безопасные? И всегда ли это так? Может ли опыт старух представлять угрозу? Если да, то кому, в каких ситуациях и почему?
Ответы на некоторые из этих вопросов можно найти, посмотрев, какие коннотации имело понятие «старость», «женская старость» в русской культурной традиции, изначально - в крестьянской жизни, где «стариками считались те, кто утратил репродуктивную способность и полноценность, как в физиологическом, так и социально-экономическом отношении». Старики и старухи приравниваются к детям, подчеркивается их несостоятельность, асексуальность, что маркируется, например, в одежде. Асексуальность имеет и еще один аспект. Особый статус пожилой женщины в народной культуре был связан с тем, что, переходя из возраста бабы в возраст бабушки (с прекращением регул и способности к деторождению), женщина, согласно народным представлениям, «очищалась».
То есть одна из общественно значимых функций пожилой женщины - «соблюдать старинку», передавать незыблемые правила, нормы и ритуалы (социально значимый, коллективный опыт) молодому поколению и следить за исполнением норм, быть авторитетом для окружающих. Такую роль старухи, бабушки-матриарха можно видеть и в народной, и в дворянской культуре, - она репрезентирована в фольклорных ритуалах, песнях и сказках, литературных текстах и семейных воспоминаниях.
Историки культуры, описывая роль бабушек в семье, говорят о том, что «в самых разных культурах именно бабушки связывают новые поколения с прошлым, они хранительницы семейной памяти, через них реализуется важнейший элемент сохранения культуры - устная история, которая непосредственно передается от человека к человеку, живая связь ушедших поколений с грядущими». Таким образом, можно сделать вывод, что одна из культурных функций старой женщины, зафиксированная в разного типа текстах, - быть воплощением полезного, позитивного опыта.
Ирина Савкина
Бремя опыта: женская старость в современной русской женской литературе
❤58👍10😢8
Я в последнее время смотрела некоторое количество относительно старых фильмов и сериалов (конкретно сейчас я пересматриваю Звездные врата SG-1), и обратила внимание на интересный троп. В ту пору было модно вводить как в основной, так и во второстепенный состав женщин не только на роли картонных объектов сексуального и романтического интереса героинь-мужчин. Повесточкой тогда это еще не называли, но какие-то зайчатки репрезентации в купе с солидной долей все еще абсолютно неприкрытого сексизма в этот период наблюдаются.
Но троп состоит собственно не в этом, а то было бы слишком банально. Неоднократно наблюдаю ситуацию, когда предпосылки надвигающегося...кхм... нехорошего явления замечает именно героиня-женщина. Она говорит, смотрите, что-то не так, что-то происходит! И ей никто не верит, брутальные мужики отмахиваются и говорят, что все это фигня, а в результате всех крошат в капусту или любой другой вариант негативного развития событий.
В фильмах-катастрофах, где не картонных героинь-женщин очень долго не показывали, эту же роль обычно исполняет какой-нибудь гениальный ученый-ботаник, который потом еще и спасает мир.
Но чем же меня заинтересовал конкретно этот троп в случае с женщинами? Тем что это очень точное наблюдение, почерпнутое из реальности. С одной стороны режиссерки-мужчины пытаются выставить таких женщин перестраховщицами. Но ведь эта наша объективная реальность - абсолютно каждая женщина с довольно раннего возраста учится смотреть по сторонам в 10 раз внимательнее любого мужчины, замечать детали, планировать и пытаться предугадать, откуда может исходить опасность. Звучит слишком сложно. Многие из тех, кто еще не прониклись системным подходом думают, что с ними этого не происходит... но правда в том, что наш мозг просто делает это автоматически, в фоновом режиме. И даже идя с наушниками днем по улице мы полностью не отключаемся от реальности.
Так что да, это на удивление реалистичный сюжетный ход - там, где мужики будут продолжать щелкать клювом и заниматься своими страшно важными мужскими делами, женщина забьет тревогу первой, по крайней мере, если ей дадут такую возможность...
(с) Злая женщина
Но троп состоит собственно не в этом, а то было бы слишком банально. Неоднократно наблюдаю ситуацию, когда предпосылки надвигающегося...кхм... нехорошего явления замечает именно героиня-женщина. Она говорит, смотрите, что-то не так, что-то происходит! И ей никто не верит, брутальные мужики отмахиваются и говорят, что все это фигня, а в результате всех крошат в капусту или любой другой вариант негативного развития событий.
В фильмах-катастрофах, где не картонных героинь-женщин очень долго не показывали, эту же роль обычно исполняет какой-нибудь гениальный ученый-ботаник, который потом еще и спасает мир.
Но чем же меня заинтересовал конкретно этот троп в случае с женщинами? Тем что это очень точное наблюдение, почерпнутое из реальности. С одной стороны режиссерки-мужчины пытаются выставить таких женщин перестраховщицами. Но ведь эта наша объективная реальность - абсолютно каждая женщина с довольно раннего возраста учится смотреть по сторонам в 10 раз внимательнее любого мужчины, замечать детали, планировать и пытаться предугадать, откуда может исходить опасность. Звучит слишком сложно. Многие из тех, кто еще не прониклись системным подходом думают, что с ними этого не происходит... но правда в том, что наш мозг просто делает это автоматически, в фоновом режиме. И даже идя с наушниками днем по улице мы полностью не отключаемся от реальности.
Так что да, это на удивление реалистичный сюжетный ход - там, где мужики будут продолжать щелкать клювом и заниматься своими страшно важными мужскими делами, женщина забьет тревогу первой, по крайней мере, если ей дадут такую возможность...
(с) Злая женщина
❤86💯68👍23
Представим, что всё необходимое для нормального функционирования домашнего хозяйства — это 100%, из которых 50% приходится на планирование различных дел заранее, а другие 50% — на выполнение того, что было запланировано. На самом деле, когда мы говорим, что сейчас домашние обязанности, как правило, распределяются между супругами, мы имеем в виду эти вторые 50%, иначе говоря, выполнение различных дел: то есть 25% берет на себя один супруг, а другие 25% — другой. Первые же 50%, которые состоят в планировании, в большинстве случаев по-прежнему выпадают на долю женщины. А самое худшее заключается в том, что этот труд невидим, его не замечают; он существует, но как бы «не считается». Таким образом, в конечном итоге соотношение составляет 75%, приходящиеся на женщину, и 25% — на мужчину.
Если при этом женщина еще и работает, она находится не в равных с мужчиной условиях: на практике получается, что она трудится вдвое или втрое больше, если прибавить к работе ведение домашнего хозяйства или заботу о детях.
Большинство женщин хорошо знают, что способны заниматься несколькими делами одновременно: да, мы умеем делать так, чтобы всё было правильно и вовремя. Однако истина заключается в том, что в некоторые моменты мы не справляемся с такой многозадачностью. Нам не хватает времени в сутках, приходится выцарапывать недостающие часы из отдыха (иногда ночного) или жертвовать социальной жизнью, досугом, уходом за собой. В целом мы отлично себя чувствуем, будучи компетентными и независимыми профессионалами, хорошими женами, матерями или хозяйками безупречного дома, и наше окружение нас поощряет. Мы — усовершенствованная версия домашней женщины, или, оперируя более современной терминологией, супервумен. Но в один прекрасный день силы иссякают, возникают сомнения, наступает опустошенность, потому что мы больше не можем существовать в подобном режиме. Одна из главных проблем — постоянное давление груза ответственности, которое может нанести серьезный удар нашему физическому и психическому здоровью.
Если при этом женщина еще и работает, она находится не в равных с мужчиной условиях: на практике получается, что она трудится вдвое или втрое больше, если прибавить к работе ведение домашнего хозяйства или заботу о детях.
Большинство женщин хорошо знают, что способны заниматься несколькими делами одновременно: да, мы умеем делать так, чтобы всё было правильно и вовремя. Однако истина заключается в том, что в некоторые моменты мы не справляемся с такой многозадачностью. Нам не хватает времени в сутках, приходится выцарапывать недостающие часы из отдыха (иногда ночного) или жертвовать социальной жизнью, досугом, уходом за собой. В целом мы отлично себя чувствуем, будучи компетентными и независимыми профессионалами, хорошими женами, матерями или хозяйками безупречного дома, и наше окружение нас поощряет. Мы — усовершенствованная версия домашней женщины, или, оперируя более современной терминологией, супервумен. Но в один прекрасный день силы иссякают, возникают сомнения, наступает опустошенность, потому что мы больше не можем существовать в подобном режиме. Одна из главных проблем — постоянное давление груза ответственности, которое может нанести серьезный удар нашему физическому и психическому здоровью.
💯44❤34😢7👍5🔥1
В тот день, когда я осознала свой груз ответственности, я наконец увидела реальность, которая меня окружала. Забавно, что как раз в это время я получила следующий текст по WhatsApp:
«Мама и папа смотрели телевизор, как вдруг мама сказала: "Я устала, уже поздно, пойду спать". Замочила фасоль, вытащила из морозилки мясо для завтрашнего ужина, проверила, хватит ли мюсли на завтрак, насыпала сахар в сахарницу, расставила на столе тарелки на утро, положила возле каждой ложку, заправила кофемашину. Повесила мокрые вещи на сушилку и пришила оторванную пуговицу. Собрала игрушки, разбросанные по всей гостиной, поставила телефон на зарядку. Полила цветы, вставила новый пакет для мусора и поправила смятое полотенце. Вздохнула, потянулась и отправилась в спальню. На минутку остановилась, чтобы написать сообщение учительнице, положила деньги ребенку на завтрашнюю экскурсию и достала из-под стула упавшую книжку. Потом умылась, намазала лицо кремом и почистила зубы.
— Разве ты не пошла спать? — крикнул папа.
— Иду, — ответила мама.
Почистив зубы, она подлила воды собаке в миску. Заперла на ключ входную дверь и погасила свет в коридоре. Заглянула к детям, выключила у них свет и телевизор, подобрала с пола рубашку и носки и отнесла их в корзину для грязного белья. Поговорила со старшим сыном, который всё еще делал уроки. Добравшись до спальни, поставила будильник, приготовила вещи на следующее утро, привела в порядок обувь в прихожей и добавила три пункта в список срочных дел.
В этот момент папа выключил телевизор и сказал: "Я пошел спать". И, действительно, недолго думая отправился в спальню. В общем, ничего особенного. Почему же женщины живут дольше? Потому что не могут уйти раньше времени: у них слишком много дел»
Саманта Вильяр, Сара Брун
Как жить, когда "все на тебе". Делим груз ответственности между мужчиной и женщиной
«Мама и папа смотрели телевизор, как вдруг мама сказала: "Я устала, уже поздно, пойду спать". Замочила фасоль, вытащила из морозилки мясо для завтрашнего ужина, проверила, хватит ли мюсли на завтрак, насыпала сахар в сахарницу, расставила на столе тарелки на утро, положила возле каждой ложку, заправила кофемашину. Повесила мокрые вещи на сушилку и пришила оторванную пуговицу. Собрала игрушки, разбросанные по всей гостиной, поставила телефон на зарядку. Полила цветы, вставила новый пакет для мусора и поправила смятое полотенце. Вздохнула, потянулась и отправилась в спальню. На минутку остановилась, чтобы написать сообщение учительнице, положила деньги ребенку на завтрашнюю экскурсию и достала из-под стула упавшую книжку. Потом умылась, намазала лицо кремом и почистила зубы.
— Разве ты не пошла спать? — крикнул папа.
— Иду, — ответила мама.
Почистив зубы, она подлила воды собаке в миску. Заперла на ключ входную дверь и погасила свет в коридоре. Заглянула к детям, выключила у них свет и телевизор, подобрала с пола рубашку и носки и отнесла их в корзину для грязного белья. Поговорила со старшим сыном, который всё еще делал уроки. Добравшись до спальни, поставила будильник, приготовила вещи на следующее утро, привела в порядок обувь в прихожей и добавила три пункта в список срочных дел.
В этот момент папа выключил телевизор и сказал: "Я пошел спать". И, действительно, недолго думая отправился в спальню. В общем, ничего особенного. Почему же женщины живут дольше? Потому что не могут уйти раньше времени: у них слишком много дел»
Саманта Вильяр, Сара Брун
Как жить, когда "все на тебе". Делим груз ответственности между мужчиной и женщиной
💯141😢43👍11❤1
Большинство мужчин не насилуют, но они увековечивают и защищают мужское превосходство, без чего изнасилования случались бы редко, или их бы вообще не существовало.
Большинство мужчин не насилуют, хотя они обеспечивают процветание мульти-миллионной порнографической индустрии и повсеместной сексуальной объективизации женщин; изнасилование тривиализируется, романтизируется, продвигается в фильмах, музыке, сми, академических сообществах и издательствах. Они уверяют мужчин, которые насилуют, в том, что им нечего бояться, потому что женщины, которые нанесут вред насильнику или убьют его, отправляются в тюрьмы или психиатрические больницы.
Большинство мужчин не насилуют, хотя исторически они отказывали женщинам в базовых гражданских правах, не допускали их до власти, стирали их значимость в языке и речи, издавали законы, по которым женщинам приходилось носить сковывающую движения одежду, фактически узаконили женское рабство, дали статус научной теории утверждениям о женской второсортности. Всё это равняется метафорическому изнасилованию женщин мужчинами и создаёт идеальную почву для физического насилия.
Большинство мужчин не насилуют физически. Если бы они этим занимались, социальный механизм, стоящий за изнасилованиями, дал бы сбой, потому что женщины, скорее всего, окончательно перестали бы доверять мужчинам. Женщины перестали бы сотрудничать с сексистской идеологией и стали бы идентифицировать мужчину как врага. Они начали бы эффективно и целенаправленно давать мужчинам отпор.
Большинство мужчин не хочет насиловать, но им выгодно, чтобы система насилия оставалась на месте, урегулированная и функционирующая. Естественный отбор, который основывается на соревновании между самцами, не имеет никакого отношения к войне мужчин против женщин. Естественный отбор не является причиной узаконенного насилия над женщинами. "Мужского превосходства" не существует. Все дело в выгоде насилия над противоположным полом: классовая власть, доступ к женским телам, гарантия своего превосходства. Основанный на насилии социальный контекст дает им право на сексуальное доминирование и владение женщинами, которые им нравятся.
Adriene Sere
Men and the History of Rape
Большинство мужчин не насилуют, хотя они обеспечивают процветание мульти-миллионной порнографической индустрии и повсеместной сексуальной объективизации женщин; изнасилование тривиализируется, романтизируется, продвигается в фильмах, музыке, сми, академических сообществах и издательствах. Они уверяют мужчин, которые насилуют, в том, что им нечего бояться, потому что женщины, которые нанесут вред насильнику или убьют его, отправляются в тюрьмы или психиатрические больницы.
Большинство мужчин не насилуют, хотя исторически они отказывали женщинам в базовых гражданских правах, не допускали их до власти, стирали их значимость в языке и речи, издавали законы, по которым женщинам приходилось носить сковывающую движения одежду, фактически узаконили женское рабство, дали статус научной теории утверждениям о женской второсортности. Всё это равняется метафорическому изнасилованию женщин мужчинами и создаёт идеальную почву для физического насилия.
Большинство мужчин не насилуют физически. Если бы они этим занимались, социальный механизм, стоящий за изнасилованиями, дал бы сбой, потому что женщины, скорее всего, окончательно перестали бы доверять мужчинам. Женщины перестали бы сотрудничать с сексистской идеологией и стали бы идентифицировать мужчину как врага. Они начали бы эффективно и целенаправленно давать мужчинам отпор.
Большинство мужчин не хочет насиловать, но им выгодно, чтобы система насилия оставалась на месте, урегулированная и функционирующая. Естественный отбор, который основывается на соревновании между самцами, не имеет никакого отношения к войне мужчин против женщин. Естественный отбор не является причиной узаконенного насилия над женщинами. "Мужского превосходства" не существует. Все дело в выгоде насилия над противоположным полом: классовая власть, доступ к женским телам, гарантия своего превосходства. Основанный на насилии социальный контекст дает им право на сексуальное доминирование и владение женщинами, которые им нравятся.
Adriene Sere
Men and the History of Rape
💯84❤49🔥14😢13👍2
Терапевтический поворот в англо-американском, а затем и в постсоветском обществе, можно охарактеризовать как культурный сдвиг, когда терапевтический способ мышления расширяет свое влияние за пределы отношений между психотерапевтом и клиентом, определяя общественные взгляды и мнения по вопросам, выходящим за рамки психотерапии.
<...>
Академические исследования терапевтического поворота основываются на анализе эмоциональной культуры, экономического и политического этоса, а также феминистской критики. Фрэнк Фуреди с позиций эмоцио-нальной культуры анализирует терапевтический нарратив как инструмент, с помощью которого государство может контролировать личность, воздействуя на ее эмоции. Вопреки распространенному тезису, что терапев-тическая культура помогает лучше понять свои эмоции, в действительности она внедряет новый вид конформизма, насаждая чувства бессилия и уязвимости. Индивиды приучаются воспринимать себя как уязвимых субъектов, нуждающихся в профессиональной помощи на постоянной основе, что приводит к медикализации повседневности.
Также терапевтическая культура подвергается критике за утверждение, что человек может и должен полностью контролировать свои эмоциональные состояния и реакции. Кроме того, исследователи указывают на то, что, возлагая всю ответственность за эмоциональное состояние на индивида, она способствует его отдалению от традиционных сетей поддержки, таких как семья и друзья. Ева Иллуз вводит понятие эмоционального капитализма и обращает внимание на то, что в современном обществе обществе экономические отношения обогащаются эмоциональным измерением, а интимные отношения, в свою очередь, начинают интерпретироваться через призму рыночной логики.
Исследователи, изучающие терапевтическую культуру с экономической точки зрения, сходятся во мнении, что ее постулаты используются для морального обоснования неолиберализма. Роберт Фостер подвергает критике концепцию «этики аутентичности» – сформулированного Чарльзом Тэйлором морального идеала эпохи модерна, отделяющего благородные формы индивидуализма (самореализацию) от испорченных (нарциссизма). Согласно Фостеру, этика аутентичности, зарожденная терапевтической культурой, это инструмент, служащий продвижению неолиберальной рациональности. Микки МакГи, исследуя феномен самопомощи, указывает на то, что культура преображения (makeover culture, социокультурная парадигма, которая продвигает постоянное изменение, улучшение, омоложение с целью стать «лучшей версией себя») порождает ситуацию, в которой люди вынуждены неустанно работать над собой, постоянно адаптируясь к новым экономическим условиям и требованиям рынка. Суви Салменниеми и Мария Адамсон отмечают, что популярная психология, неолиберальный капитализм и постфеминизм тесно взаимосвязаны, и что все они поощряют индивидуальную ответственность и самосовершенствование.
<...>
В рамках позднего капитализма терапевтический дискурс самопомощи становится политическим инструментом, акцентирующим внимание на личной ответственности, при этом критика социально-экономических барьеров остается за пределами основного фокуса. Это приводит к тому, что неспособность решать «личные проблемы», такие как безработица или депрессия, трактуется как результат индивидуальных неудач, в то время как фактор системного угнетения остается невидимым.
Анастасия Андреева
Взросление в терапевтической культуре: самоконтроль и самопознание как основа новой культурной модели
<...>
Академические исследования терапевтического поворота основываются на анализе эмоциональной культуры, экономического и политического этоса, а также феминистской критики. Фрэнк Фуреди с позиций эмоцио-нальной культуры анализирует терапевтический нарратив как инструмент, с помощью которого государство может контролировать личность, воздействуя на ее эмоции. Вопреки распространенному тезису, что терапев-тическая культура помогает лучше понять свои эмоции, в действительности она внедряет новый вид конформизма, насаждая чувства бессилия и уязвимости. Индивиды приучаются воспринимать себя как уязвимых субъектов, нуждающихся в профессиональной помощи на постоянной основе, что приводит к медикализации повседневности.
Также терапевтическая культура подвергается критике за утверждение, что человек может и должен полностью контролировать свои эмоциональные состояния и реакции. Кроме того, исследователи указывают на то, что, возлагая всю ответственность за эмоциональное состояние на индивида, она способствует его отдалению от традиционных сетей поддержки, таких как семья и друзья. Ева Иллуз вводит понятие эмоционального капитализма и обращает внимание на то, что в современном обществе обществе экономические отношения обогащаются эмоциональным измерением, а интимные отношения, в свою очередь, начинают интерпретироваться через призму рыночной логики.
Исследователи, изучающие терапевтическую культуру с экономической точки зрения, сходятся во мнении, что ее постулаты используются для морального обоснования неолиберализма. Роберт Фостер подвергает критике концепцию «этики аутентичности» – сформулированного Чарльзом Тэйлором морального идеала эпохи модерна, отделяющего благородные формы индивидуализма (самореализацию) от испорченных (нарциссизма). Согласно Фостеру, этика аутентичности, зарожденная терапевтической культурой, это инструмент, служащий продвижению неолиберальной рациональности. Микки МакГи, исследуя феномен самопомощи, указывает на то, что культура преображения (makeover culture, социокультурная парадигма, которая продвигает постоянное изменение, улучшение, омоложение с целью стать «лучшей версией себя») порождает ситуацию, в которой люди вынуждены неустанно работать над собой, постоянно адаптируясь к новым экономическим условиям и требованиям рынка. Суви Салменниеми и Мария Адамсон отмечают, что популярная психология, неолиберальный капитализм и постфеминизм тесно взаимосвязаны, и что все они поощряют индивидуальную ответственность и самосовершенствование.
<...>
В рамках позднего капитализма терапевтический дискурс самопомощи становится политическим инструментом, акцентирующим внимание на личной ответственности, при этом критика социально-экономических барьеров остается за пределами основного фокуса. Это приводит к тому, что неспособность решать «личные проблемы», такие как безработица или депрессия, трактуется как результат индивидуальных неудач, в то время как фактор системного угнетения остается невидимым.
Анастасия Андреева
Взросление в терапевтической культуре: самоконтроль и самопознание как основа новой культурной модели
💯48🔥15👍5❤2
Хотя Маркс и считал воспроизводство рабочей силы важным для социального воспроизводства, он не дал полного объяснения, что предполагает такое воспроизводство. Лиз Фогель считает, что три процесса составляют воспроизводство рабочей силы в классовых обществах:
1. различный повседневный труд по восстановлению непосредственных производителей, который позволяет им вернуться на работу;
2. похожий труд, направленный на неработающих членов угнетенного класса — детей, стариков, больных и людей, которые не работают по другим причинам;
3. труд по замене тех людей угнетенного класса, которые по какой-либо причине больше не работают
«Капитализм также зависит от домашнего труда»
Теория социального воспроизводства критически важна для понимания некоторых ключевых особенностей системы:
1. Единство социально-экономического целого. Несомненно, что в любом капиталистическом обществе большая часть людей существует за счет сочетания наемного труда и неоплачиваемого домашнего труда для поддержания себя и своего домохозяйства. Очень важно понимать эти два вида труда как часть одного целого.
2. Противоречие между накоплением капитала и социальным воспроизводством. Власть капитализма над социальным воспроизводством не абсолютна. Социальное воспроизводство создает существенную составляющую производства — человека. Но настоящие практики воспроизводства жизни развиваются и разворачиваются в противоречии с производством. Капиталисты хотят извлечь из рабочего как можно больше труда, но рабочие хотят получить как можно больше заработной платы и льгот, которые завтра позволят ей или ему воспроизводить — саму/самого себя и своих детей.
3. Боссы заинтересованы в социальном воспроизводстве. Социальное воспроизводство не нужно понимать только как одинокую домохозяйку, которая убирает и готовит еду, чтобы ее муж-рабочий мог свежим ходить на работу каждое утро. Работодатель вкладывается в тонкости того, как и в какой степени каждый работник будет «социально воспроизведен». Важны не только еда, одежда и готовность стоять каждое утро у ворот капитала, но и все — от образования, «языковых способностей», «общего состояния здоровья» до «даже предрасположенности к труду», что определяют качество доступной рабочей силы.
Вот почему нам нужно углубить наше понимание социального воспроизводства, которое осуществляется тремя взаимосвязанными способами:
1. неоплачиваемый труд в семье, который все чаще выполняют и женщины, и мужчины;
2. государственные услуги, которые несколько покрывают неоплачиваемый труд в семье;
3. услуги, которые продают на рынке, чтобы получить прибыль
Титхи Бхаттачарья
Гендерное насилие в эпоху неолиберализма
1. различный повседневный труд по восстановлению непосредственных производителей, который позволяет им вернуться на работу;
2. похожий труд, направленный на неработающих членов угнетенного класса — детей, стариков, больных и людей, которые не работают по другим причинам;
3. труд по замене тех людей угнетенного класса, которые по какой-либо причине больше не работают
«Капитализм также зависит от домашнего труда»
Теория социального воспроизводства критически важна для понимания некоторых ключевых особенностей системы:
1. Единство социально-экономического целого. Несомненно, что в любом капиталистическом обществе большая часть людей существует за счет сочетания наемного труда и неоплачиваемого домашнего труда для поддержания себя и своего домохозяйства. Очень важно понимать эти два вида труда как часть одного целого.
2. Противоречие между накоплением капитала и социальным воспроизводством. Власть капитализма над социальным воспроизводством не абсолютна. Социальное воспроизводство создает существенную составляющую производства — человека. Но настоящие практики воспроизводства жизни развиваются и разворачиваются в противоречии с производством. Капиталисты хотят извлечь из рабочего как можно больше труда, но рабочие хотят получить как можно больше заработной платы и льгот, которые завтра позволят ей или ему воспроизводить — саму/самого себя и своих детей.
3. Боссы заинтересованы в социальном воспроизводстве. Социальное воспроизводство не нужно понимать только как одинокую домохозяйку, которая убирает и готовит еду, чтобы ее муж-рабочий мог свежим ходить на работу каждое утро. Работодатель вкладывается в тонкости того, как и в какой степени каждый работник будет «социально воспроизведен». Важны не только еда, одежда и готовность стоять каждое утро у ворот капитала, но и все — от образования, «языковых способностей», «общего состояния здоровья» до «даже предрасположенности к труду», что определяют качество доступной рабочей силы.
Вот почему нам нужно углубить наше понимание социального воспроизводства, которое осуществляется тремя взаимосвязанными способами:
1. неоплачиваемый труд в семье, который все чаще выполняют и женщины, и мужчины;
2. государственные услуги, которые несколько покрывают неоплачиваемый труд в семье;
3. услуги, которые продают на рынке, чтобы получить прибыль
Титхи Бхаттачарья
Гендерное насилие в эпоху неолиберализма
👍47❤2
Хотя реальные женские движения начались в Афганистане только в послевоенный период, первые ростки либерализации появились уже при эмирах Хабибулле и Аманулле. Так же как в Египте, Персии и Османской империи, те давние реформы заключались во введении европейских «цивилизационных» норм и «включали в себя прием женщин и девочек в образовательные учреждения, их появление на публике и некоторые правовые вопросы» — например, права наследования и владения имуществом. Семейный кодекс 1921 года обуздал такие явления, как многоженство, принудительные браки и оставление супруги. В то же десятилетие в Кабуле открывались школы для девочек, афганок стали посылать на учебу за границу — в Турцию. Разумеется, не заставил себя ждать и протест против предательства «истинных» исламских ценностей: во время крупного восстания в Хосте в 1924 году муллы разъезжали по региону, «размахивая Кораном и Низамнаме (Конституцией), и предлагали правоверным выбирать между ними». Религиозные авторитеты не считали кабульских руководителей благочестивыми людьми: те женились на иностранках, а это воспринималось как вопиющее нарушение пуштунских традиций.
Переворот 1929 года прервал политику реформ. Правовые преобразования были отменены. Большинство афганских женщин лишились возможности выбирать себе мужа; девочки перестали получать образование; мужчин и женщин снова строго разделяли в общественных местах. Однако некоторый след реформ оставался, поскольку афганцы, имевшие жен-иностранок, — например, женатый на русской министр экономики Абдул Маджид Забули, — стремились к постепенной модернизации. Американцы, европейцы и японцы учреждали школы, предваряя открытие государственных женских школ в 1943 году. В 1946 году мадам Асэн, француженка, вышедшая замуж за афганца, основала первую афганскую женскую ассоциацию «Да Мирмане Тулане» (ДМТ, «Женское общество» по-пуштунски). Этой организации оказывал покровительство Забули, а в 1947 году правительство потратило на нее половину годового бюджета. Официальной патронессой ДМТ стала супруга Захир-шаха королева Хумайра Бегум, а сотрудницами — жены парламентариев.
ДМТ ставила перед собой скромные цели. Организация обучала шитью и акушерству, нанимала женщин для пошива одежды и производства других полезных вещей для солдат и бедных детей, а также учила грамоте и предлагала пройти образовательный курс, состоящий «из чтения Корана, истории, географии, письма, математики и пуштунского языка». Наконец, она располагала библиотекой, насчитывавшей свыше двух тысяч книг, и устраивала кинопросмотры. В 1950‐х годах ДМТ стала составной частью реформистской политики Захир-шаха. В эти годы Кабул осуществлял программы ВОЗ по охране материнства, допускал женщин к работе в библиотеках, банках и авиационных компаниях, причем условием приема на государственную службу было отсутствие паранджи. Однако фактически вне дома работало ничтожно малое количество афганок; ДМТ являлась скорее рекламным инструментом правительства. Снявших паранджу «современных» афганских женщин показывали иностранным делегациям, наглядно демонстрируя прогрессивность страны и стимулируя приток иностранной помощи.
<...>
Переворот 1929 года прервал политику реформ. Правовые преобразования были отменены. Большинство афганских женщин лишились возможности выбирать себе мужа; девочки перестали получать образование; мужчин и женщин снова строго разделяли в общественных местах. Однако некоторый след реформ оставался, поскольку афганцы, имевшие жен-иностранок, — например, женатый на русской министр экономики Абдул Маджид Забули, — стремились к постепенной модернизации. Американцы, европейцы и японцы учреждали школы, предваряя открытие государственных женских школ в 1943 году. В 1946 году мадам Асэн, француженка, вышедшая замуж за афганца, основала первую афганскую женскую ассоциацию «Да Мирмане Тулане» (ДМТ, «Женское общество» по-пуштунски). Этой организации оказывал покровительство Забули, а в 1947 году правительство потратило на нее половину годового бюджета. Официальной патронессой ДМТ стала супруга Захир-шаха королева Хумайра Бегум, а сотрудницами — жены парламентариев.
ДМТ ставила перед собой скромные цели. Организация обучала шитью и акушерству, нанимала женщин для пошива одежды и производства других полезных вещей для солдат и бедных детей, а также учила грамоте и предлагала пройти образовательный курс, состоящий «из чтения Корана, истории, географии, письма, математики и пуштунского языка». Наконец, она располагала библиотекой, насчитывавшей свыше двух тысяч книг, и устраивала кинопросмотры. В 1950‐х годах ДМТ стала составной частью реформистской политики Захир-шаха. В эти годы Кабул осуществлял программы ВОЗ по охране материнства, допускал женщин к работе в библиотеках, банках и авиационных компаниях, причем условием приема на государственную службу было отсутствие паранджи. Однако фактически вне дома работало ничтожно малое количество афганок; ДМТ являлась скорее рекламным инструментом правительства. Снявших паранджу «современных» афганских женщин показывали иностранным делегациям, наглядно демонстрируя прогрессивность страны и стимулируя приток иностранной помощи.
<...>
❤34👍4
Вскоре афганские коммунисты учредили свои организации левых феминисток. В 1965 году была создана Демократическая организация женщин Афганистана (ДОЖА); ее первая политическая программа включала требование равных прав для мужчин и женщин независимо от их социального положения или этнического происхождения. В уставе говорилось, что членами организации могут быть женщины-работницы, труженицы села, представительницы интеллигенции, домохозяйки и другие. Разумеется, как и сама Народно-демократическая партия, ДОЖА не была массовой организацией: в момент ее основания в ней состояло всего семь человек. Но вскоре она бросила вызов устоям традиционного общества. ДОЖА исподволь набирала сторонниц среди членов ДМТ, побуждая последних обсуждать «реальные причины притеснения женщин». Руководство ДМТ устраивал долгий и постепенный переход к эмансипации; в отличие от них, ДОЖА рассматривала освобождение как часть борьбы против капиталистического господства. К 1978 году в рядах Демократической организации состояло уже две тысячи членов, не считая еще двух с половиной тысяч сочувствующих. Ее руководительница гордо заявляла, что «в середине семидесятых почти не было города или деревни, где ДОЖА не обладала бы влиянием».
Тимоти Нунан
Гуманитарное вторжение. Глобальное развитие в Афганистане времен холодной войны
Тимоти Нунан
Гуманитарное вторжение. Глобальное развитие в Афганистане времен холодной войны
❤41👍19
Идеологические репрезентации фемининности зависят от действительных форм фемининности, но не обязательно соответствуют им. То, что женщины поддерживают, не обязательно есть то, чем они сами являются.
Здесь существует тем не менее фундаментальное различие. Все формы фемининности в обществе конструируются в контексте общего подчинения женщин мужчинам. Поэтому не существует такой формы фемининности, которая у женщин занимала бы такую позицию, какую гегемонная маскулинность занимает у мужчин.
Эта фундаментальная асимметрия имеет два основных аспекта. Во-первых, сосредоточение власти в руках мужчин предоставляет женщинам ограниченные возможности для конструирования институционализированных отношений власти над другими женщинами. Это происходит в условиях взаимодействия лицом-к-лицу, особенно в отношениях между матерью и дочерью. Институционализированные иерархии власти также существовали в определенных социальных условиях типа женских школ, описанных в книгах «Девочка в форме» и «Заморозки в мае». Но в этих отношениях отсутствует нотка доминирования, которая так громко звучит в отношениях между разными типами маскулинности. Характерным признаком этого феномена является то, что среди женщин наблюдается намного меньший уровень насилия, чем среди мужчин. Во-вторых, в социальном конструировании фемининности отсутствует организация гегемонной формы вокруг доминирования над другим полом. Власть, авторитет, агрессия, технология не тематизируются в фемининности в той мере, в какой они тематизируются в маскулинности. Столь же важно, что в случае фемининности не осуществляется такого подавления других ее форм, с каким мы сталкиваемся в случае подавления гегемонной маскулинностью других форм маскулинности. Поэтому, вероятно, в нашем обществе существует значительно большее разнообразие форм фемининности, чем форм маскулинности.
Структура доминирования, без которой невозможно конструирование фемининности, – это глобальное доминирование мужчин-гетеросексуалов. Этот процесс с большой вероятностью поляризуется вокруг согласия с этим доминированием или сопротивления ему.
Рэйвин Коннелл
Гендер и власть. Общество, личность и гендерная политика
Здесь существует тем не менее фундаментальное различие. Все формы фемининности в обществе конструируются в контексте общего подчинения женщин мужчинам. Поэтому не существует такой формы фемининности, которая у женщин занимала бы такую позицию, какую гегемонная маскулинность занимает у мужчин.
Эта фундаментальная асимметрия имеет два основных аспекта. Во-первых, сосредоточение власти в руках мужчин предоставляет женщинам ограниченные возможности для конструирования институционализированных отношений власти над другими женщинами. Это происходит в условиях взаимодействия лицом-к-лицу, особенно в отношениях между матерью и дочерью. Институционализированные иерархии власти также существовали в определенных социальных условиях типа женских школ, описанных в книгах «Девочка в форме» и «Заморозки в мае». Но в этих отношениях отсутствует нотка доминирования, которая так громко звучит в отношениях между разными типами маскулинности. Характерным признаком этого феномена является то, что среди женщин наблюдается намного меньший уровень насилия, чем среди мужчин. Во-вторых, в социальном конструировании фемининности отсутствует организация гегемонной формы вокруг доминирования над другим полом. Власть, авторитет, агрессия, технология не тематизируются в фемининности в той мере, в какой они тематизируются в маскулинности. Столь же важно, что в случае фемининности не осуществляется такого подавления других ее форм, с каким мы сталкиваемся в случае подавления гегемонной маскулинностью других форм маскулинности. Поэтому, вероятно, в нашем обществе существует значительно большее разнообразие форм фемининности, чем форм маскулинности.
Структура доминирования, без которой невозможно конструирование фемининности, – это глобальное доминирование мужчин-гетеросексуалов. Этот процесс с большой вероятностью поляризуется вокруг согласия с этим доминированием или сопротивления ему.
Рэйвин Коннелл
Гендер и власть. Общество, личность и гендерная политика
🔥29💯17👍9❤1
Невозможно оценить, насколько сильно влияют на жизнь человека жирофобия и фэт-шейминг, только на основании его внешности (тучный он или худой). Очень худые люди могут страдать от недоедания или морить себя голодом; люди «обычного» размера, вполне возможно, сидят на жесткой диете, сопровождающейся скачками веса, мучают себя физическими упражнениями, страдают от компульсивного переедания с последующей чисткой и прочих расстройств пищевого поведения, потому что недовольны размерами своего тела и считают, что они «недостаточно худые» и не соответствуют доминирующим нормативным идеалам. Люди, которые воспринимаются другими как «стройные» или «обычные», в том числе и те, кто раньше был полнее, но потом сбросил вес, возможно, также сталкиваются с подобными трудностями. Как показали исследования людей с расстройствами пищевого поведения, они часто страдают из-за отвращения к себе и стыда за свое тело, считая себя «толстыми», хотя на самом деле могут быть очень худыми.
Кроме того, политика жира не должна ограничиваться борьбой только с тем, как в обществе относятся к тучным людям. Не только тучные люди являются мишенью дискурсов ожирения. Как уже говорилось в главе 3, матери маленьких детей также оказываются под давлением морализирующих и навязывающих чувство вины императивов политики борьбы с ожирением, здравоохранительных кампаний и массмедиа, обсуждающих «проблему детского ожирения». Купер [Cooper, 2010] утверждает, что взгляды и опыт самих тучных людей зачастую не представлены в академических исследованиях на тему тучности/ожирения. Я считаю, что голоса матерей маленьких детей также редко привлекают внимание исследователей, за исключением тех случаев, когда исследователи хотят выяснить, насколько прилежно матери выполняют рекомендации по контролю над весом их детей. Независимо от того, являются ли эти женщины сами тучными, им вменяется в обязанность принимать меры по предотвращению (или устранению) ожирения у их детей – и это очень эмоционально и морально нагруженная задача. Я знакома с этим не понаслышке, поскольку я мать двух дочерей, пытающаяся совместить свои собственные феминистские и этические принципы с заботой об их физическом и эмоциональном благополучии.
Мать, заботящаяся о своих детях и обеспокоенная контролем над их весом, сталкивается с рядом сложных этических вопросов. Как обеспечить здоровье детей, не внушив им попутно страх перед жиром и ненависть к собственному телу, если оно не соответствует идеалу худощавой телесности? Что делать с сопротивлением со стороны детей, которые отказываются есть здоровую пищу и выполнять необходимые упражнения? Что делать, если твой ребенок считает себя «слишком толстым»? Должны ли матери тучных детей поощрять своих отпрысков «гордиться своей тучностью», как то предписывает фэт-активизм, и оставить попытки заставить их похудеть, тем самым пойдя наперекор неолиберальным представлениям о «хорошей матери»? Таковы непростые вопросы, с которыми вынуждена иметь дело семья с маленькими детьми или детьми-подростками в контексте усиливающего общественного дискурса о «кризисе детского ожирения» и возлагаемой на матерей ответственности за обеспечение идеального здоровья и всестороннего развития их детей.
Дебора Лаптон
Жирные
Кроме того, политика жира не должна ограничиваться борьбой только с тем, как в обществе относятся к тучным людям. Не только тучные люди являются мишенью дискурсов ожирения. Как уже говорилось в главе 3, матери маленьких детей также оказываются под давлением морализирующих и навязывающих чувство вины императивов политики борьбы с ожирением, здравоохранительных кампаний и массмедиа, обсуждающих «проблему детского ожирения». Купер [Cooper, 2010] утверждает, что взгляды и опыт самих тучных людей зачастую не представлены в академических исследованиях на тему тучности/ожирения. Я считаю, что голоса матерей маленьких детей также редко привлекают внимание исследователей, за исключением тех случаев, когда исследователи хотят выяснить, насколько прилежно матери выполняют рекомендации по контролю над весом их детей. Независимо от того, являются ли эти женщины сами тучными, им вменяется в обязанность принимать меры по предотвращению (или устранению) ожирения у их детей – и это очень эмоционально и морально нагруженная задача. Я знакома с этим не понаслышке, поскольку я мать двух дочерей, пытающаяся совместить свои собственные феминистские и этические принципы с заботой об их физическом и эмоциональном благополучии.
Мать, заботящаяся о своих детях и обеспокоенная контролем над их весом, сталкивается с рядом сложных этических вопросов. Как обеспечить здоровье детей, не внушив им попутно страх перед жиром и ненависть к собственному телу, если оно не соответствует идеалу худощавой телесности? Что делать с сопротивлением со стороны детей, которые отказываются есть здоровую пищу и выполнять необходимые упражнения? Что делать, если твой ребенок считает себя «слишком толстым»? Должны ли матери тучных детей поощрять своих отпрысков «гордиться своей тучностью», как то предписывает фэт-активизм, и оставить попытки заставить их похудеть, тем самым пойдя наперекор неолиберальным представлениям о «хорошей матери»? Таковы непростые вопросы, с которыми вынуждена иметь дело семья с маленькими детьми или детьми-подростками в контексте усиливающего общественного дискурса о «кризисе детского ожирения» и возлагаемой на матерей ответственности за обеспечение идеального здоровья и всестороннего развития их детей.
Дебора Лаптон
Жирные
😢69💯22👍2