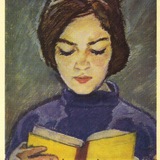Эмоциональные нормы меняются со временем и различаются от группы к группе
Если бы эмоциональные нормы устанавливались по воле природы или по воле Бога, то можно было бы надеяться на то, что они останутся неизменными. Однако, поскольку мы – человеческие создания, представления о «приемлемых чувствах» меняются то быстро, то медленно.
Легко представить, как могли бы измениться ожидания относительно подавления чувств в моем церковном приходе. Если добавить к этому появление нового священника и нового капельмейстера или появление новых требований в связи с демографическими изменениями в приходской общине, то, возможно, церковь могла бы постепенно сделать свои службы более радостными и эмоционально экспрессивными. Прихожане старшего возраста при этом будут нуждаться в мягкой ресоциализации – постепенных изменениях или объяснениях, почему новый подход «лучше», а юные прихожане будут расти и думать, что церковь была такой всегда.
Возвращаясь в сферу спорта, можно сказать, что некоторые комментаторы заметили изменения эмоционального дисплея у игроков в теннис (см. примеч. 2 в конце главы). За прошедшие десятилетия для спортсменов на корте стало характерным (приемлемо, привычно и широко распространено) громко говорить самим себе такие фразы, как «Вперед!» или «Давай!», их теперь можно постоянно слышать после хорошего или плохого удара. То есть изменились социальные ожидания относительно выражений энтузиазма или фрустрации. Другие правила, такие как запрет выкриков по поводу соперника, изменяются они или нет, остаются культурными по своему происхождению. Они выглядят моральными и естественными с точки зрения определенной перспективы, но и другие представления о них также возможны. (Хорошим аргументом здесь будет, что данный «словесный мусор» оживляет теннисные матчи.) Между тем в Национальной футбольной лиге (NFL) неоднократно предпринимались усилия, чтобы установить правила, запрещающие «кричалки» болельщиков, с целью упростить ожидания относительно приемлемого поведения болельщиков после успешной игры. Некоторые виды поведения (такие как прокалывание мяча, танцы, сальто назад) могут рассматриваться как провокационные или как «неподобающие спортсмену-мужчине», особенно если эти жесты направлены в сторону команды-соперника. Каждый раз, когда Национальная футбольная лига согласовывает правила для болельщиков, можно утверждать, что правила эмоционального поведения в данном контексте трансформировались или полностью изменились.
Таким образом, эмоциональные нормы не обязательно остаются постоянными или стабильными. В рамках культуры или субкультуры правила действительно со временем могут меняться – мы можем назвать это явление _темпоральной, или исторической, вариативностью_. Более того (как я уже намекал в данной главе), эмоции также изменяются от группы к группе – это мы можем назвать _кросс-культурной вариативностью_.
Обсудим нормы аффективного поведения (affection) между новобрачными. В США обычные ожидания относительно поведения людей, вступающих в брак, заключаются в публичном выражении любви друг к другу посредством объятий, поцелуев, прикосновений, обмена подарками и клятвами. Недостаточное количество таких выражений на свадебной церемонии и в течение последующих за ней месяцев дают повод для тревоги со стороны семьи и друзей. В некоторых культурах, однако, от молодоженов ожидается гораздо более сдержанное поведение. Представьте себе общества, где традиция диктует, чтобы невеста переехала в дом своего мужа и жила вместе с родителями мужа и его братьями (и их женами). Также вообразите, что члены этой семьи заинтересованы (по социальным и экономическим причинам), чтобы их большое домохозяйство не разбивалось на части, т. е. именно в том, против чего может протестовать находящаяся под властью свекрови молодая жена. В этих условиях могут существовать сильные эмоциональные нормы против страстного выражения чувств между молодоженами, чтобы не побуждать молодого мужа проявлять большую приверженность своему браку, чем своим родственным связям.
Если бы эмоциональные нормы устанавливались по воле природы или по воле Бога, то можно было бы надеяться на то, что они останутся неизменными. Однако, поскольку мы – человеческие создания, представления о «приемлемых чувствах» меняются то быстро, то медленно.
Легко представить, как могли бы измениться ожидания относительно подавления чувств в моем церковном приходе. Если добавить к этому появление нового священника и нового капельмейстера или появление новых требований в связи с демографическими изменениями в приходской общине, то, возможно, церковь могла бы постепенно сделать свои службы более радостными и эмоционально экспрессивными. Прихожане старшего возраста при этом будут нуждаться в мягкой ресоциализации – постепенных изменениях или объяснениях, почему новый подход «лучше», а юные прихожане будут расти и думать, что церковь была такой всегда.
Возвращаясь в сферу спорта, можно сказать, что некоторые комментаторы заметили изменения эмоционального дисплея у игроков в теннис (см. примеч. 2 в конце главы). За прошедшие десятилетия для спортсменов на корте стало характерным (приемлемо, привычно и широко распространено) громко говорить самим себе такие фразы, как «Вперед!» или «Давай!», их теперь можно постоянно слышать после хорошего или плохого удара. То есть изменились социальные ожидания относительно выражений энтузиазма или фрустрации. Другие правила, такие как запрет выкриков по поводу соперника, изменяются они или нет, остаются культурными по своему происхождению. Они выглядят моральными и естественными с точки зрения определенной перспективы, но и другие представления о них также возможны. (Хорошим аргументом здесь будет, что данный «словесный мусор» оживляет теннисные матчи.) Между тем в Национальной футбольной лиге (NFL) неоднократно предпринимались усилия, чтобы установить правила, запрещающие «кричалки» болельщиков, с целью упростить ожидания относительно приемлемого поведения болельщиков после успешной игры. Некоторые виды поведения (такие как прокалывание мяча, танцы, сальто назад) могут рассматриваться как провокационные или как «неподобающие спортсмену-мужчине», особенно если эти жесты направлены в сторону команды-соперника. Каждый раз, когда Национальная футбольная лига согласовывает правила для болельщиков, можно утверждать, что правила эмоционального поведения в данном контексте трансформировались или полностью изменились.
Таким образом, эмоциональные нормы не обязательно остаются постоянными или стабильными. В рамках культуры или субкультуры правила действительно со временем могут меняться – мы можем назвать это явление _темпоральной, или исторической, вариативностью_. Более того (как я уже намекал в данной главе), эмоции также изменяются от группы к группе – это мы можем назвать _кросс-культурной вариативностью_.
Обсудим нормы аффективного поведения (affection) между новобрачными. В США обычные ожидания относительно поведения людей, вступающих в брак, заключаются в публичном выражении любви друг к другу посредством объятий, поцелуев, прикосновений, обмена подарками и клятвами. Недостаточное количество таких выражений на свадебной церемонии и в течение последующих за ней месяцев дают повод для тревоги со стороны семьи и друзей. В некоторых культурах, однако, от молодоженов ожидается гораздо более сдержанное поведение. Представьте себе общества, где традиция диктует, чтобы невеста переехала в дом своего мужа и жила вместе с родителями мужа и его братьями (и их женами). Также вообразите, что члены этой семьи заинтересованы (по социальным и экономическим причинам), чтобы их большое домохозяйство не разбивалось на части, т. е. именно в том, против чего может протестовать находящаяся под властью свекрови молодая жена. В этих условиях могут существовать сильные эмоциональные нормы против страстного выражения чувств между молодоженами, чтобы не побуждать молодого мужа проявлять большую приверженность своему браку, чем своим родственным связям.
👍32
Нормы, регулирующие проявления горя, могут также различаться в разных группах. В некоторых культурах смерть считается поводом для празднования, когда близкий человек достиг завершения своего пути и перешел в рай, в других рассматривается как глубокая печаль, разбивающая сердце. В обществах, где половина рожденных детей могла умереть, не достигнув пятилетнего возраста, от родителей не ожидалось, что они будут долго горевать о смерти своего ребенка, в отличие от обществ с низкой детской смертностью (где умирает один на сто детей). Высокий уровень смертности может привести к тому, что смерть ребенка будет рассматриваться не как «трагедия, а как предсказуемая и относительно небольшая невзгода, которая будет принята хладнокровно, со смирением, как неизбежный факт человеческого существования». Подобным образом и смерти супруга(и) не придается большого значения в тех культурах, где продолжение рода гораздо важнее частных семейных отношений
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
👍51
Группы, владеющие большей частью ресурсов (будучи большинством или по каким-либо другим причинам), имеют возможность конструировать понятие общесоциальной нормы. Явления, образы, паттерны поведения, свойственные большинству, постоянно перевоспроизводятся и попадают в поле зрения индивидов, что приводит к маркировке их как «нормальных» из-за постоянного присутствия в информационном пространстве большинства. Соответственно, отраженные в культуре нормы и общности знакомы индивидам более подробно. Такие элементы достаточно привычны, гуманизированы: индивиды в них чаще воспринимаются как отдельные и уникальные личности.
В свою очередь то, что оказывается исключено из инфополя преимущественно или целиком, воспринимается как однородное, абнормальное, нежелательное. Группы, не репрезентованные в доминирующей культуре как нормальные, стигматизируются – подвергаются своего рода «клеймлению», навешиванию ярлыков. Индивидуальные качества членов таких групп для удобства восприятия большинством упрощаются до набора предрассудков. Представитель эксклюзированной группы, в первую очередь, воспринимается именно как часть этого общего – воплощение набора ярлыков и предубеждений, с этой группой связанных. Это определенным образом влияет на поведение индивидов, относящихся к меньшинству, так как каждый отдельно взятый воспринимается доминирующей культурой как репрезентация всей эксклюзированной общности целиком, а значит и все его действия, в особенности оцениваемые обществом как негативные и порицаемые, закрепляются как свойственные всем представителям этой группы. Свою роль играет эффект предвзятости подтверждения, из-за которого в том случае, если индивид соответствует стереотипу об эксклюзированной группе, это воспринимается как подтверждение правомерности стереотипа, а если индивид не соответствует заданным ожиданиям, то его поведение и характеристики считаются исключением, подтверждающим правило.
Не имея достаточного количества ресурса, чтобы самостоятельно репрезентовать себя в доминантной культуре в качестве равноценной общности, «абнормальная» группа и ее представители становятся исключены из доминирующей культуры – эксклюзированы. Соответственно, эксклюзия – своего рода устойчивый образ мышления, воспроизводимый доминантной культурой. При этом такое положение вещей возникает естественным образом. Социальное исключение – продукт ежедневной жизнедеятельности общества и индивидов в нем. Выражение субъективного опыта членов доминантной группы постепенно становится подавляющим, институционализируется и приобретает характер нормы, вытесняя альтернативные интерпретации социальной реальности. Так как человек считает нормальным и безопасным то, что постоянно воспринимает, и считает неправильным и отталкивающим то, с чем сталкивается изредка, последнее в этом случае начинает восприниматься как девиантное.
Тертышникова А.Г., Павлова У.О., Цимбал М.В.
Социальное исключение как побочный эффект механизмов нейрообучения
В свою очередь то, что оказывается исключено из инфополя преимущественно или целиком, воспринимается как однородное, абнормальное, нежелательное. Группы, не репрезентованные в доминирующей культуре как нормальные, стигматизируются – подвергаются своего рода «клеймлению», навешиванию ярлыков. Индивидуальные качества членов таких групп для удобства восприятия большинством упрощаются до набора предрассудков. Представитель эксклюзированной группы, в первую очередь, воспринимается именно как часть этого общего – воплощение набора ярлыков и предубеждений, с этой группой связанных. Это определенным образом влияет на поведение индивидов, относящихся к меньшинству, так как каждый отдельно взятый воспринимается доминирующей культурой как репрезентация всей эксклюзированной общности целиком, а значит и все его действия, в особенности оцениваемые обществом как негативные и порицаемые, закрепляются как свойственные всем представителям этой группы. Свою роль играет эффект предвзятости подтверждения, из-за которого в том случае, если индивид соответствует стереотипу об эксклюзированной группе, это воспринимается как подтверждение правомерности стереотипа, а если индивид не соответствует заданным ожиданиям, то его поведение и характеристики считаются исключением, подтверждающим правило.
Не имея достаточного количества ресурса, чтобы самостоятельно репрезентовать себя в доминантной культуре в качестве равноценной общности, «абнормальная» группа и ее представители становятся исключены из доминирующей культуры – эксклюзированы. Соответственно, эксклюзия – своего рода устойчивый образ мышления, воспроизводимый доминантной культурой. При этом такое положение вещей возникает естественным образом. Социальное исключение – продукт ежедневной жизнедеятельности общества и индивидов в нем. Выражение субъективного опыта членов доминантной группы постепенно становится подавляющим, институционализируется и приобретает характер нормы, вытесняя альтернативные интерпретации социальной реальности. Так как человек считает нормальным и безопасным то, что постоянно воспринимает, и считает неправильным и отталкивающим то, с чем сталкивается изредка, последнее в этом случае начинает восприниматься как девиантное.
Тертышникова А.Г., Павлова У.О., Цимбал М.В.
Социальное исключение как побочный эффект механизмов нейрообучения
👍37❤9😢5
Эмоциональные нормы могут быть неоднозначными и противоречить друг другу даже в рамках одной культуры или в одинаковых условиях
Эмоциональные нормы, можно сказать, «управляют» тем, как мы чувствуем, почти в каждой ситуации. Вера в естественность или правильность наших культурных норм часто заставляет нас чувствовать себя обязанными подчиняться им и настаивать на их выполнении. Тем не менее важно осознавать, что эти правила отнюдь не являются нерушимыми, пространство для маневра при их выполнении также существует. Разногласия могут возникать даже между людьми, которые прошли социализацию в одной и той же или похожих социальных группах. Они могут происходить по причине двусмысленности или неопределенности самих норм, а также по причине личностно-индивидуальных различий, разных намерений или быть проявлением принадлежности к разнообразным субкультурам.
Например, после получения подарка в день рождения ожидается выражение благодарности. Но как много нужно выразить благодарности и в какой форме – словами, объятиями, благодарственными письмами или каким-то другим образом? В данном случае может и не быть точной формулы, но могут возникнуть различные мнения по поводу способа, которым выражается благодарность. Восторженные высказывания, такие как: «Ух ты! Какой классный подарок!», – могут быть восприняты как «достаточные» для благодарности, если даритель получает удовлетворение от этого и поскольку со стороны получателя подарка эта благодарность ожидается. С другой стороны, некоторые перфекционисты могут быть глубоко убеждены, что слово «спасибо» должно непременно прозвучать, причем более одного раза. В моей большой семье существуют разногласия относительно того, следует ли послать написанное от руки благодарственное письмо или будет достаточно письма по электронной почте или смс со словом «Спасибо!».
Разногласия не обязательно означают, что эмоциональные нормы иллюзорны, как не означают и того, что они непреложны и полностью ясны. Проведем аналогию с модными образцами. Два брата или сестры могут спорить о выборе одежды, оставаясь в поле общих культурных ожиданий. Они могут не соглашаться по поводу того, подходит ли рубашка к брюкам, и при этом разделять более общие представления относительно наготы (насколько должно быть закрыто тело), гендерных различий (какой стиль предпочесть – мужской или женский), цвета (не носить брюки серебряного цвета) и сочетаний (не совмещать одежду в полоску с вещами в горошек).
Саймон и его коллеги в своем исследовании показали разногласия девочек из средней школы относительно нормы: «Следует испытывать романтические чувства только к одному мальчику в одно и то же время». Некоторые девочки поддерживали отношения с несколькими мальчиками и даже бахвалились этим: если мальчики не пересекаются в одном месте и не знают друг о друге, то кому это навредит?! Другие девочки, однако, не соглашались с этим и подвергали критике такое поведение. По мере взросления девочек, как обнаружили исследователи, рос также и уровень общего согласия и подчинения «моногамной» норме.
Возможно даже, что отсутствует индивидуальное согласие с принятым способом переживать чувства в определенной ситуации. Когда сосед по квартире в очередной раз оставляет беспорядок на кухне, то является ли это достаточной причиной для выражения легкого раздражения, или здесь уместно открытое возмущение (anger) как реакция на несправедливость, или это повод для веселья в ответ на смехотворность ситуации? Когда на вашей машине на парковке вдруг появляется «загадочная» вмятина, приемлемо ли в данном случае громко ругаться? Плакать? Смеяться? Поскольку сначала мы реагируем и затем ретроспективно обдумываем наши реакции, то мы можем быть совсем не уверены в приемлемости наших чувств. Иногда мы считаем себя ненадежными – способными ошибаться в наших изначальных реакциях на ситуации, что ведет нас к принятию конфликтующих интерпретаций наших эмоций, нашего Я и ситуаций, в которых мы оказываемся.
Эмоциональные нормы, можно сказать, «управляют» тем, как мы чувствуем, почти в каждой ситуации. Вера в естественность или правильность наших культурных норм часто заставляет нас чувствовать себя обязанными подчиняться им и настаивать на их выполнении. Тем не менее важно осознавать, что эти правила отнюдь не являются нерушимыми, пространство для маневра при их выполнении также существует. Разногласия могут возникать даже между людьми, которые прошли социализацию в одной и той же или похожих социальных группах. Они могут происходить по причине двусмысленности или неопределенности самих норм, а также по причине личностно-индивидуальных различий, разных намерений или быть проявлением принадлежности к разнообразным субкультурам.
Например, после получения подарка в день рождения ожидается выражение благодарности. Но как много нужно выразить благодарности и в какой форме – словами, объятиями, благодарственными письмами или каким-то другим образом? В данном случае может и не быть точной формулы, но могут возникнуть различные мнения по поводу способа, которым выражается благодарность. Восторженные высказывания, такие как: «Ух ты! Какой классный подарок!», – могут быть восприняты как «достаточные» для благодарности, если даритель получает удовлетворение от этого и поскольку со стороны получателя подарка эта благодарность ожидается. С другой стороны, некоторые перфекционисты могут быть глубоко убеждены, что слово «спасибо» должно непременно прозвучать, причем более одного раза. В моей большой семье существуют разногласия относительно того, следует ли послать написанное от руки благодарственное письмо или будет достаточно письма по электронной почте или смс со словом «Спасибо!».
Разногласия не обязательно означают, что эмоциональные нормы иллюзорны, как не означают и того, что они непреложны и полностью ясны. Проведем аналогию с модными образцами. Два брата или сестры могут спорить о выборе одежды, оставаясь в поле общих культурных ожиданий. Они могут не соглашаться по поводу того, подходит ли рубашка к брюкам, и при этом разделять более общие представления относительно наготы (насколько должно быть закрыто тело), гендерных различий (какой стиль предпочесть – мужской или женский), цвета (не носить брюки серебряного цвета) и сочетаний (не совмещать одежду в полоску с вещами в горошек).
Саймон и его коллеги в своем исследовании показали разногласия девочек из средней школы относительно нормы: «Следует испытывать романтические чувства только к одному мальчику в одно и то же время». Некоторые девочки поддерживали отношения с несколькими мальчиками и даже бахвалились этим: если мальчики не пересекаются в одном месте и не знают друг о друге, то кому это навредит?! Другие девочки, однако, не соглашались с этим и подвергали критике такое поведение. По мере взросления девочек, как обнаружили исследователи, рос также и уровень общего согласия и подчинения «моногамной» норме.
Возможно даже, что отсутствует индивидуальное согласие с принятым способом переживать чувства в определенной ситуации. Когда сосед по квартире в очередной раз оставляет беспорядок на кухне, то является ли это достаточной причиной для выражения легкого раздражения, или здесь уместно открытое возмущение (anger) как реакция на несправедливость, или это повод для веселья в ответ на смехотворность ситуации? Когда на вашей машине на парковке вдруг появляется «загадочная» вмятина, приемлемо ли в данном случае громко ругаться? Плакать? Смеяться? Поскольку сначала мы реагируем и затем ретроспективно обдумываем наши реакции, то мы можем быть совсем не уверены в приемлемости наших чувств. Иногда мы считаем себя ненадежными – способными ошибаться в наших изначальных реакциях на ситуации, что ведет нас к принятию конфликтующих интерпретаций наших эмоций, нашего Я и ситуаций, в которых мы оказываемся.
❤24👍5
Двойственность в этом случае не обязательно является признаком диссоциативного расстройства личности или другой слабости. Жизнь сложна, а мы можем смотреть на нее продуктивно с разных точек зрения. Более того, многие ситуации подразумевают противоречивые требования, требуя от нас сбалансировать или гармонизировать конфликтующие эмоциональные нормы. От студента, который превосходит других на экзамене, ожидается понимание и сочувствие по отношению к хуже успевающим однокурсникам; как врачи, так и танцоры, исполняющие экзотические танцы, могут нуждаться в балансе между интимностью и бесстрастной манерой взаимодействия с клиентами; жертвы преступления обязаны давать показания по возможности спокойно и «рационально», хотя в этой ситуации они сообщают о серьезном страдании или травме.
Коротко говоря, люди в современных обществах подчиняются широкому ряду эмоциональных норм, которые часто неясны и противоречивы. Следовательно, люди могут не просто соблюдать правила, а советоваться по их поводу и творчески использовать эмоциональные нормы, поскольку они «интерпретируют, оценивают и подтверждают свои собственные чувства и чувства других, а также способы их выражения»
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
Коротко говоря, люди в современных обществах подчиняются широкому ряду эмоциональных норм, которые часто неясны и противоречивы. Следовательно, люди могут не просто соблюдать правила, а советоваться по их поводу и творчески использовать эмоциональные нормы, поскольку они «интерпретируют, оценивают и подтверждают свои собственные чувства и чувства других, а также способы их выражения»
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
❤31👍6
Самое ужасное в порнографии – это то, что она показывает мужскую истину. Самое коварное в порнографии – это то, что она предподносит мужскую истину как истину общечеловеческую. Все эти изображения женщин, закованных в цепи и подвергаемых пыткам, выдаются за наши потаенные эротические желания. И некоторые из нас верят этому, не правда ли?
Самое важное в порнографии - это то, что ее ценности – это мужские ценности. Это тот ключевой момент, который как левые, так и правые мужчины пытаются скрыть от женщин при помощи различных, но сонаправленных, методов. Правые мужчины хотят спрятать порнографию, левые хотят спрятать ее значение. И тем, и другим нужен доступ к порнографии, которая будет поощрять и заряжать энергией мужчин. Правые хотят тайного доступа, левые – открытого. Но, является ли порнография общедоступной или нет, заложенные в ней идеи являются идеями, выраженными в изнасиловании и избиении жен, в правовой системе, в религии, в искусстве и литературе, в постоянной экономической дискриминации женщин, в отживающих свой век академиях, и эти идеи поддерживаются умными, хорошими, великодушными и передовыми мужчинами во всех этих областях.
Порнография - это не жанр самовыражения, изолированный и отличный от реальной жизни. Это жанр самовыражения, который находится в полной гармонии с любой культурой, из которой он произрастает. И это верно вне зависимости от того, легальна она или нет. И в том, и в другом случае функция порнографии состоит в сохранении мужского господства и насильственных преступлений против женщин, потому что она воспитывает, тренирует, обучает и побуждает мужчин презирать, использовать и мучить женщин. Порнография существует, потому что мужчины презирают женщин, и мужчины презирают женщин, потому что есть порнография.
Андреа Дворкин
Порнография и скорбь
Самое важное в порнографии - это то, что ее ценности – это мужские ценности. Это тот ключевой момент, который как левые, так и правые мужчины пытаются скрыть от женщин при помощи различных, но сонаправленных, методов. Правые мужчины хотят спрятать порнографию, левые хотят спрятать ее значение. И тем, и другим нужен доступ к порнографии, которая будет поощрять и заряжать энергией мужчин. Правые хотят тайного доступа, левые – открытого. Но, является ли порнография общедоступной или нет, заложенные в ней идеи являются идеями, выраженными в изнасиловании и избиении жен, в правовой системе, в религии, в искусстве и литературе, в постоянной экономической дискриминации женщин, в отживающих свой век академиях, и эти идеи поддерживаются умными, хорошими, великодушными и передовыми мужчинами во всех этих областях.
Порнография - это не жанр самовыражения, изолированный и отличный от реальной жизни. Это жанр самовыражения, который находится в полной гармонии с любой культурой, из которой он произрастает. И это верно вне зависимости от того, легальна она или нет. И в том, и в другом случае функция порнографии состоит в сохранении мужского господства и насильственных преступлений против женщин, потому что она воспитывает, тренирует, обучает и побуждает мужчин презирать, использовать и мучить женщин. Порнография существует, потому что мужчины презирают женщин, и мужчины презирают женщин, потому что есть порнография.
Андреа Дворкин
Порнография и скорбь
💯117❤16😢8👍5
Forwarded from Отравленные строки
Все произведения не проверялись на гуманистичность к женщинам, и в итоге практически все сохранили мизогинность, которая фоново передавалась все новым и новым поколениям
https://telegra.ph/Nezhenskaya-klassika-11-26
#перекос
https://telegra.ph/Nezhenskaya-klassika-11-26
#перекос
Telegraph
Неженская классика
Несколько лет назад я захотела перечитать школьную классику, чтобы самой составить мнение о ней. Каждая новая книга была отвратительней предыдущей в отношении женского вопроса. Из "Братьев Карамазовых" Достоевского я узнала, что ничего страшного, если мужчина…
👍59🔥19❤13
Эмоциональные нормы могут отражать и поддерживать социальное неравенство
Давайте вернемся к аналогии между законами и эмоциональными нормами и проведем сравнение на шаг дальше – в сфере политики. Многие заметили, что система законов не является «нейтральным судьей» на страже справедливости. Скорее, законы являются отражением политической борьбы и политических интересов и при их создании, и при их применении. Следует ли женщинам позволить голосовать? Могут ли заключать брак партнеры одного пола? Какое наказание (и нужно ли оно) должно последовать за хранение марихуаны или кокаина?
Законы не обязательно служат интересам каждого. Скорее, они отражают и воспроизводят отношения власти: доминирующие группы оказывают сравнительно большее влияние при создании, принятии и приведении в исполнение социетальных правил. Тот факт, что доход от заработка облагается налогом более высоким, чем доход от инвестиций, отражает политику, выгодную самым богатым американцам, и может быть выражен в ироническом варианте «золотого правила»: те, кто владеют золотом, задают и правила.
Также можно задуматься над вопросом о том, являются ли эмоциональные нормы просто культурными предпочтениями, которые варьируют в соответствии с особенностями различных групп, или создаются в соответствии с интересами властей предержащих? Рассмотрим семейные отношения. Хотя родители и дети оказывают взаимное влияние друг на друга, проще утверждать, что дети обычно намного меньше могут сказать об эмоциональных нормах своей семьи. Безусловно, дети нуждаются в обучении манерам, чтобы уметь контролировать настроение, вести себя вежливо и проявлять эмпатию по отношению к другим. Родители могут усердно «цивилизовать» своих детей, передавая им свою эмоциональную компетентность – «управлять своими телами так, чтобы они могли приемлемым образом участвовать в социальном порядке и в рамках домашней жизни, и на более широких аренах взаимодействия».
С другой стороны, иногда родители эгоистически или тиранически требуют исполнения эмоциональных норм. «Не дерзи!» – т. е. нельзя неуважительно спорить с родителями – данная эмоциональная норма может быть использована с целью установить безусловное доминирование или ограничить демократическое начало в этих отношениях.
Предположение, что женщины более эмпатичны и заботливы «от природы», также может вести к поддержанию неравенства, несмотря на то что подчас это выглядит как комплимент или добродетель. Жены могут выполнять свои обязанности, подчиняясь правилам чувствования, требующим от них быть более доступными, чувствительными и заботливыми, чем их мужья, что, в свою очередь, ведет к неравному разделению труда в домашней сфере.
Гендеризованная природа эмоциональных норм помогает объяснить, почему матери целуют оцарапанные коленки, утирают больше слез, более внимательно слушают и выполняют больше «межличностной» работы, сохраняющей близкие отношения в семье и делающей семьи более функциональными.
Также эмоциональные нормы производят неравенства и вне дома. Обсудим такой контекст, как рабочее место. Часто наименее оплачиваемые работники обязаны выполнять наиболее трудные задачи: к примеру, когда в сфере обслуживания нижестоящие работники принимают на себя всю тяжесть недовольства клиента и его неподобающего поведения. В сравнении с ними менеджеры среднего и высшего звена более защищены от негативных эмоций и «организационными щитами» (когда, например, административные помощники ограничивают свой контакт с публикой), и «статусными щитами» (властью и престижем, которые не дают другим выместить на них негативные чувства). Работодатели, таким образом, могут требовать от работников низшего звена, чтобы они строго придерживались определенных эмоциональных норм («Всегда улыбаться и никогда не отвечать на возмущение клиента»), что подчеркивает существующие неравенства по доходу и властным полномочиям.
Давайте вернемся к аналогии между законами и эмоциональными нормами и проведем сравнение на шаг дальше – в сфере политики. Многие заметили, что система законов не является «нейтральным судьей» на страже справедливости. Скорее, законы являются отражением политической борьбы и политических интересов и при их создании, и при их применении. Следует ли женщинам позволить голосовать? Могут ли заключать брак партнеры одного пола? Какое наказание (и нужно ли оно) должно последовать за хранение марихуаны или кокаина?
Законы не обязательно служат интересам каждого. Скорее, они отражают и воспроизводят отношения власти: доминирующие группы оказывают сравнительно большее влияние при создании, принятии и приведении в исполнение социетальных правил. Тот факт, что доход от заработка облагается налогом более высоким, чем доход от инвестиций, отражает политику, выгодную самым богатым американцам, и может быть выражен в ироническом варианте «золотого правила»: те, кто владеют золотом, задают и правила.
Также можно задуматься над вопросом о том, являются ли эмоциональные нормы просто культурными предпочтениями, которые варьируют в соответствии с особенностями различных групп, или создаются в соответствии с интересами властей предержащих? Рассмотрим семейные отношения. Хотя родители и дети оказывают взаимное влияние друг на друга, проще утверждать, что дети обычно намного меньше могут сказать об эмоциональных нормах своей семьи. Безусловно, дети нуждаются в обучении манерам, чтобы уметь контролировать настроение, вести себя вежливо и проявлять эмпатию по отношению к другим. Родители могут усердно «цивилизовать» своих детей, передавая им свою эмоциональную компетентность – «управлять своими телами так, чтобы они могли приемлемым образом участвовать в социальном порядке и в рамках домашней жизни, и на более широких аренах взаимодействия».
С другой стороны, иногда родители эгоистически или тиранически требуют исполнения эмоциональных норм. «Не дерзи!» – т. е. нельзя неуважительно спорить с родителями – данная эмоциональная норма может быть использована с целью установить безусловное доминирование или ограничить демократическое начало в этих отношениях.
Предположение, что женщины более эмпатичны и заботливы «от природы», также может вести к поддержанию неравенства, несмотря на то что подчас это выглядит как комплимент или добродетель. Жены могут выполнять свои обязанности, подчиняясь правилам чувствования, требующим от них быть более доступными, чувствительными и заботливыми, чем их мужья, что, в свою очередь, ведет к неравному разделению труда в домашней сфере.
Гендеризованная природа эмоциональных норм помогает объяснить, почему матери целуют оцарапанные коленки, утирают больше слез, более внимательно слушают и выполняют больше «межличностной» работы, сохраняющей близкие отношения в семье и делающей семьи более функциональными.
Также эмоциональные нормы производят неравенства и вне дома. Обсудим такой контекст, как рабочее место. Часто наименее оплачиваемые работники обязаны выполнять наиболее трудные задачи: к примеру, когда в сфере обслуживания нижестоящие работники принимают на себя всю тяжесть недовольства клиента и его неподобающего поведения. В сравнении с ними менеджеры среднего и высшего звена более защищены от негативных эмоций и «организационными щитами» (когда, например, административные помощники ограничивают свой контакт с публикой), и «статусными щитами» (властью и престижем, которые не дают другим выместить на них негативные чувства). Работодатели, таким образом, могут требовать от работников низшего звена, чтобы они строго придерживались определенных эмоциональных норм («Всегда улыбаться и никогда не отвечать на возмущение клиента»), что подчеркивает существующие неравенства по доходу и властным полномочиям.
👍23💯12❤3
Эмоциональные нормы могут также акцентировать гендерное и расовое неравенство на рынке труда. Например, от женщин могут ожидать больших усилий в деле эмоциональной поддержки клиентов, пациентов или студентов. Чернокожие мужчины в сравнении с белыми мужчинами не могут также свободно выражать недовольство на рабочем месте из страха прослыть «разгневанными чернокожими мужчинами».
Эмоциональные нормы неочевидным образом содержатся даже в идеологиях, которые легитимируют классовое и политическое неравенство, охватывающее общество в целом. В феодальных обществах существенные экономические различия объяснялись благородным происхождением и «божественным правом королей»; рабство, в свою очередь, оправдывалось с помощью представлений о врожденной неполноценности рабов. Эти когнитивные системы верований обычно сопровождаются соответствующими эмоциональными нормами.
Если неравенство обосновано, то подчиненные должны испытывать спокойное смирение или, возможно, стыд вследствие своей низкой позиции, но никак не враждебность или негодование (outrage). Сегодня многие американцы верят, что общество США представляет собой меритократию, где экономический успех является главным образом результатом таланта и усердной работы. В рамках этой идеологии успешные люди должны испытывать гордость за свои очевидные для всех умения и целеустремленность, а бедные должны чувствовать смущение или сожаление по поводу своего трудного положения. При этом многочисленные факторы, не связанные с меритократией и обусловливающие успех, преуменьшаются, например, происхождение из богатой семьи, финансовый доступ к качественному образованию и здравоохранению, получение образования во время экономического подъема, а не во время экономического кризиса, связи с людьми из высших кругов и проч.
Меритократический миф служит причиной самообвинений в экономической несостоятельности, а не побуждает к культивированию эмоций, которые могли бы привести к требованию реформ или бунту против существующих социальных условий
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
Эмоциональные нормы неочевидным образом содержатся даже в идеологиях, которые легитимируют классовое и политическое неравенство, охватывающее общество в целом. В феодальных обществах существенные экономические различия объяснялись благородным происхождением и «божественным правом королей»; рабство, в свою очередь, оправдывалось с помощью представлений о врожденной неполноценности рабов. Эти когнитивные системы верований обычно сопровождаются соответствующими эмоциональными нормами.
Если неравенство обосновано, то подчиненные должны испытывать спокойное смирение или, возможно, стыд вследствие своей низкой позиции, но никак не враждебность или негодование (outrage). Сегодня многие американцы верят, что общество США представляет собой меритократию, где экономический успех является главным образом результатом таланта и усердной работы. В рамках этой идеологии успешные люди должны испытывать гордость за свои очевидные для всех умения и целеустремленность, а бедные должны чувствовать смущение или сожаление по поводу своего трудного положения. При этом многочисленные факторы, не связанные с меритократией и обусловливающие успех, преуменьшаются, например, происхождение из богатой семьи, финансовый доступ к качественному образованию и здравоохранению, получение образования во время экономического подъема, а не во время экономического кризиса, связи с людьми из высших кругов и проч.
Меритократический миф служит причиной самообвинений в экономической несостоятельности, а не побуждает к культивированию эмоций, которые могли бы привести к требованию реформ или бунту против существующих социальных условий
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
🔥32💯13👍7
Энн Окли считается родоначальником концепции “гендера” в социологии. Она развела понятия “гендера” (пола) как незыблемого биологического признака и как культурной детерминанты, предопределяющей концептуализацию “мужественности” и “женственности”. До сих пор она активно защищает свою концепцию гендера, представляющую аналитическую ценность, от критики и даже полного отрицания со стороны постмодернистов (включая феминистских постмодернистов) и социо-биологов. Э. Окли также приводит аргументыв пользу того, что определение пола гендера играет важную роль в идентификации и исследовании сохраняющегося в обществе экономического неравенства, а также причин, его обусловливающих.
Энн Окли, как она сама пишет в своей автобиографии, “озадачила научное сообщество”, отважившись в своей диссертации на изучение домашнего труда. Ее представления о домашней работе как разновидности труда, который не только требуетфизических затрат, но и опустошает эмоционально, а также подсчет ею часов, которые женщина затрачивает на такую работу в дополнение или вместо оплачиваемой работы, оказали и продолжают оказывать влияние на современную трактовку понятия “домашний труд” в социологии. Примером служит работа Ивана Иллича “Гендер”, в которой этот ученый признает влияние исследований домашнего труда, проведенных Э. Окли, на свой образ мышления.
В исследованиях домашнего труда, предмета, который ранее не считался достойным изучения социологами, Окли открыла маскулинность самой социологической дисциплины. Не только большинство крупных социологов были мужчинами, но применяемые ими подходы были мужскими по своей сути, поскольку темы, которые не соответствовали мужскому взгляду на мир, зачастую или просто игнорировались, или выводились за пределы социологии.
В данной связи работы Энн Окли можно рассматривать как бросающие вызов “мужской гегемонии” в социологии, который нашел особое отражение в ее исследованиях, посвященных проблемам деторождения и материнства. На протяжении ряда лет Окли работала в сфере медицинской социологии и участвовала в исследованиях по “медицинскому обслуживанию населения”, проведение которых началось с изучения 66 женщин Лондона, только что родивших своих первенцев.
В этих исследованиях Э. Окли не только доказала необходимость участия социологов в проблемах социальной защиты женщин-рожениц. В монографии “Стать матерью” она также обосновала новый взгляд на материнство, который, так же, как и в случае с изучением домашнего труда, явился вызовом гендерно обусловленным стереотипам медицинского вмешательства в репродуктивный опыт женщины. Оценка внутреннего мира участниц исследований посредством интервью и наблюдений за встречами докторов со своими пациентками, стала важной частью ее исследования “Рожающие женщины: к социологии деторождения”, носивших как социально-научный, так и медицинский характер.
В отношении занятия Энн Окли собственно социологией следует отметить ее особый интерес к соблюдению точности методологии данной науки. Эта исследовательница постоянно подчеркивала важность того, чтобы все исследования социологов становились вкладом в знания, а эти знания могли бы использоваться в критической оценке существующих мифов. Будучи феминисткой, Э. Окли утверждает, что “хорошо построенное экспериментальное исследование играет важную роль в документировании живых реалий жизни женщины и помогает получить практические истины, имеющие потенциал эмансипации”
Елена Дорцева
Интеллектуальные манифесты современных феминистских социологов
Энн Окли, как она сама пишет в своей автобиографии, “озадачила научное сообщество”, отважившись в своей диссертации на изучение домашнего труда. Ее представления о домашней работе как разновидности труда, который не только требуетфизических затрат, но и опустошает эмоционально, а также подсчет ею часов, которые женщина затрачивает на такую работу в дополнение или вместо оплачиваемой работы, оказали и продолжают оказывать влияние на современную трактовку понятия “домашний труд” в социологии. Примером служит работа Ивана Иллича “Гендер”, в которой этот ученый признает влияние исследований домашнего труда, проведенных Э. Окли, на свой образ мышления.
В исследованиях домашнего труда, предмета, который ранее не считался достойным изучения социологами, Окли открыла маскулинность самой социологической дисциплины. Не только большинство крупных социологов были мужчинами, но применяемые ими подходы были мужскими по своей сути, поскольку темы, которые не соответствовали мужскому взгляду на мир, зачастую или просто игнорировались, или выводились за пределы социологии.
В данной связи работы Энн Окли можно рассматривать как бросающие вызов “мужской гегемонии” в социологии, который нашел особое отражение в ее исследованиях, посвященных проблемам деторождения и материнства. На протяжении ряда лет Окли работала в сфере медицинской социологии и участвовала в исследованиях по “медицинскому обслуживанию населения”, проведение которых началось с изучения 66 женщин Лондона, только что родивших своих первенцев.
В этих исследованиях Э. Окли не только доказала необходимость участия социологов в проблемах социальной защиты женщин-рожениц. В монографии “Стать матерью” она также обосновала новый взгляд на материнство, который, так же, как и в случае с изучением домашнего труда, явился вызовом гендерно обусловленным стереотипам медицинского вмешательства в репродуктивный опыт женщины. Оценка внутреннего мира участниц исследований посредством интервью и наблюдений за встречами докторов со своими пациентками, стала важной частью ее исследования “Рожающие женщины: к социологии деторождения”, носивших как социально-научный, так и медицинский характер.
В отношении занятия Энн Окли собственно социологией следует отметить ее особый интерес к соблюдению точности методологии данной науки. Эта исследовательница постоянно подчеркивала важность того, чтобы все исследования социологов становились вкладом в знания, а эти знания могли бы использоваться в критической оценке существующих мифов. Будучи феминисткой, Э. Окли утверждает, что “хорошо построенное экспериментальное исследование играет важную роль в документировании живых реалий жизни женщины и помогает получить практические истины, имеющие потенциал эмансипации”
Елена Дорцева
Интеллектуальные манифесты современных феминистских социологов
👍35❤15👏2
Помню, как в далекой юности меня поразило одно место из книги Ю. Рюрикова «Три влечения». Книжка и в целом была далеко не блестящей, но это место особенно. Описывая строй индийских найяров, которые не живут семьями, у которых дети остаются с матерью, а отец только навещает их или на день-два приглашает в гости, автор употребляет такие выражения: «Мужчина после свадьбы остается в своем доме, а женщина в доме своих родителей». Цитирую по памяти, но за характеристику домов ручаюсь.
Первый раз в жизни мне стало ясно, что автор сам не понимает, что пишет. Ведь родители новобрачных подчинялись тем же законам, что и они сами, так же, как родители родителей, и так достаточно долго. Следовательно, никакого общего «дома родителей» не существует и не может существовать. Кроме того, поскольку основу рода составляют женщины, хозяйками дома являются тоже они. Значит, после свадьбы мужчина остается в доме своей матери. А в своем доме после свадьбы, как и до нее, остается женщина, и, затем, ее дочери, для сыновей же это – дом матери. Все это было ясно читавшей книжку девушке, не достигшей еще 20 лет, но совершенно неясно вполне взрослому автору, который сам эту книжку написал. Так сильно было представление, что супруги непременно живут вместе (хотя он только что описывал обратное) и что дом в любом случае принадлежит мужчине.
Вероятно, даже не «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса, прочитанное ранее, а именно эта чушь собачья заставила меня впервые задуматься над тем, что же представляют собой отношения полов в истории и современности.
И сейчас, вполне взрослой, очень трудно удержаться еще от одной цитаты. Не из легковесной книжки лихого борзописца, а из серьезной работы умного и знающего историка. Речь в ней идет о египетской царице Нефертити и ее влиянии на государственные дела: «Но нам ли жалеть, что такого влияния ее незаметно? Если бы она делила ответственность за государственные дела со своим мужем, сохранил ли бы ее образ хоть тень своей обаятельной женственности?».
Итак, обаятельная женственность возникает на основе безответственности, и женщина утрачивает ее, если начинает конкурировать с мужчинами, вмешиваясь в мужские дела. Историк Древнего мира видит положение дел таким! Это положительно выше моего понимания. Ведь уж кто-кто, а он мог бы знать хотя бы очень давнюю работу М.Э. Матье (женщины) о престолонаследии в Древнем Египте, где с абсолютной убедительностью доказано, что трон в Египте даже в более поздние времена переходил не к сыну царя, а к мужу принцессы-наследницы; т.е. что не Нефертити была женой царя, а Эхнатон – мужем царицы. Нет, до него это не доходит. И точку зрения Матье он не то чтобы считает неверной, а просто не воспринимает. Так же упорно он величает Тейе, мать Эхнатона, царицей, хотя сам же пишет, что она носила всего лишь титул жены царя. Ладно, Рюриков сам не способен понять собственного текста, но Перепелкин!
Кроме всего прочего, где же в облике Нефертити эта самая тень пресловутой обаятельной женственности? Это облик царственной особы, которая если и наделена обаянием, то не обаянием женственности, а именно обаянием власти, отстраненным и грозным, заставляющим внутренне подтянуться и выпрямиться. Во всей мировой истории изобразительного искусства мне неизвестно более царственного изображения царственной особы. Но мысли историка идут по накатанному мужскому руслу: обаятельная женственность. Точно так же, как мысли не запомнившегося мне самодеятельного поэта из очерка Евг. Богата, воспевшего красоту Спящей Венеры кисти Джорджоне и не заметившего, что от всех прочих обнаженных Венер она отличается принципиально, что в ней сосредоточена в первую очередь грозная и равнодушная сила божества. Нет. Раз обнаженная женская фигура – значит, красота, в которую нужно влюбляться, особенно поэтам, на протяжении многих веков. Таково мужское тупоумие.
Первый раз в жизни мне стало ясно, что автор сам не понимает, что пишет. Ведь родители новобрачных подчинялись тем же законам, что и они сами, так же, как родители родителей, и так достаточно долго. Следовательно, никакого общего «дома родителей» не существует и не может существовать. Кроме того, поскольку основу рода составляют женщины, хозяйками дома являются тоже они. Значит, после свадьбы мужчина остается в доме своей матери. А в своем доме после свадьбы, как и до нее, остается женщина, и, затем, ее дочери, для сыновей же это – дом матери. Все это было ясно читавшей книжку девушке, не достигшей еще 20 лет, но совершенно неясно вполне взрослому автору, который сам эту книжку написал. Так сильно было представление, что супруги непременно живут вместе (хотя он только что описывал обратное) и что дом в любом случае принадлежит мужчине.
Вероятно, даже не «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса, прочитанное ранее, а именно эта чушь собачья заставила меня впервые задуматься над тем, что же представляют собой отношения полов в истории и современности.
И сейчас, вполне взрослой, очень трудно удержаться еще от одной цитаты. Не из легковесной книжки лихого борзописца, а из серьезной работы умного и знающего историка. Речь в ней идет о египетской царице Нефертити и ее влиянии на государственные дела: «Но нам ли жалеть, что такого влияния ее незаметно? Если бы она делила ответственность за государственные дела со своим мужем, сохранил ли бы ее образ хоть тень своей обаятельной женственности?».
Итак, обаятельная женственность возникает на основе безответственности, и женщина утрачивает ее, если начинает конкурировать с мужчинами, вмешиваясь в мужские дела. Историк Древнего мира видит положение дел таким! Это положительно выше моего понимания. Ведь уж кто-кто, а он мог бы знать хотя бы очень давнюю работу М.Э. Матье (женщины) о престолонаследии в Древнем Египте, где с абсолютной убедительностью доказано, что трон в Египте даже в более поздние времена переходил не к сыну царя, а к мужу принцессы-наследницы; т.е. что не Нефертити была женой царя, а Эхнатон – мужем царицы. Нет, до него это не доходит. И точку зрения Матье он не то чтобы считает неверной, а просто не воспринимает. Так же упорно он величает Тейе, мать Эхнатона, царицей, хотя сам же пишет, что она носила всего лишь титул жены царя. Ладно, Рюриков сам не способен понять собственного текста, но Перепелкин!
Кроме всего прочего, где же в облике Нефертити эта самая тень пресловутой обаятельной женственности? Это облик царственной особы, которая если и наделена обаянием, то не обаянием женственности, а именно обаянием власти, отстраненным и грозным, заставляющим внутренне подтянуться и выпрямиться. Во всей мировой истории изобразительного искусства мне неизвестно более царственного изображения царственной особы. Но мысли историка идут по накатанному мужскому руслу: обаятельная женственность. Точно так же, как мысли не запомнившегося мне самодеятельного поэта из очерка Евг. Богата, воспевшего красоту Спящей Венеры кисти Джорджоне и не заметившего, что от всех прочих обнаженных Венер она отличается принципиально, что в ней сосредоточена в первую очередь грозная и равнодушная сила божества. Нет. Раз обнаженная женская фигура – значит, красота, в которую нужно влюбляться, особенно поэтам, на протяжении многих веков. Таково мужское тупоумие.
🔥54💯28👍4
(Последнее выражение требует уточнения. Я вовсе не считаю, что тупоумие присуще мужской природе как таковой. Я вообще не считаю, что существует какая-то врожденная мужская природа – как и женская, и человеческая вообще. Но тысячелетия положения угнетающего пола сделали тупоумие по известному кругу вопросов присущим поневоле большинству мужчин. В этом они тоже не виноваты. Не злая воля сделала мужчин угнетающим и эксплуатирующим полом, а историческая закономерность.)
Доконало же меня уже сейчас предисловие к российскому изданию книги мадам де Бовуар. В первую очередь – ссылка на еще одного французского автора, мужчину, конечно. Надо же было хоть задним числом отмежевать мадам Симону, для российских 90-х гг. слишком левую (издашь без комментариев – проблем не оберешься), от марксизма. И вот читателям, а больше отсутствующим по Конституции РФ цензорам, предусмотрительно поясняют: «За нее это сделает (размежуется с марксизмом) спустя время французский социолог Э. Морен, который напишет, что попытка рассмотреть угнетение женщины с помощью категорий классового анализа является упрощением хотя бы потому, что эта проблема сложилась в доклассовую, а может быть и доисторическую эпоху и имеет не столько социологический, сколько антропосоциологический характер».
Вот именно – за нее. Вроде бы утверждение, что проблема сложилась в доисторическую (это как понимать?) или хотя бы в доклассовую эпоху, надо сначала доказать. Но это я так считаю. Они так не считают. Им достаточно пары туманных фраз о том, что этот мир всегда принадлежал мужчине и что он поработил женщину благодаря своей силе и агрессивности.
Е.Н. Харламенко
Женский вопрос: исторические истоки
Доконало же меня уже сейчас предисловие к российскому изданию книги мадам де Бовуар. В первую очередь – ссылка на еще одного французского автора, мужчину, конечно. Надо же было хоть задним числом отмежевать мадам Симону, для российских 90-х гг. слишком левую (издашь без комментариев – проблем не оберешься), от марксизма. И вот читателям, а больше отсутствующим по Конституции РФ цензорам, предусмотрительно поясняют: «За нее это сделает (размежуется с марксизмом) спустя время французский социолог Э. Морен, который напишет, что попытка рассмотреть угнетение женщины с помощью категорий классового анализа является упрощением хотя бы потому, что эта проблема сложилась в доклассовую, а может быть и доисторическую эпоху и имеет не столько социологический, сколько антропосоциологический характер».
Вот именно – за нее. Вроде бы утверждение, что проблема сложилась в доисторическую (это как понимать?) или хотя бы в доклассовую эпоху, надо сначала доказать. Но это я так считаю. Они так не считают. Им достаточно пары туманных фраз о том, что этот мир всегда принадлежал мужчине и что он поработил женщину благодаря своей силе и агрессивности.
Е.Н. Харламенко
Женский вопрос: исторические истоки
🔥68💯27
Не много найдется тем, при обсуждении которых буржуазное общество исходило бы таким лицемерием: аборт – это отвратительное преступление, и говорить об этом даже намеками неприлично. Когда писатель описывает радости и муки роженицы – это прекрасно; когда же он пишет о женщине, которая сделала аборт, его тут же обвиняют в том, что он копается в грязи, представляет человечество в неприглядном свете; между тем во Франции ежегодное число абортов равняется числу новорожденных.
Явление это так распространено, что его следует рассматривать как один из рисков, которые заложены в нормальном женском уделе. Однако законодательство упорно представляет его преступлением: оно требует, чтобы эта деликатная операция производилась подпольно. Нет ничего абсурднее тех аргументов, которые выставляются против легализации аборта. Упор делается на то, что это опасное хирургическое вмешательство. Однако честные врачи вслед за доктором Магнусом Хиршфельдом признают, что «аборт, сделанный в больнице рукой врача-профессионала и при соблюдении всех необходимых превентивных мер, не несет тех серьезных опасностей, о которых говорится в Уголовном кодексе». Как раз наоборот, именно в отсутствии легализации аборта содержится огромный риск для женщины.
Недостаточная компетентность женщин, незаконно делающих аборты, условия, в которых производится операция, – все это порождает массу несчастных случаев, иногда со смертельным исходом. Вынужденное материнство приводит к появлению на свет хилых детей, которых родители не в состоянии прокормить и которые либо попадают в приют, либо становятся настоящими мучениками. Следует еще отметить, что общество, так рьяно защищающее права эмбриона, не проявляет никакого интереса к детям, стоит им родиться; вместо того чтобы преследовать женщин за аборты, было бы лучше направить эти усилия на реформирование такой возмутительной институции, как детский приют; ответственные за то, что дети в приютах попадают в руки мучителей, разгуливают на свободе; общество закрывает глаза на страшную тиранию в детских «воспитательных домах» или в семьях, где родители или близкие ведут себя как палачи; и если женщине отказывают в праве на плод, который она вынашивает, то почему же ребенок считается принадлежностью только своих родителей; в течение одной недели мы узнаем, что какой-то хирург, уличенный в подпольных абортах, ушел из жизни, покончив с собой, а какой-то отец, чуть ли не до смерти избивший своего сына, получил всего лишь три месяца _условно_.
Совсем недавно по недосмотру отца от крупа умер мальчик, а одна мать отказалась вызвать врача к тяжелобольной дочери, объяснив это своим полным подчинением воле Божьей, – на кладбище дети бросали в нее камни; некоторые журналисты выступили на страницах печати с возмущением по этому поводу, а ряд вполне приличных людей, напротив, публично заявили, что дети принадлежат родителям и что всякое вмешательство со стороны неприемлемо. Газета «Се суар» пишет: сегодня «миллиону детей грозит опасность», а во «Франс суар» читаем: «_Зарегистрировано_ пятьсот тысяч детей, которым грозит физическая либо моральная опасность».
В Северной Африке арабская женщина лишена возможности делать аборт: из десяти рожденных ею детей семь или восемь умирают, и никому до этого нет дела, потому что трудные и бессмысленные беременности убивают материнское чувство. Если это нравственно, то как относиться к такой нравственности? Следует добавить, что мужчины, выказывающие наибольшее уважение к жизни эмбриона, одновременно первыми готовы отправить взрослых на войну, то есть на смерть.
Симона де Бовуар
Второй пол
Явление это так распространено, что его следует рассматривать как один из рисков, которые заложены в нормальном женском уделе. Однако законодательство упорно представляет его преступлением: оно требует, чтобы эта деликатная операция производилась подпольно. Нет ничего абсурднее тех аргументов, которые выставляются против легализации аборта. Упор делается на то, что это опасное хирургическое вмешательство. Однако честные врачи вслед за доктором Магнусом Хиршфельдом признают, что «аборт, сделанный в больнице рукой врача-профессионала и при соблюдении всех необходимых превентивных мер, не несет тех серьезных опасностей, о которых говорится в Уголовном кодексе». Как раз наоборот, именно в отсутствии легализации аборта содержится огромный риск для женщины.
Недостаточная компетентность женщин, незаконно делающих аборты, условия, в которых производится операция, – все это порождает массу несчастных случаев, иногда со смертельным исходом. Вынужденное материнство приводит к появлению на свет хилых детей, которых родители не в состоянии прокормить и которые либо попадают в приют, либо становятся настоящими мучениками. Следует еще отметить, что общество, так рьяно защищающее права эмбриона, не проявляет никакого интереса к детям, стоит им родиться; вместо того чтобы преследовать женщин за аборты, было бы лучше направить эти усилия на реформирование такой возмутительной институции, как детский приют; ответственные за то, что дети в приютах попадают в руки мучителей, разгуливают на свободе; общество закрывает глаза на страшную тиранию в детских «воспитательных домах» или в семьях, где родители или близкие ведут себя как палачи; и если женщине отказывают в праве на плод, который она вынашивает, то почему же ребенок считается принадлежностью только своих родителей; в течение одной недели мы узнаем, что какой-то хирург, уличенный в подпольных абортах, ушел из жизни, покончив с собой, а какой-то отец, чуть ли не до смерти избивший своего сына, получил всего лишь три месяца _условно_.
Совсем недавно по недосмотру отца от крупа умер мальчик, а одна мать отказалась вызвать врача к тяжелобольной дочери, объяснив это своим полным подчинением воле Божьей, – на кладбище дети бросали в нее камни; некоторые журналисты выступили на страницах печати с возмущением по этому поводу, а ряд вполне приличных людей, напротив, публично заявили, что дети принадлежат родителям и что всякое вмешательство со стороны неприемлемо. Газета «Се суар» пишет: сегодня «миллиону детей грозит опасность», а во «Франс суар» читаем: «_Зарегистрировано_ пятьсот тысяч детей, которым грозит физическая либо моральная опасность».
В Северной Африке арабская женщина лишена возможности делать аборт: из десяти рожденных ею детей семь или восемь умирают, и никому до этого нет дела, потому что трудные и бессмысленные беременности убивают материнское чувство. Если это нравственно, то как относиться к такой нравственности? Следует добавить, что мужчины, выказывающие наибольшее уважение к жизни эмбриона, одновременно первыми готовы отправить взрослых на войну, то есть на смерть.
Симона де Бовуар
Второй пол
💯116👍12😢4❤1
Если бы эмоциональный труд был гендерно нейтральным, тогда бы мужчины и женщины выполняли его равным образом. Однако социологи доказывают, что это не так. На самом деле женщины склонны выполнять большее количество эмоционального труда на рабочем месте. Это происходит потому, что: а) профессии и рода занятий могут быть сегрегированы по полу; б) задачи в рамках работы могут быть сегрегированы в соответствии с полом; в) к работникам-женщинам относятся по-другому даже при выполнении одинаковых задач в рамках одного и того же занятия.
Профессии и рода занятий сегрегированы по полу, потому что в рамках определенных карьерных траекторий доминируют мужчины или женщины. Рабочие места, требующие дополнительного количества эмоционального труда, обычно считаются «женской работой». Например, пилоты в авиации в основном – мужчины, а бортпроводники – с большей вероятностью женщины. Последний род занятий явно включает больше возможностей для выполнения эмоционального труда. Бортпроводники чаще имеют дело с пассажирами, которые боятся летать, беспокоятся о потере багажа или возмущаются задержкой рейса. Только в редких и исключительных обстоятельствах пилоты включаются в процесс управления эмоциями и поведением пассажиров помимо объявлений по рации.
Подобные модели поведения можно увидеть и в других ситуациях. Хотя тенденция к гендерной сегрегации не является железным законом, ее можно обнаружить в ресторанах, больницах и корпорациях. Женщины с большей вероятностью будут работать в качестве официанток, медсестер и секретарей и таким образом больше взаимодействовать с публикой, нежели повара, врачи и руководители. Во всех этих примерах женщины как будто «притягиваются» или направляются к тем социальным ролям, которые требуют больше эмоционального труда. Очень немногие мужчины становятся учителями в начальной школе (где нужно больше сил отдавать воспитанию и заботе о детях) и очень немногие женщины становятся строителями (где труд является скорее физическим, чем эмоциональным).
Безусловно, только небольшое количество профессий и родов занятий, если вообще такое бывает, полностью сегрегированы по полу, ведь существуют медбратья, мужчины-секретари и мужчины – учителя начальной школы. Но даже когда мужчины и женщины занимают одинаковые позиции на работе, мы можем наблюдать сегрегацию по задачам в рамках данной позиции. Бортпроводника-мужчину чаще просят положить тяжелую сумку в верхнее отделение багажа, а бортпроводник-женщина с большей вероятностью сталкивается с просьбами, выполнение которых требует эмоционального труда, – такими как обеспечение комфорта детям, пожилым или нуждающимся в помощи. Женщины, которые пробились в полицию, могут обнаружить, что эта работа неодинакова для мужчин и женщин. Когда приходится утешать жертв сексуального насилия и других пострадавших, то ожидается, что полицейские-женщины возьмут это на себя.
Если случайным образом распределить различные рода занятий и задачи в рамках этих занятий, то в обоих случаях мы можем ожидать, что разделение труда между полами будет примерно 50 на 50. Однако такой гендерно нейтральный расклад не может гарантировать, что мужчины и женщины будут выполнять одинаковое количество эмоционального труда. Поскольку даже когда работники (и мужчины, и женщины) выполняют одну и ту же задачу в одном и том же роде занятий, поведение клиентов, коллег и работодателей может повышать требования к женщинам. Например, когда бортпроводник-женщина напоминает пассажирам, что необходимо застегнуть ремни или убрать багаж под сидение самолета, клиенты могут более свободно выражать раздражение или сопротивление, особенно те, кто менее склонен признавать авторитет женщин, или те, кто считает, что женщины склонны заботиться о других по своей природе. Официантки или секретарши с большей вероятностью будут вынуждены вежливо реагировать на харассмент со стороны клиента. Студенты ожидают больше сочувствия и теплоты от преподавателей-женщин, чем от преподавателей-мужчин.
Профессии и рода занятий сегрегированы по полу, потому что в рамках определенных карьерных траекторий доминируют мужчины или женщины. Рабочие места, требующие дополнительного количества эмоционального труда, обычно считаются «женской работой». Например, пилоты в авиации в основном – мужчины, а бортпроводники – с большей вероятностью женщины. Последний род занятий явно включает больше возможностей для выполнения эмоционального труда. Бортпроводники чаще имеют дело с пассажирами, которые боятся летать, беспокоятся о потере багажа или возмущаются задержкой рейса. Только в редких и исключительных обстоятельствах пилоты включаются в процесс управления эмоциями и поведением пассажиров помимо объявлений по рации.
Подобные модели поведения можно увидеть и в других ситуациях. Хотя тенденция к гендерной сегрегации не является железным законом, ее можно обнаружить в ресторанах, больницах и корпорациях. Женщины с большей вероятностью будут работать в качестве официанток, медсестер и секретарей и таким образом больше взаимодействовать с публикой, нежели повара, врачи и руководители. Во всех этих примерах женщины как будто «притягиваются» или направляются к тем социальным ролям, которые требуют больше эмоционального труда. Очень немногие мужчины становятся учителями в начальной школе (где нужно больше сил отдавать воспитанию и заботе о детях) и очень немногие женщины становятся строителями (где труд является скорее физическим, чем эмоциональным).
Безусловно, только небольшое количество профессий и родов занятий, если вообще такое бывает, полностью сегрегированы по полу, ведь существуют медбратья, мужчины-секретари и мужчины – учителя начальной школы. Но даже когда мужчины и женщины занимают одинаковые позиции на работе, мы можем наблюдать сегрегацию по задачам в рамках данной позиции. Бортпроводника-мужчину чаще просят положить тяжелую сумку в верхнее отделение багажа, а бортпроводник-женщина с большей вероятностью сталкивается с просьбами, выполнение которых требует эмоционального труда, – такими как обеспечение комфорта детям, пожилым или нуждающимся в помощи. Женщины, которые пробились в полицию, могут обнаружить, что эта работа неодинакова для мужчин и женщин. Когда приходится утешать жертв сексуального насилия и других пострадавших, то ожидается, что полицейские-женщины возьмут это на себя.
Если случайным образом распределить различные рода занятий и задачи в рамках этих занятий, то в обоих случаях мы можем ожидать, что разделение труда между полами будет примерно 50 на 50. Однако такой гендерно нейтральный расклад не может гарантировать, что мужчины и женщины будут выполнять одинаковое количество эмоционального труда. Поскольку даже когда работники (и мужчины, и женщины) выполняют одну и ту же задачу в одном и том же роде занятий, поведение клиентов, коллег и работодателей может повышать требования к женщинам. Например, когда бортпроводник-женщина напоминает пассажирам, что необходимо застегнуть ремни или убрать багаж под сидение самолета, клиенты могут более свободно выражать раздражение или сопротивление, особенно те, кто менее склонен признавать авторитет женщин, или те, кто считает, что женщины склонны заботиться о других по своей природе. Официантки или секретарши с большей вероятностью будут вынуждены вежливо реагировать на харассмент со стороны клиента. Студенты ожидают больше сочувствия и теплоты от преподавателей-женщин, чем от преподавателей-мужчин.
💯46😢14👍2
Не только клиенты, но и коллеги и работодатели могут ожидать от работников-женщин большего сочувствия и доброжелательности, чем от мужчин, занимающих ту же позицию. Коллега, которому необходимо поделиться и рассказать о неприятном клиенте, или босс, который хочет видеть широкую улыбку либо слышать заботливый тон во время беседы, часто придерживаются более высоких требований в этом отношении к женскому персоналу.
Гендеризованная природа женского труда отражается в неоплачиваемой работе, которую женщины делают в семейной жизни. В большинстве американских семей наблюдается тенденция к тому, что женщины выполняют больше домашней работы для родственников («kin work») – воспитывая детей, заботясь о пожилых родителях и даже координируя разговоры за обедом. Таким образом, неравное распределение эмоционального труда на рабочем месте обостряется неравномерным распределением работы по осуществлению заботы в домашней сфере. В обоих случаях женщины могут выполнять ряд изнурительных обязанностей, которые остаются незамеченными и неоплаченными.
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
Гендеризованная природа женского труда отражается в неоплачиваемой работе, которую женщины делают в семейной жизни. В большинстве американских семей наблюдается тенденция к тому, что женщины выполняют больше домашней работы для родственников («kin work») – воспитывая детей, заботясь о пожилых родителях и даже координируя разговоры за обедом. Таким образом, неравное распределение эмоционального труда на рабочем месте обостряется неравномерным распределением работы по осуществлению заботы в домашней сфере. В обоих случаях женщины могут выполнять ряд изнурительных обязанностей, которые остаются незамеченными и неоплаченными.
Скотт Харрис
Приглашение в социологию эмоций
💯67😢21👍6🔥2
Существует особый тип разговора, который, собственно, трудно назвать таковым, потому что один из собеседников преследует цель не услышать другого, а измотать, вынудить сознаться в чём угодно и повергнуть в отчаяние. Предпосылки: у абьюзера плохое настроение или, наоборот, слишком хорошее… В общем, он намерен заняться любимым делом. И начинается всё с какой-нибудь мелочи. Например, представим такой диалог между абьюзером и его партнёршей.
Партнёрша (П.): Давай посмотрим какой-нибудь фильм.
Абьюзер (А.): Давай. А какой ты хочешь?
П.: «Джокер».
А.: Это про того типа с уродливым лицом, да?
П.: Да. Его все хвалят.
А.: Это ты так мне намекаешь, да?
П.: На что?
А.: На то, что я урод.
П.: Что за ерунда, ты не урод!
А.: Ты меня обвиняешь в том, что я говорю ерунду? По-твоему, всё, что я говорю, ерунда?
П.: Слушай, ты не так понял…
А.: Ну да, конечно, я всегда всё не так понимаю. Не то что ты, правда? Ты-то очень хорошо всё поняла недавно, когда ругалась со своей матерью!
П.: При чём тут моя мама? И мы совсем не ругались, я ей просто сказала…
А.: Просто так орала на неё по телефону, что стены тряслись. (Передразнивает, кривляясь.) «Мама, отстань от него, пусть живёт как хочет!» Я думал, все соседи сбегутся!
П.: Но она меня просила повлиять на брата, чтобы он устроился на работу, а я ей пыталась объяснить, что это бесполезно…
А.: Конечно, бесполезно, когда за дело берётся такая тупая баба, как ты. Правильно твой брат тебя в детстве бил, только не пошло на пользу.
П.: (Плачет.) Как тебе не стыдно!
А.: Мне не стыдно? Да мне сил нет как стыдно, что я вляпался в такую гнилую семейку, как твоя! Что они с тобой делали, как тебя воспитывали? Я всего лишь хотел спокойно посмотреть фильм, а ты, как обычно, устроила целую трагедию на пустом месте!
Этот диалог – пример циклического разговора. Назван он так потому, что абьюзер может сколько угодно ходить по кругу, подбирая всё новые и новые обвинения в адрес партнёрши, нанося словесные удары по всем её уязвимым местам. Его ни в чём невозможно убедить, потому что он не хочет убеждаться, получая удовольствие от процесса, который для противоположной стороны чрезвычайно мучителен.
Абьюзеров принято обвинять в неумении считывать и понимать эмоции других людей. Однако, чтобы получать удовольствие от того, что нанёс болезненный психологический удар партнёрше, такое умение необходимо. Абьюзер не аутист, он прекрасно видит и понимает, что испытывает человек, страдающий по его вине.
Что происходит с женщиной в процессе циклического разговора? Прежде всего, жертва думает, что сказала что-то неправильное. И именно это послужило триггером для её любимого и любящего (как она уверена) мужчины. Потом несчастная считает, что недостаточно хорошо излагает свою точку зрения, пытается объяснять лучше, но под воздействием уводящих в сторону реплик абьюзера всё сильнее запутывается, из-за чего ещё больше кажется себе глупой и беспомощной. Наконец, она просто чувствует себя так, словно её избивают словами, и мечтает только о том, чтобы это прекратилось. Часто мучитель выбирает для циклических разговоров ночное время, и женщина после бессонной ночи напрочь лишена сил и бодрости, тогда как её «любимый» полон энергии.
Светлана Морозова
Со мной так нельзя! Каким бывает насилие и как его распознать
Партнёрша (П.): Давай посмотрим какой-нибудь фильм.
Абьюзер (А.): Давай. А какой ты хочешь?
П.: «Джокер».
А.: Это про того типа с уродливым лицом, да?
П.: Да. Его все хвалят.
А.: Это ты так мне намекаешь, да?
П.: На что?
А.: На то, что я урод.
П.: Что за ерунда, ты не урод!
А.: Ты меня обвиняешь в том, что я говорю ерунду? По-твоему, всё, что я говорю, ерунда?
П.: Слушай, ты не так понял…
А.: Ну да, конечно, я всегда всё не так понимаю. Не то что ты, правда? Ты-то очень хорошо всё поняла недавно, когда ругалась со своей матерью!
П.: При чём тут моя мама? И мы совсем не ругались, я ей просто сказала…
А.: Просто так орала на неё по телефону, что стены тряслись. (Передразнивает, кривляясь.) «Мама, отстань от него, пусть живёт как хочет!» Я думал, все соседи сбегутся!
П.: Но она меня просила повлиять на брата, чтобы он устроился на работу, а я ей пыталась объяснить, что это бесполезно…
А.: Конечно, бесполезно, когда за дело берётся такая тупая баба, как ты. Правильно твой брат тебя в детстве бил, только не пошло на пользу.
П.: (Плачет.) Как тебе не стыдно!
А.: Мне не стыдно? Да мне сил нет как стыдно, что я вляпался в такую гнилую семейку, как твоя! Что они с тобой делали, как тебя воспитывали? Я всего лишь хотел спокойно посмотреть фильм, а ты, как обычно, устроила целую трагедию на пустом месте!
Этот диалог – пример циклического разговора. Назван он так потому, что абьюзер может сколько угодно ходить по кругу, подбирая всё новые и новые обвинения в адрес партнёрши, нанося словесные удары по всем её уязвимым местам. Его ни в чём невозможно убедить, потому что он не хочет убеждаться, получая удовольствие от процесса, который для противоположной стороны чрезвычайно мучителен.
Абьюзеров принято обвинять в неумении считывать и понимать эмоции других людей. Однако, чтобы получать удовольствие от того, что нанёс болезненный психологический удар партнёрше, такое умение необходимо. Абьюзер не аутист, он прекрасно видит и понимает, что испытывает человек, страдающий по его вине.
Что происходит с женщиной в процессе циклического разговора? Прежде всего, жертва думает, что сказала что-то неправильное. И именно это послужило триггером для её любимого и любящего (как она уверена) мужчины. Потом несчастная считает, что недостаточно хорошо излагает свою точку зрения, пытается объяснять лучше, но под воздействием уводящих в сторону реплик абьюзера всё сильнее запутывается, из-за чего ещё больше кажется себе глупой и беспомощной. Наконец, она просто чувствует себя так, словно её избивают словами, и мечтает только о том, чтобы это прекратилось. Часто мучитель выбирает для циклических разговоров ночное время, и женщина после бессонной ночи напрочь лишена сил и бодрости, тогда как её «любимый» полон энергии.
Светлана Морозова
Со мной так нельзя! Каким бывает насилие и как его распознать
😢88💯32👍16❤4
Использование «отцовских квот» — не повсеместная практика, однако с каждым годом она становится более популярной, особенно в странах-флагманах в области родительских отпусков. Так, результаты исследования норвежских учёных продемонстрировали, что в 2015 г. 39% отцов в Норвегии воспользовались своим правом на отпуск. Ранее, когда «отцовских квот» не существовало, этот показатель составлял 4%.
Наиболее активное использование отпусков отцами отмечается в Швеции и Португалии — в 2019 г. доля «вовлечённых отцов» в этих странах составляла 76% и 77% соответственно. В России отцовский отпуск отсутствует, однако отцы вправе полностью или частично воспользоваться отпуском по уходу за ребёнком. Эта перспектива привлекает мало семей — в 2019 г. лишь 2% отцов пошли в отпуск по уходу за ребёнком вместо матери. Но такой низкий показатель связан не только с нежеланием отцов. Иногда работодатели отказывают отцам в праве на отпуск, ссылаясь на то, что это женская обязанность.
Слабый интерес мужчин к использованию родительских отпусков наблюдается не только в России. Практика показывает, что только малая часть европейских мужчин проводит в родительском отпуске больше времени, чем это предписано квотой. Квоты создают норму, согласно которой отцы должны находиться в родительском отпуске фиксированное количество времени. При этом оставшаяся часть отпуска может быть использована как матерью, так и отцом. Исследователи отмечают, что остаток отпуска используется преимущественно женщинами.
Наталья Бледнова
Родительский отпуск в системе социально-экономических процессов: теоретический обзор
Наиболее активное использование отпусков отцами отмечается в Швеции и Португалии — в 2019 г. доля «вовлечённых отцов» в этих странах составляла 76% и 77% соответственно. В России отцовский отпуск отсутствует, однако отцы вправе полностью или частично воспользоваться отпуском по уходу за ребёнком. Эта перспектива привлекает мало семей — в 2019 г. лишь 2% отцов пошли в отпуск по уходу за ребёнком вместо матери. Но такой низкий показатель связан не только с нежеланием отцов. Иногда работодатели отказывают отцам в праве на отпуск, ссылаясь на то, что это женская обязанность.
Слабый интерес мужчин к использованию родительских отпусков наблюдается не только в России. Практика показывает, что только малая часть европейских мужчин проводит в родительском отпуске больше времени, чем это предписано квотой. Квоты создают норму, согласно которой отцы должны находиться в родительском отпуске фиксированное количество времени. При этом оставшаяся часть отпуска может быть использована как матерью, так и отцом. Исследователи отмечают, что остаток отпуска используется преимущественно женщинами.
Наталья Бледнова
Родительский отпуск в системе социально-экономических процессов: теоретический обзор
💯47👍23🔥3
Важнейшим последствием охоты на ведьм была девальвация женского знания, во многом способствовавшая вытеснению женщин из оплачиваемой профессиональной деятельности. «Ведьма», или знахарка, выполняла в средневековом обществе функции акушерки, врача, ветеринара, метеоролога, геодезиста, парфюмера, психолога и т. д. В ходе охоты на ведьм произошла демонизация как образа знающей женщины в целом, так и умений, которыми она располагала. Знания «ведьм» объявлялись результатом сношений с дьяволом, а итоги их применения - последствием колдовства.
«Ей не ставили в вину то, чем она на самом деле занималась, то есть гадания, прорицания, исцеления, - вина ее изображалась в совершенно иных категориях - пакта с дьяволом, сожительства с ним, ночных полетов на шабаши, обо-ротничества, умерщвления младенцев с целью использования их плоти для изготовления колдовских снадобий».
Это порождало недоверие к ведьме и страх перед ней и ее искусством со стороны и без того угнетенных и запуганных людей. В результате демонстрировать свои знания и пользоваться ими стало опасно для жизни женщины и ее близких (она могла не выдержать пыток и назвать их как соучастников колдовства), и постепенно женская деятельность ограничилась домашним хозяйством, что не могло не отразиться на интеллектуальном уровне и социальном положении женщины. С. Федериччи называет несколько факторов, обусловивших дискредитацию женского профессионализма. Так, ведьмовские знания содержат сильный магический элемент, проповедующий связь человека и природы, основанную на их единстве, равноправии и взаимном уважении, не допускающую неуважения и насилия.
Подобные отношения человека и природы не соответствовали установке нарождающегося индустриального общества на получение прибыли через безграничное потребление и эксплуатацию природных ресурсов. Этому запросу капитализма в полной мере соответствовала экспериментальная наука, основанная на механистической картине мира, гарантирующая результат своей деятельности и исходящая из безжизненности природы. Это и обусловило гонения на разные формы ведовства. Подобные взгляды высказывали многие историки науки и философы, например, О. Шпенглер, назвавший эксперимент допросом природы с пристрастием, и Н. А. Бердяев, который отмечал, что «человек не мог научно познать природу и технически овладеть ею, пока природа представлялась ему населенной демонами и духами, от которых зависела его жизнь».
Еще один фактор, спровоцировавший гонения на ведьмовское знание, - тот факт, что знания эти получались и распространялись стихийно и потому не поддавались контролю со стороны властей и способствовали как саботажу распоряжений (особенно хорошо это видно на примере контроля рождаемости, о котором еще пойдет речь), так и прямому протесту.
Еще один важнейший фактор преследования умных и знающих женщин - стремление мужчин избавиться от конкуренции на рынке труда и закрепить за женщинами неоплачиваемый труд по воспроизводству рабочей силы. С. Федериччи замечает, что охота на ведьм шла параллельно с различными мерами капиталистов и государственной власти по вытеснению женщин с рынка наемного труда. В начале Нового времени было принято множество законов против профессиональной деятельности женщин. После Тридцатилетней войны в большинстве стран Европы им было запрещено получать статус мастера и входить в ремесленные цеха. Женщинам было запрещено учиться, занимать должности на государственной службе. Это было серьезным регрессом в их положении.
Ольга Мартынова
Сильвия Федериччи о роли охоты на ведьм в становлении капиталистического общества
«Ей не ставили в вину то, чем она на самом деле занималась, то есть гадания, прорицания, исцеления, - вина ее изображалась в совершенно иных категориях - пакта с дьяволом, сожительства с ним, ночных полетов на шабаши, обо-ротничества, умерщвления младенцев с целью использования их плоти для изготовления колдовских снадобий».
Это порождало недоверие к ведьме и страх перед ней и ее искусством со стороны и без того угнетенных и запуганных людей. В результате демонстрировать свои знания и пользоваться ими стало опасно для жизни женщины и ее близких (она могла не выдержать пыток и назвать их как соучастников колдовства), и постепенно женская деятельность ограничилась домашним хозяйством, что не могло не отразиться на интеллектуальном уровне и социальном положении женщины. С. Федериччи называет несколько факторов, обусловивших дискредитацию женского профессионализма. Так, ведьмовские знания содержат сильный магический элемент, проповедующий связь человека и природы, основанную на их единстве, равноправии и взаимном уважении, не допускающую неуважения и насилия.
Подобные отношения человека и природы не соответствовали установке нарождающегося индустриального общества на получение прибыли через безграничное потребление и эксплуатацию природных ресурсов. Этому запросу капитализма в полной мере соответствовала экспериментальная наука, основанная на механистической картине мира, гарантирующая результат своей деятельности и исходящая из безжизненности природы. Это и обусловило гонения на разные формы ведовства. Подобные взгляды высказывали многие историки науки и философы, например, О. Шпенглер, назвавший эксперимент допросом природы с пристрастием, и Н. А. Бердяев, который отмечал, что «человек не мог научно познать природу и технически овладеть ею, пока природа представлялась ему населенной демонами и духами, от которых зависела его жизнь».
Еще один фактор, спровоцировавший гонения на ведьмовское знание, - тот факт, что знания эти получались и распространялись стихийно и потому не поддавались контролю со стороны властей и способствовали как саботажу распоряжений (особенно хорошо это видно на примере контроля рождаемости, о котором еще пойдет речь), так и прямому протесту.
Еще один важнейший фактор преследования умных и знающих женщин - стремление мужчин избавиться от конкуренции на рынке труда и закрепить за женщинами неоплачиваемый труд по воспроизводству рабочей силы. С. Федериччи замечает, что охота на ведьм шла параллельно с различными мерами капиталистов и государственной власти по вытеснению женщин с рынка наемного труда. В начале Нового времени было принято множество законов против профессиональной деятельности женщин. После Тридцатилетней войны в большинстве стран Европы им было запрещено получать статус мастера и входить в ремесленные цеха. Женщинам было запрещено учиться, занимать должности на государственной службе. Это было серьезным регрессом в их положении.
Ольга Мартынова
Сильвия Федериччи о роли охоты на ведьм в становлении капиталистического общества
😢68👍28❤15💯5
Слово «прекариат» (англ. precarious нестабильный + proletariat пролетариат) служит обозначением всех тех, кто влачит неустроенное существование из-за отсутствия гарантий постоянного найма, довольствуясь периодическими заработками или неполной занятостью. Прекариат стал настолько неотъемлемой частью нашего, в остальном неолиберального, постмодернистского времени, что в 2011 году фигурировал как один из семи классов в Классовом опросе — большой работе по исследованию классовой структуры общества в Великобритании. Вслед за рубрикой «Элита» в исследовании перечислены «Состоявшийся средний класс», «Технический средний класс», «Новые состоятельные рабочие», «Развивающийся сектор обслуживания», «Традиционный рабочий» класс и, наконец, «Прекариат».
Деление на классы было проведено в зависимости от того, в какой степени опрошенные обладали не только состоянием или доходом, но и различными видами капитала. Экономический капитал включает доход, стоимость недвижимости и сбережения; культурный капитал включает в себя культурные интересы и активности; социальный капитал зависит от количества и статуса людей, с которыми вы знакомы.
Соответственно, социологи также спрашивали участников, занимаются ли они каким-либо из двадцати семи видов культурной активности, включая посещение оперы или тренажерного зала. Прекариат — самый обездоленный класс из всех, с низким уровнем экономического, культурного и социального капитала. У прекариата нет ложи в опере. «Люди склонны предполагать свою принадлежность к определенному классу на основании своей работы и дохода», — утверждали авторы исследования. «Это аспекты экономического капитала. Социологи считают, что ваша принадлежность к конкретному классу определяется вашим культурным и социальным капиталом».
Это переопределение класса в неолиберальную эпоху особенно важно для нас, поскольку подчеркивает культурную составляющую как детерминанту принадлежности к определенному классу. Неолиберализму, чтобы добиться успеха, необходимо было культурное движение, которое бы его поддерживало, — постмодернизм оказался в состоянии эту необходимость удовлетворить.
Такой вид классового анализа враждебен идеологии неолиберализма, который требует минимизации государства как предварительного условия индивидуальной свободы.
Стюарт Джеффрис
Всё, всегда, везде. Как мы стали постмодернистами
Деление на классы было проведено в зависимости от того, в какой степени опрошенные обладали не только состоянием или доходом, но и различными видами капитала. Экономический капитал включает доход, стоимость недвижимости и сбережения; культурный капитал включает в себя культурные интересы и активности; социальный капитал зависит от количества и статуса людей, с которыми вы знакомы.
Соответственно, социологи также спрашивали участников, занимаются ли они каким-либо из двадцати семи видов культурной активности, включая посещение оперы или тренажерного зала. Прекариат — самый обездоленный класс из всех, с низким уровнем экономического, культурного и социального капитала. У прекариата нет ложи в опере. «Люди склонны предполагать свою принадлежность к определенному классу на основании своей работы и дохода», — утверждали авторы исследования. «Это аспекты экономического капитала. Социологи считают, что ваша принадлежность к конкретному классу определяется вашим культурным и социальным капиталом».
Это переопределение класса в неолиберальную эпоху особенно важно для нас, поскольку подчеркивает культурную составляющую как детерминанту принадлежности к определенному классу. Неолиберализму, чтобы добиться успеха, необходимо было культурное движение, которое бы его поддерживало, — постмодернизм оказался в состоянии эту необходимость удовлетворить.
Такой вид классового анализа враждебен идеологии неолиберализма, который требует минимизации государства как предварительного условия индивидуальной свободы.
Стюарт Джеффрис
Всё, всегда, везде. Как мы стали постмодернистами
❤39👍18🔥6
«Я даже не знаю… я по жизни, так скажем, не чувствовала такого, чтобы мне не хватало… конечно сложно, все своими силами, но все достижимо было, мне особо не препятствовало, острого недостатка прав или несправедливости в отношении женщин не было. Сложно — да, несправедливости — нет, на себе не чувствовала точно. Видела иногда, но это и так было и есть… это уже не про права, наверно, просто, скорее, несправедливость к работникам вот в корпорациях, но это и со стороны мужчин-начальников, так и со стороны женщин тоже… это не так чтобы ущемление»
(Елена, 47 лет, 2 детей, менеджер по кадрам).
Неолиберальный фрейм предполагает правила рационального чувствования гендерного гражданства, связанные с рациональной оценкой своих усилий на рынке труда и полученного вознаграждения. В тех случаях, когда, с точки зрения респонденток, вознаграждение недостаточно, это означает, что они недостаточно старались или мало работали. Такие ситуации не становятся источником сожаления, разочарования и недовольства, они используются респондентками как способ нормализации институционально закрепленных неравенств на рынке труда.
В тех случаях, когда женщины смогли сделать успешную карьеру, эта ситуация воспринимается и описывается ими как личное везение, результат удачного стечения обстоятельств. Некоторым участницам исследования, представительницам данного поколения удалось сделать карьеру внутри международных корпораций, которые пришли на российские рынки в начале 1990-х, создав новые карьерные возможности и предложив профессиональный рост, начинающийся с низовых позиций секретарей и референтов и приведший участниц исследования на должности руководителей отделов и предприятий. Эти новые открывшиеся возможности участницы интерпретировали в категориях собственных достижений, а также и «удачи», которая случайно им выпала.
«Мне просто повезло, посчастливилось, что я росла в такой атмосфере, что, в принципе, с такими какими-то сложностями, трудностями я в жизни не сталкивалась»
(Наталья, 43 года, 1 ребенок, работает супервайзером).
«Я думаю, что есть неравенство, но мне всегда везло с начальниками-мужчинами. Они меня всегда поддерживали, давали возможность расти профессионально. Я им очень благодарна. А с такой прямой дискриминацией я никогда не сталкивалась»
(Ирина, 47 лет, 1 ребенок, работает специалистом в сфере управления школьным образованием).
В контексте развивающейся постсоветской капиталистической экономики личное везение и удачное стечение обстоятельств, которые позволили информанткам почувствовать свою исключительность в плане отсутствия
личного опыта переживания гендерной дискриминации на рынке труда, становится правилом фреймирования, позволяющим не применять к своему профессиональному опыту категории гендерного неравенства.
При этом в различных ситуациях повседневного взаимодействия женщины замечают проявление сексизма по отношению к себе. Например, автомобильная дорога, парковочные места, возможность беспрепятственного передвижения представляют собой в большом городе, перегруженном транспортом, ценный ресурс, за который автоводители часто непосредственно конкурируют между собой. Такая конкуренция интерпретируется респондентками в гендерных категориях:
«Единственное, с чем я сталкиваюсь почти ежедневно, — это “женщина за рулем”. Вот это меня бесит до невозможности, что все, если женщина за рулем, то… я все время так реагирую. Но у меня муж говорит, что я не вхожу в эту категорию, но, опять же… такое отношение предвзятое. Мужики, наоборот, плохо за рулем себя ведут»
(Наталья, 43 года, 1 ребенок, работает супервайзером).
Такие ситуации повседневного сексизма, связанного с конкуренцией за «общие вещи», оказываются сильно эмоционально окрашенными, вызывающими гнев и раздражение. Эти ситуации не вписываются в неолиберальный
фрейм усилий и вознаграждения, а потому не могут рационализироваться на уровне чувств
Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л.
Три режима гендерного гражданства: опыт восприятия социальной политики российскими женщинами трех поколений
💯74👍17❤3