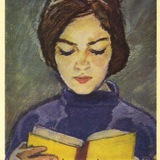Полевые испытания DSM – V показали, что в данном вопросе присутствует лишь «минимальная степень согласия», что означает: «психиатры высокой квалификации в условиях эксперимента единодушно приходили к выводу, что пациент страдает депрессивным расстройством, минимум в 4, максимум в 15 случаях из ста». Упомянутые нами полевые эксперименты позволили установить, что DSM – V лишь ухудшило текущее положение, наглядно показав рост шума «во всех важнейших областях, в частности в диагностике расстройств тревожно-депрессивного спектра… Степень ненадежности такова, что применение «Руководства…» на практике выглядит совершенно бессмысленным».
Основной причиной скромного успеха методических рекомендаций представляется очевидный факт: «в психиатрии диагностические критерии до сих пор расплывчаты, практическое применение их затруднено».
Даниэль Канеман, Оливье Сибони, Касс Р. Санстейн
Шум. Несовершенство человеческих суждений
Основной причиной скромного успеха методических рекомендаций представляется очевидный факт: «в психиатрии диагностические критерии до сих пор расплывчаты, практическое применение их затруднено».
Даниэль Канеман, Оливье Сибони, Касс Р. Санстейн
Шум. Несовершенство человеческих суждений
👍27😢21🔥7
Самыми проблемными областями в реализации социально-трудовых прав остаётся оплата труда и начало карьеры. По данным Рос-стата, разрыв в оплате труда мужчин над женщинами в России в 2019 году составил 27,9%, что существенно превышает среднемировой показатель -около 16-17%12, при этом разрыв варьируется от места работы и вида деятельности
Основные причины харассмента на рабочем месте покоятся в разнящихся представлениях о норме взаимоотношений как у мужчин, так и у женщин, в зависимости от материального благополучия, возраста. Более того, реплики и прикосновения в свой адрес каждый человек, согласно мнениям экспертов, воспринимает по-разному в зависимости от своих культурных и ценностных установок . Интересно заметить, что при определенных условиях человек склонен нормализовать непристойное поведение в свою сторону, даже при условии, что отрицательно к нему относится
Однако:
Таким образом, из-за финансовой зависимости от места работы, особенно при прочих обременяющих обстоятельствах (уход за детьми, больными родственниками, отсутствие других источников дохода и пр. ) люди вынуждено мирятся с харассментом на рабочем месте, возводя в приоритет заработную плату, стабильное финансовое положение .
В качестве причины, по которой женщины подвергаются харассменту на рабочем месте, названо также стереотипное распределение властных полномочий.
Таким образом, установка «начальник-подчиненный», где первый - чаще всего мужского пола, а второй - женского, создает в коллективе атмосферу превосходства и, в некоторых случаях, вседозволенности и безнаказанности
Милованова, М.Ю., Василевская, В.А.
Насилие и домогательства в сфере труда как проблема гендера
Основные причины харассмента на рабочем месте покоятся в разнящихся представлениях о норме взаимоотношений как у мужчин, так и у женщин, в зависимости от материального благополучия, возраста. Более того, реплики и прикосновения в свой адрес каждый человек, согласно мнениям экспертов, воспринимает по-разному в зависимости от своих культурных и ценностных установок . Интересно заметить, что при определенных условиях человек склонен нормализовать непристойное поведение в свою сторону, даже при условии, что отрицательно к нему относится
«Это проблематично именно для бедных. Если мы говорим о Москве и о том, что у девушки не получается строить карьеру из-за домогательств начальника - это одна проблема. Но когда мы говорим о матери-одиночке, которая работает в каком-нибудь ларьке без оформления и у нее проблемы с домогательствами, но она знает, что если она оттуда уйдет, то вообще никуда не устроится, она вообще будет это терпеть. Чтобы в этом выжить, люди говорят, что всегда так было и ничего с этим не сделаешь»
Однако:
«Что для старших поколений и зрелых людей норма, то для молодёжи уже неприемлемо»
Таким образом, из-за финансовой зависимости от места работы, особенно при прочих обременяющих обстоятельствах (уход за детьми, больными родственниками, отсутствие других источников дохода и пр. ) люди вынуждено мирятся с харассментом на рабочем месте, возводя в приоритет заработную плату, стабильное финансовое положение .
В качестве причины, по которой женщины подвергаются харассменту на рабочем месте, названо также стереотипное распределение властных полномочий.
«Это больше про власть. Просто уж так получается, что у нас властью располагают мужчины и они предпочитают распоряжаться этой властью через сексуализированное насилие».
«Если морального закона внутри нет, а правовая система тебя не защищает, то, конечно, начальник или работодатель может позволить себе всё, что угодно».
Таким образом, установка «начальник-подчиненный», где первый - чаще всего мужского пола, а второй - женского, создает в коллективе атмосферу превосходства и, в некоторых случаях, вседозволенности и безнаказанности
Милованова, М.Ю., Василевская, В.А.
Насилие и домогательства в сфере труда как проблема гендера
😢59👍13
Я много думаю над этой темой. Как она отражена в литературе и кинематографе. О плеяде страдающих от экзистенциальных драм мужчин - "Иванов" Чехова, герой ерофеевских "Москва-Петушки", герои советской драматургии и кинематографа 1960-80-х годов - Зилов, герои "Полетов во сне и наяву", "Осеннего марафона", и еще их сотня, это просто первое, что приходит на ум.
И представляю, могла ли быть на этом месте героиня. У которой ситуация не связана с любовной и семейной историей, а вот такие духовные искания. И предполагается ей сочувствовать. Нет, не могла бы. Даже в молодежных фильмах, где такие искания как бы нормализованы, девочки и девушки намертво привязаны к любовной ситуации, как козы на веревках к забору: "Наследница по прямой", "Спасатель", "Чужие письма".
Inna Sergienko
И представляю, могла ли быть на этом месте героиня. У которой ситуация не связана с любовной и семейной историей, а вот такие духовные искания. И предполагается ей сочувствовать. Нет, не могла бы. Даже в молодежных фильмах, где такие искания как бы нормализованы, девочки и девушки намертво привязаны к любовной ситуации, как козы на веревках к забору: "Наследница по прямой", "Спасатель", "Чужие письма".
Inna Sergienko
😢76💯18👍12❤4
Домогательства к официанткам, барменам, хостес со стороны клиентов воспринимаются опрошенными как данность, часть профессии.
Такой же позиции придерживается руководство. Вопросы о личной жизни, комментарии сексистского характера по поводу внешности или интеллекта, словесные оскорбления, попытки «познакомиться поближе» - противодействие харассменту такого рода находится в зоне ответственности официантки. В случае крайне навязчивого поведения она может обратиться за помощью к администратору или менеджеру. В случае нежелательного физического контакта (прикосновений, шлепков, удерживания за руку и т.д.) в ряде ресторанов официантка может обратиться к охране. В других заведениях охрана вмешается только в случае более серьезных форм насилия по отношению к сотруднице.
Распространенность домогательств со стороны клиентов зависит от типа ресторана, возрастает в вечернее и ночное время и чаще встречается со стороны лиц в состоянии алкогольного опьянения.
Одной из наиболее распространенных форм харассмента со стороны клиентов являются попытки завязать личные отношения (приглашения на свидание, просьбы дать телефон и т.д.). Этому способствует восприятие женщины-официантки как расположенной к такого рода знакомствам и «случайным связям». (В отношении мужчин-официантов могут быть провокационные выпады и грубые высказывания, но попытки «познакомиться» случаются редко.)
Мирясова Ольга
Насилие и домогательства в сфере труда в современной России на примере ресторанного бизнеса
«Мы не можем, конечно, повлиять на гостей, которые приходят, потому что… Ну, гости они и есть гости».
26 лет, опыт работы 10 лет, Санкт-Петербург
Такой же позиции придерживается руководство. Вопросы о личной жизни, комментарии сексистского характера по поводу внешности или интеллекта, словесные оскорбления, попытки «познакомиться поближе» - противодействие харассменту такого рода находится в зоне ответственности официантки. В случае крайне навязчивого поведения она может обратиться за помощью к администратору или менеджеру. В случае нежелательного физического контакта (прикосновений, шлепков, удерживания за руку и т.д.) в ряде ресторанов официантка может обратиться к охране. В других заведениях охрана вмешается только в случае более серьезных форм насилия по отношению к сотруднице.
Распространенность домогательств со стороны клиентов зависит от типа ресторана, возрастает в вечернее и ночное время и чаще встречается со стороны лиц в состоянии алкогольного опьянения.
«Если только хамское отношение, то мы сами решали проблему. «Х» тоже ночное
заведение. Но оно более приличное. Конечно, попадаются люди, которые при больших деньгах. Позволяют не очень хорошо себя вести. Ну, я просто стараюсь абстрагироваться от этого, не обращать внимание. Потому что это моя работа. С этим ничего не поделаешь»
(26 лет, опыт работы 6 лет, Белгородская область)
«Были сложные ситуации, да, когда это переходило границы, и ты понимаешь, что уже и ты дерзкое «нет» сказать не можешь, потому что будет конфликт. Либо ты просто уходишь, и тебя потом начинают требовать, чтоб ты вернулась к столу, общаться дальше — вот. Если по поводу прикосновений — то ты не даёшься, говоришь, что у нас тут нельзя трогать персонал. Ну, как бы ты… Если у нас тогда, в тот день, стояла охрана, ты можешь сказать, позвать охрану».
(26 лет, опыт работы 7 лет, Севастополь)
Одной из наиболее распространенных форм харассмента со стороны клиентов являются попытки завязать личные отношения (приглашения на свидание, просьбы дать телефон и т.д.). Этому способствует восприятие женщины-официантки как расположенной к такого рода знакомствам и «случайным связям». (В отношении мужчин-официантов могут быть провокационные выпады и грубые высказывания, но попытки «познакомиться» случаются редко.)
«Многочисленные ребята у нас, гости, думают, что… Я не знаю, кто, с какой стороны это была расположенность — со стороны девочек, которые пришли работать в эту сферу, либо со стороны людей... Кто их так, мужчин, избаловал — но они думали, что можно снять совершенно любую девочку-официантку и не думать о том, что она действительно просто работает. … Почти каждый гость вообще без проблем… предлагал познакомиться поближе. Ну как, каждый. Каждый второй, скажем так. Мог просто даже задать вопрос. Попробовать свой шанс. «За спрос не бьют в нос» — ну, я спрошу.»
(26 лет, опыт работы 7 лет, Севастополь)
Мирясова Ольга
Насилие и домогательства в сфере труда в современной России на примере ресторанного бизнеса
😢94💯14
Если правильно быть мужчиной и неправильно быть женщиной, то все, что сделано мужчиной против женщины, с целью удовлетворения и оправдания его страсти и половой идентичности является справедливым и нормальным в рамках этики изнасилования.
Причина изнасилования, в дополнение к физическому акту реализации мужской половой идентичности, может трактоваться, также и как стремление к моральному уничтожению личности. В акте изнасилования этическая структура мужского «правильного» и «неправильного» разрушает личность жертвы, расщепляет ее знание поступков и их последствий, отношений между «Я» и действиями. Жертва начинает относиться к себе как к виновнице нападения, возможно извиняя насильника и беря всю вину на себя. Результатом насилия может стать разрыв связей между собственным «Я» и реальными поступками, появление нового «затмения» рассудка и чувств, действительно необходимых для рационального принятия решений, осознанных действий и моральных оценок. С другой стороны, насильник впадает в состояние, требующее повторения насилия снова и снова. Насильники часто свидетельствуют, что они чувствуют себя крайне плохо перед свершением акта изнасилования и для того, чтобы избавиться от беспокойства, нервозности и прочих негативных состояний они вынуждены совершать насилие. Они утверждают, что насилие само по себе стимулирует, дает наслаждение и радость. Можно сказать, что уничтожение «Я» жертвы является предпосылкой утверждения «Я» насильника - динамика, повторяющаяся в любом акте внутри этической структуры мужской половой идентичности.
Достаточно часто действия, связанные с этикой изнасилования совершаются как бы в состоянии «потери сознания» или контроля над собою. Истории многих женщин повторяют типичный сюжет: мужья, сексуальные партнеры часто после избиения или насилия выражают сожаление по поводу случившегося, находя необходимые слова для объяснения своих действий. В этом смысле сожаления, чувство вины, угрызения совести входят, кажется, в противоречие с основным принципом этики изнасилования, согласно которому женщина является виновницей насилия. На самом деле все слова и действия насильника, в данном случае, есть как бы род древних ритуальных танцев раскаяния после совершения определенных актов, особенно таких грубых, как насилие, через которые мужчины осознают свою половую идентичность. Рефрен за рефреном в этих ритуальных танцах звучит ритм: «я сожалею, я не помнил, что я делал, я никогда не сделаю тебе больно впредь» и т.д.
Какова же эротическая субструктура этого моментального перехода от насилия и оскорбления к угрызениям совести? Как можно понять, что же однажды случается с мужчиной, который терроризировал, унижал и оскорблял женщину и затем неожиданно изменяется? И что же представляем собою мы, женщины, прощающие насильника и идущие ему навстречу в поисках примирения или «понимания» его поступков? В конце концов, есть ли в этике изнасилования такая вещь как подлинное моральное осознание действительных последствий действий одного человека по отношению к другому актуальному человеческому бытию?
Ответ, думается, - нет. Для тех, кто стремится к мужской половой идентичности, всегда существует критическая проблема управления собственными желаниями так, чтобы всегда иметь возможность поддерживать свое «Я». Взывание к прощению в рамках этики изнасилования играет роль ловушки, которая захлопывается за любой женщиной, которая хотела бы остановить насилие по отношению к себе. Прощение есть форма продолжения отношений с насильником. Тот, кто живет по правилам этики изнасилования, рискует стать объектом принуждения и насильственной страсти по «моральным» соображениям. Прощение возвращает женщину назад, к виктимизации, а мужская половая идентичность без таких отношений теряет свою патриархальную сущность.
Причина изнасилования, в дополнение к физическому акту реализации мужской половой идентичности, может трактоваться, также и как стремление к моральному уничтожению личности. В акте изнасилования этическая структура мужского «правильного» и «неправильного» разрушает личность жертвы, расщепляет ее знание поступков и их последствий, отношений между «Я» и действиями. Жертва начинает относиться к себе как к виновнице нападения, возможно извиняя насильника и беря всю вину на себя. Результатом насилия может стать разрыв связей между собственным «Я» и реальными поступками, появление нового «затмения» рассудка и чувств, действительно необходимых для рационального принятия решений, осознанных действий и моральных оценок. С другой стороны, насильник впадает в состояние, требующее повторения насилия снова и снова. Насильники часто свидетельствуют, что они чувствуют себя крайне плохо перед свершением акта изнасилования и для того, чтобы избавиться от беспокойства, нервозности и прочих негативных состояний они вынуждены совершать насилие. Они утверждают, что насилие само по себе стимулирует, дает наслаждение и радость. Можно сказать, что уничтожение «Я» жертвы является предпосылкой утверждения «Я» насильника - динамика, повторяющаяся в любом акте внутри этической структуры мужской половой идентичности.
Достаточно часто действия, связанные с этикой изнасилования совершаются как бы в состоянии «потери сознания» или контроля над собою. Истории многих женщин повторяют типичный сюжет: мужья, сексуальные партнеры часто после избиения или насилия выражают сожаление по поводу случившегося, находя необходимые слова для объяснения своих действий. В этом смысле сожаления, чувство вины, угрызения совести входят, кажется, в противоречие с основным принципом этики изнасилования, согласно которому женщина является виновницей насилия. На самом деле все слова и действия насильника, в данном случае, есть как бы род древних ритуальных танцев раскаяния после совершения определенных актов, особенно таких грубых, как насилие, через которые мужчины осознают свою половую идентичность. Рефрен за рефреном в этих ритуальных танцах звучит ритм: «я сожалею, я не помнил, что я делал, я никогда не сделаю тебе больно впредь» и т.д.
Какова же эротическая субструктура этого моментального перехода от насилия и оскорбления к угрызениям совести? Как можно понять, что же однажды случается с мужчиной, который терроризировал, унижал и оскорблял женщину и затем неожиданно изменяется? И что же представляем собою мы, женщины, прощающие насильника и идущие ему навстречу в поисках примирения или «понимания» его поступков? В конце концов, есть ли в этике изнасилования такая вещь как подлинное моральное осознание действительных последствий действий одного человека по отношению к другому актуальному человеческому бытию?
Ответ, думается, - нет. Для тех, кто стремится к мужской половой идентичности, всегда существует критическая проблема управления собственными желаниями так, чтобы всегда иметь возможность поддерживать свое «Я». Взывание к прощению в рамках этики изнасилования играет роль ловушки, которая захлопывается за любой женщиной, которая хотела бы остановить насилие по отношению к себе. Прощение есть форма продолжения отношений с насильником. Тот, кто живет по правилам этики изнасилования, рискует стать объектом принуждения и насильственной страсти по «моральным» соображениям. Прощение возвращает женщину назад, к виктимизации, а мужская половая идентичность без таких отношений теряет свою патриархальную сущность.
💯40😢27❤6👍3
Обычное, часто высказываемое суждение «когда женщина теряет женственность, как же мужчина может оставаться мужчиной» есть подтверждение того, что мужская идентичность может существовать только за счет сравнения с женщиной как «недостаточным мужчиной». Непрощение женской самоопределенности, побуждающей женщину отказаться быть такой, какой ей предписывает быть традиционная культура, есть наказание женщины и ее уничтожение. Женщина перестает быть женщиной, если мужчина не может ее определить.
Прощение, требуемое от женщины после насилия, есть ни что иное, как неготовность мужчины оставаться в противоположности к мужскому, для чего ему требуется, чтобы женщина представляла его, оставалась «в-отношении-к нему» как к полноценному бытию. Женское милосердие и прощение есть эмблема подчинения женщины этике изнасилования.
Людмила Ерохина
Миф о женской покорности или этика насилия
Прощение, требуемое от женщины после насилия, есть ни что иное, как неготовность мужчины оставаться в противоположности к мужскому, для чего ему требуется, чтобы женщина представляла его, оставалась «в-отношении-к нему» как к полноценному бытию. Женское милосердие и прощение есть эмблема подчинения женщины этике изнасилования.
Людмила Ерохина
Миф о женской покорности или этика насилия
❤57😢28💯17👍4
Мобильные телефоны стали вплотную ассоциироваться с чрезвычайными ситуациями после 11 сентября 2001 года. В тот день школьников поместили в подвальные убежища, где не было общественных телефонов-автоматов, и тогда родители поклялись, что “больше никогда” не позволят детям быть настолько оторванными от них. У детей должны быть мобильные телефоны. Когда я беседую с группой, состоящей из четырнадцати студентов одного из университетов Новой Англии (в 2001-м они учились в начальной школе), выясняется, что для них мир изменился 11 сентября и в каком-то смысле больше не был прежним. Эти студенты рассказывают о жизни в “культуре катастрофы”. Одна старшекурсница, которая, по ее собственному признанию, “всегда спит с телефоном”, замечает: “В новостях на всех каналах ежедневно преобладают катастрофы”.
Студенты из группы четырнадцати подробно описывают свои впечатления: если судить по картинке в СМИ, мир – это цепь чрезвычайных ситуаций, каждую из которых мы можем преодолеть одну за другой. События с давней общественно-политической историей представляются как особенные, необычные, “из ряда вон выходящие”: крупные разливы нефти, массовая стрельба, жертвами которой становятся ученики младших классов и их учителя, экстремальная погода – все эти события по большей части преподносятся как катастрофические. Вы уже знаете, что разговор идет на языке катастрофы, когда ваше внимание привлекают на короткое время. В культуре катастрофы каждый чувствует себя частью чрезвычайной ситуации, но наше волнение направляют в определенное русло, предлагая сделать пожертвование или подписаться на веб-сайт.
В чрезвычайной ситуации проблемы нужно решать в порядке поступления. Даже такие проблемы, как глобальные изменения климата или халатность в отношении жизненно важных объектов, освещаются СМИ как стихийные бедствия, с которыми и бороться нужно как со стихийными бедствиями. Событие с политической подоплекой и определенным направлением развития превращают в нечто, требующее мгновенной реакции, но вовсе не обязательно – анализа. Кажется, что катастрофа не нуждается в законодательной базе. Ей нужны только облегчение страданий и молитвы.
Для четырнадцати студентов из Новой Англии жизнь в культуре катастрофы предполагает, что они справляются с трудностями посредством связи. Сталкиваясь с ситуацией, воспринятой как чрезвычайная, человек стремится использовать социальные сети, чтобы объединиться со своими друзьями.
Двадцатитрехлетний студент, учившийся в средней школе во времена 11 сентября, признается: “Мы не можем ничего сделать с большинством чрезвычайных ситуаций, освещаемых СМИ. Мы не знаем, что и как предпринять, чтобы улучшить создавшееся положение”. Признание студента позволяет нам лучше представить, как взвинченное “я” пытается сориентироваться в медиапотоке плохих новостей: узнав о чем-либо, человек начинает нервничать и спешит выйти в сеть.
В катастрофах присутствует отзвук стихийных бедствий. Мы не можем предвидеть, что они с нами произойдут. Когда терроризм преподносят как некую напасть (а такое происходит нередко), получается, что его отделяют от породившей его истории, и тогда он превращается в природный катаклизм, злую силу, а не то, с чем можно справиться политическим способом или путем пересмотра исторических корней этого явления. Если воспринимать террор как природный катаклизм, нам только и остается, что убивать террористов.
Если вы называете что-то катастрофой, к этому особо нечего добавить. Если же вы сталкиваетесь с ситуацией, которая видится вам результатом действий человека, то сказать по этому поводу можно очень и очень многое. В таком случае вы можете требовать отчета. Вам нужно разобраться в причинах. Вы обдумываете возможные действия. Тут нужна беседа – и далеко не одна.
Студенты из группы четырнадцати подробно описывают свои впечатления: если судить по картинке в СМИ, мир – это цепь чрезвычайных ситуаций, каждую из которых мы можем преодолеть одну за другой. События с давней общественно-политической историей представляются как особенные, необычные, “из ряда вон выходящие”: крупные разливы нефти, массовая стрельба, жертвами которой становятся ученики младших классов и их учителя, экстремальная погода – все эти события по большей части преподносятся как катастрофические. Вы уже знаете, что разговор идет на языке катастрофы, когда ваше внимание привлекают на короткое время. В культуре катастрофы каждый чувствует себя частью чрезвычайной ситуации, но наше волнение направляют в определенное русло, предлагая сделать пожертвование или подписаться на веб-сайт.
В чрезвычайной ситуации проблемы нужно решать в порядке поступления. Даже такие проблемы, как глобальные изменения климата или халатность в отношении жизненно важных объектов, освещаются СМИ как стихийные бедствия, с которыми и бороться нужно как со стихийными бедствиями. Событие с политической подоплекой и определенным направлением развития превращают в нечто, требующее мгновенной реакции, но вовсе не обязательно – анализа. Кажется, что катастрофа не нуждается в законодательной базе. Ей нужны только облегчение страданий и молитвы.
Для четырнадцати студентов из Новой Англии жизнь в культуре катастрофы предполагает, что они справляются с трудностями посредством связи. Сталкиваясь с ситуацией, воспринятой как чрезвычайная, человек стремится использовать социальные сети, чтобы объединиться со своими друзьями.
Двадцатитрехлетний студент, учившийся в средней школе во времена 11 сентября, признается: “Мы не можем ничего сделать с большинством чрезвычайных ситуаций, освещаемых СМИ. Мы не знаем, что и как предпринять, чтобы улучшить создавшееся положение”. Признание студента позволяет нам лучше представить, как взвинченное “я” пытается сориентироваться в медиапотоке плохих новостей: узнав о чем-либо, человек начинает нервничать и спешит выйти в сеть.
В катастрофах присутствует отзвук стихийных бедствий. Мы не можем предвидеть, что они с нами произойдут. Когда терроризм преподносят как некую напасть (а такое происходит нередко), получается, что его отделяют от породившей его истории, и тогда он превращается в природный катаклизм, злую силу, а не то, с чем можно справиться политическим способом или путем пересмотра исторических корней этого явления. Если воспринимать террор как природный катаклизм, нам только и остается, что убивать террористов.
Если вы называете что-то катастрофой, к этому особо нечего добавить. Если же вы сталкиваетесь с ситуацией, которая видится вам результатом действий человека, то сказать по этому поводу можно очень и очень многое. В таком случае вы можете требовать отчета. Вам нужно разобраться в причинах. Вы обдумываете возможные действия. Тут нужна беседа – и далеко не одна.
💯48👍9🔥3
Гораздо проще оказаться лицом к лицу с чрезвычайной ситуацией, нежели вести такие сложные беседы. Оказавшись в режиме кризиса, мы позволяем себе откладывать на потом беседы, необходимые для политических действий. И в настоящий момент наша политика буквально вопиет о беседах, которые мы слишком долго откладывали на потом: это беседы о том, что значит быть собой и гражданином в мире больших данных.
Шерри Тёркл
Живым голосом. Зачем в цифровую эру говорить и слушать
Шерри Тёркл
Живым голосом. Зачем в цифровую эру говорить и слушать
💯53👍5🔥1
На рубеже 1970-х годов гендерная политика загнала чернокожих женщин в ловушку. В то время как белые женщины уходили из движения за гражданские права, чтобы начать работать на освобождение женщин, чернокожие женщины разрывались между преданностью делу освобождения чернокожих и стремлением к гендерному равенству, как в движении, так и во всем мире.
В отличие от некоторых белых женщин, которые демонизировали белых мужчин, считая их угнетателями, чернокожие женщины не испытывали неприязни к мужчинам своей расы, а, напротив, надеялись на то, что им будут созданы условия для полноправного участия в жизни общества. Кроме того, их позиция в отношении абортов отличалась от воззрений белых женщин, учитывая, что движение за контроль над рождаемостью исторически перекликалось с евгеникой.
Маргарет Сэнгер, основавшая первую клинику по контролю над рождаемостью, была сторонницей отрицательной евгеники. Чернокожих женщин подвергали принудительной стерилизации и заставляли делать аборты вне зависимости от того, в каком статусе — рабынь или свободных гражданок — они находились. И в то же время чернокожих женщин злили некоторые указания выдающихся чернокожих мужчин, например Амири Барака, который наставлял их, утверждая, что они должны быть покорными, женственными и плодовитыми; по словам Гиддингс, если бы определенные лидеры Black Power добились своего, чернокожие женщины были бы «политически разутыми и в буквальном смысле беременными». Чернокожим женщинам были нужны собственные институты и манифесты, которые выразили бы их позицию.
В 1970 году чернокожая писательница Тони Кейд (Тони Кейд Бамбара) опубликовала антологию под названием «Черная женщина». Этот сборник стихов, рассказов и эссе, написанный чернокожими женщинами, демонстрировал и объяснял те роли, которые они могут взять на себя в освободительном движении эпохи. В эссе «О проблеме ролей» Кейд утверждала, что обычное «разделение ролей по половому признаку является преградой для политической сознательности» и что революционная личность должна обладать «абсолютной автономией».
В своем эссе для сборника Фрэнсис Бил сформулировала понятие для обозначения уникального, замкнутого вида угнетения, с которым сталкиваются чернокожие женщины, — «двойная угроза» (теория интерсекцинальности avant la lettre). А Уолкер опубликовала в сборнике рассказ «Дневник африканской монахини», в котором критиковались религия и поощряемое ею угнетение. «Если вы вчитаетесь в эту книгу, то зададитесь вопросом, почему черные националисты не сбросили на Тони атомную бомбу», — размышляла поэтесса Хэтти Госсетт, подруга Бамбары. Книга наглядно показала, что чернокожие женщины больше не останутся на вторых ролях в революционных движениях. Они слишком долго служили другим. Их момент настал.
Эта антология стала первой в серии революционных трудов для чернокожих феминисток. В 1970-х и 1980-х такие теоретики, как Одри Лорд (которая содействовала изданию «Черной женщины»), белл хукс и Барбара Смит выступили как ведущие деятельницы феминистского движения чернокожих женщин.
В 1974 году Тони Моррисон совместно с редакторами и коллекционерами создала «Черную книгу» — сборник фотографий, статей, зарисовок и других образцов материальной культуры афроамериканцев. В эти десятилетия свет увидели и более радикальные антологии, такие как «Все женщины — белые, все черные — мужчины, но некоторые из нас смелые» (1982), и была основана издательская организация «Кухонный стол: издательство цветных женщин», созданная цветными женщинами для цветных женщин.
В начале 1980-х годов в издательстве «Кухонный стол» будут опубликованы две важные антологии: «Этот мост — моя спина: тексты радикальных цветных женщин» Черри Морага и Глории Анзальдуа и «Домашние девочки: антология чернокожих феминисток» Барбары Смит. Для многих чернокожих активисток печатная культура была политикой: писать о жизни афроамериканок, представлять этот опыт, создавать пространство для этих историй уже было политической работой.
Мэгги Доэрти
Равноправные
История искусства, женской дружбы и эмансипации в 1960-х
В отличие от некоторых белых женщин, которые демонизировали белых мужчин, считая их угнетателями, чернокожие женщины не испытывали неприязни к мужчинам своей расы, а, напротив, надеялись на то, что им будут созданы условия для полноправного участия в жизни общества. Кроме того, их позиция в отношении абортов отличалась от воззрений белых женщин, учитывая, что движение за контроль над рождаемостью исторически перекликалось с евгеникой.
Маргарет Сэнгер, основавшая первую клинику по контролю над рождаемостью, была сторонницей отрицательной евгеники. Чернокожих женщин подвергали принудительной стерилизации и заставляли делать аборты вне зависимости от того, в каком статусе — рабынь или свободных гражданок — они находились. И в то же время чернокожих женщин злили некоторые указания выдающихся чернокожих мужчин, например Амири Барака, который наставлял их, утверждая, что они должны быть покорными, женственными и плодовитыми; по словам Гиддингс, если бы определенные лидеры Black Power добились своего, чернокожие женщины были бы «политически разутыми и в буквальном смысле беременными». Чернокожим женщинам были нужны собственные институты и манифесты, которые выразили бы их позицию.
В 1970 году чернокожая писательница Тони Кейд (Тони Кейд Бамбара) опубликовала антологию под названием «Черная женщина». Этот сборник стихов, рассказов и эссе, написанный чернокожими женщинами, демонстрировал и объяснял те роли, которые они могут взять на себя в освободительном движении эпохи. В эссе «О проблеме ролей» Кейд утверждала, что обычное «разделение ролей по половому признаку является преградой для политической сознательности» и что революционная личность должна обладать «абсолютной автономией».
В своем эссе для сборника Фрэнсис Бил сформулировала понятие для обозначения уникального, замкнутого вида угнетения, с которым сталкиваются чернокожие женщины, — «двойная угроза» (теория интерсекцинальности avant la lettre). А Уолкер опубликовала в сборнике рассказ «Дневник африканской монахини», в котором критиковались религия и поощряемое ею угнетение. «Если вы вчитаетесь в эту книгу, то зададитесь вопросом, почему черные националисты не сбросили на Тони атомную бомбу», — размышляла поэтесса Хэтти Госсетт, подруга Бамбары. Книга наглядно показала, что чернокожие женщины больше не останутся на вторых ролях в революционных движениях. Они слишком долго служили другим. Их момент настал.
Эта антология стала первой в серии революционных трудов для чернокожих феминисток. В 1970-х и 1980-х такие теоретики, как Одри Лорд (которая содействовала изданию «Черной женщины»), белл хукс и Барбара Смит выступили как ведущие деятельницы феминистского движения чернокожих женщин.
В 1974 году Тони Моррисон совместно с редакторами и коллекционерами создала «Черную книгу» — сборник фотографий, статей, зарисовок и других образцов материальной культуры афроамериканцев. В эти десятилетия свет увидели и более радикальные антологии, такие как «Все женщины — белые, все черные — мужчины, но некоторые из нас смелые» (1982), и была основана издательская организация «Кухонный стол: издательство цветных женщин», созданная цветными женщинами для цветных женщин.
В начале 1980-х годов в издательстве «Кухонный стол» будут опубликованы две важные антологии: «Этот мост — моя спина: тексты радикальных цветных женщин» Черри Морага и Глории Анзальдуа и «Домашние девочки: антология чернокожих феминисток» Барбары Смит. Для многих чернокожих активисток печатная культура была политикой: писать о жизни афроамериканок, представлять этот опыт, создавать пространство для этих историй уже было политической работой.
Мэгги Доэрти
Равноправные
История искусства, женской дружбы и эмансипации в 1960-х
❤53👍5
Который день, узнав о деле Пелико, размышляю, что не так с мужчинами. Как вышло, что десятки вполне адаптированных, социализированных людей не видят ничего зазорного в том, чтобы насиловать находящуюся в беспамятстве женщину. Размышляю больше не из терапевтического, а из человеческого своего опыта, памятуя, конечно, о его ограниченности. Поскольку я общаюсь с мужчинами 45-55 лет, с доходом выше среднего, семейными и с детьми, то про них и напишу.
Я замечаю их поразительно низкий интерес к самим себе. Кто я, какой я, как я проживаю происходящее со мной, что во мне меняется, а что нет — все эти вопросы как будто если и задевают, то либо в минимальной степени, либо под определённым углом. А именно — «нормальный ли я мужик».
Критерии нормы будут разные, начиная от потенции и заканчивая достатком. Для кого-то основной показатель — традиционная сексуальная ориентация. Ещё кто-то опирается на готовность вступить, если что, в драку. В список попадают и забота о потомстве — например, возможность оплачивать детям качественное обучение или медпомощь. В целом же тенденция такова: если в графе «нормальный мужик» стоит галочка, то дальнейшее самоисследование как будто кажется избыточным.
Проблески внимания к себе приходят, по моим наблюдениям, вместе с серьёзными проблемами со здоровьем. Проблемы появляются не вдруг, но мужчины предпочитают отмахиваться до последнего. И даже когда дело уже совсем дрянь, мой герой сперва бросится искать волшбеную таблетку или заговор, чтобы всё вернуть как было («как было» — это главная мотивация вопреки той очевидности, что в ту же реку не войти никогда). А далее большинство ограничится минимальной лекарственной поддержкой, и только единицы пересмотрят режим питания, урежут алкоголь, и, возможно, начнут больше двигаться. Возможно, кто-то из этих единиц даже дойдёт до психолога, но не факт, что удержится в терапии.
И вот почему.
Многолетнее отсутствие интереса к собственному устройству оставляет психический аппарат недоразвившимся, поскольку развивается он именно через самоисследование. Человек себя не слышит и не распознаёт; он нечувствителен к эмоциям и плохо отличает их от телесных сигналов и мыслей. Различению поддаются лишь два состояния «всё ок» и «что-то не так», но что именно не так — объяснить уже сложно, потому что тут надо поддерживать внутренний диалог, а это нежелательно — не по-мужски. Далее, раз трудно дифференцировать чувства, мысли и ощущения, почти невозможно и удерживать метапозицию «я замечаю, что...». Более того, попытки вывести на метапозицию нередко вызывают у мужчины протест, который можно сформулировать как «я и не желаю замечать». На этом уровне отсуствие интереса к себе перерождается в уверенное смещение локуса контроля вовне: это другие такие, это жизнь такая, а со мной всё в порядке, и если ты, психолог, ставишь это под сомнение — ты враг.
Внешний локус контроля, кстати, ярко виден у мужчин-авторов насилия. Они не замечают противоречия между своими убеждениями «я мужик, я всё решаю сам» и «это она меня довела».
Придя к психологу, мужчина часто хочет быть объектом небольшого ремонта и, узнав, что так не выйдет, разочаровывается. И его разочарование понятно: ему нечем работать, инструментарий не развит, и его предстоит развивать прежде чем, собственно, начнётся терапия (недаром Холлис упоминает, что мужчине требуется примерно год на достижение того уровня, с которого начинается терапия у женщины). Вопросы «что ты чувствуешь?», «что замечаешь в теле?», «как на это можно ещё посмотреть?» кажутся возмутительно глупыми, поскольку поначалу единственно доступные ответы — «ничего» и «никак». Поэтому в терапии не удерживаются.
Но понимаете, как невозможно перейти к позднему Бетховену, пропустив этап этюдов Лешгорна, так и невозможно дойти до контакта с ценностным и смысловым слоями в себе, не научившись различать, спину у тебя защемило или тревожность разыгралась. Как и везде, мы проходит путь от простого к сложному, а нравственные ориентиры, безусловно, это сложные, глубокие образования.
Я замечаю их поразительно низкий интерес к самим себе. Кто я, какой я, как я проживаю происходящее со мной, что во мне меняется, а что нет — все эти вопросы как будто если и задевают, то либо в минимальной степени, либо под определённым углом. А именно — «нормальный ли я мужик».
Критерии нормы будут разные, начиная от потенции и заканчивая достатком. Для кого-то основной показатель — традиционная сексуальная ориентация. Ещё кто-то опирается на готовность вступить, если что, в драку. В список попадают и забота о потомстве — например, возможность оплачивать детям качественное обучение или медпомощь. В целом же тенденция такова: если в графе «нормальный мужик» стоит галочка, то дальнейшее самоисследование как будто кажется избыточным.
Проблески внимания к себе приходят, по моим наблюдениям, вместе с серьёзными проблемами со здоровьем. Проблемы появляются не вдруг, но мужчины предпочитают отмахиваться до последнего. И даже когда дело уже совсем дрянь, мой герой сперва бросится искать волшбеную таблетку или заговор, чтобы всё вернуть как было («как было» — это главная мотивация вопреки той очевидности, что в ту же реку не войти никогда). А далее большинство ограничится минимальной лекарственной поддержкой, и только единицы пересмотрят режим питания, урежут алкоголь, и, возможно, начнут больше двигаться. Возможно, кто-то из этих единиц даже дойдёт до психолога, но не факт, что удержится в терапии.
И вот почему.
Многолетнее отсутствие интереса к собственному устройству оставляет психический аппарат недоразвившимся, поскольку развивается он именно через самоисследование. Человек себя не слышит и не распознаёт; он нечувствителен к эмоциям и плохо отличает их от телесных сигналов и мыслей. Различению поддаются лишь два состояния «всё ок» и «что-то не так», но что именно не так — объяснить уже сложно, потому что тут надо поддерживать внутренний диалог, а это нежелательно — не по-мужски. Далее, раз трудно дифференцировать чувства, мысли и ощущения, почти невозможно и удерживать метапозицию «я замечаю, что...». Более того, попытки вывести на метапозицию нередко вызывают у мужчины протест, который можно сформулировать как «я и не желаю замечать». На этом уровне отсуствие интереса к себе перерождается в уверенное смещение локуса контроля вовне: это другие такие, это жизнь такая, а со мной всё в порядке, и если ты, психолог, ставишь это под сомнение — ты враг.
Внешний локус контроля, кстати, ярко виден у мужчин-авторов насилия. Они не замечают противоречия между своими убеждениями «я мужик, я всё решаю сам» и «это она меня довела».
Придя к психологу, мужчина часто хочет быть объектом небольшого ремонта и, узнав, что так не выйдет, разочаровывается. И его разочарование понятно: ему нечем работать, инструментарий не развит, и его предстоит развивать прежде чем, собственно, начнётся терапия (недаром Холлис упоминает, что мужчине требуется примерно год на достижение того уровня, с которого начинается терапия у женщины). Вопросы «что ты чувствуешь?», «что замечаешь в теле?», «как на это можно ещё посмотреть?» кажутся возмутительно глупыми, поскольку поначалу единственно доступные ответы — «ничего» и «никак». Поэтому в терапии не удерживаются.
Но понимаете, как невозможно перейти к позднему Бетховену, пропустив этап этюдов Лешгорна, так и невозможно дойти до контакта с ценностным и смысловым слоями в себе, не научившись различать, спину у тебя защемило или тревожность разыгралась. Как и везде, мы проходит путь от простого к сложному, а нравственные ориентиры, безусловно, это сложные, глубокие образования.
🔥62❤15👍15💯13
И тогда получается, что мужчина, пусть и обременённый высоким IQ, рискует остаться в психологическом плане на уровне ребёнка с задержкой развития. Того ребёнка, который мучает кошку, не понимая, что здесь не так. Нет, он не хочет ничего плохого, нет, он не продумал заранее свой злодейский замысел. Он просто не задавался вопросами, кто он сам в этой ситуации и каково в ней кошке (накачанной транквилизаторами женщине). Ибо, если ты отказываешься слышать себя, откуда бы взяться умению слышать другого?
Тут, на мой взгляд, и кроется одно из главных различий в психологии мужчин и женщин моего поколения. Женщина идёт к психологу с вопросом «что со мной не так»: её взгляд обращён внутрь, её боль побуждает к ревизии собственного психического аппарата. Сама интенция «разобраться с собой» предполагает, что есть та, с кем надо разобраться, и та, кто готова это делать — то есть, метапозицию. И презумция недоверия себе, которая, конечно, совсем нехороша, может в конце концов обернуться благом. Мужчина же приходит с запросом «почините меня, но так, чтобы я в этом не участвовал». Он не желает на себя смотреть, и у него есть множество способов, чтобы встречи с собой никогда не произошло.
Дело Пелико поднимает разные вопросов — про злоупотребление властью, доминирование и агрессию, про сведению женщины к телу, коим допустимо пользоваться. Мне сейчас было важным показать лишь одну грань системного сбоя — а именно, как безобидное на первый взгляд нежелание «копаться в себе» может привести к тому, что однажды мужчина не выкопает те ценности, которые помогут ему не стать мерзавцем.
Оксана Фадеева
Тут, на мой взгляд, и кроется одно из главных различий в психологии мужчин и женщин моего поколения. Женщина идёт к психологу с вопросом «что со мной не так»: её взгляд обращён внутрь, её боль побуждает к ревизии собственного психического аппарата. Сама интенция «разобраться с собой» предполагает, что есть та, с кем надо разобраться, и та, кто готова это делать — то есть, метапозицию. И презумция недоверия себе, которая, конечно, совсем нехороша, может в конце концов обернуться благом. Мужчина же приходит с запросом «почините меня, но так, чтобы я в этом не участвовал». Он не желает на себя смотреть, и у него есть множество способов, чтобы встречи с собой никогда не произошло.
Дело Пелико поднимает разные вопросов — про злоупотребление властью, доминирование и агрессию, про сведению женщины к телу, коим допустимо пользоваться. Мне сейчас было важным показать лишь одну грань системного сбоя — а именно, как безобидное на первый взгляд нежелание «копаться в себе» может привести к тому, что однажды мужчина не выкопает те ценности, которые помогут ему не стать мерзавцем.
Оксана Фадеева
🔥87❤25💯15👍5👏2
Женщин в процессе социализации обучают азам созависимого поведения: ни в коем случае не вести счет своим вложениям и не сметь наблюдать и записывать, как любимый на них реагирует и сколько вкладывает сам. Только меркантильные стервы ведут подсчет, а у нас-то любовь, какой тут может быть счет? Но когда дело доходит до кризиса в отношениях, в памяти легко всплывает череда "звоночков". А милый-то того. И не первый раз. А я ему.. А он мне... То есть баланс все равно на задворках сознания ведется. И именно он часто и спасает, ибо выводит женщину на вопрос: "А нахуа мне это все?"
Я не хочу сказать, что достаточно подвести баланс и опа! Ты свободна от зависимости - иди и строй равноправные отношения. Но внушать женщине, которая уже зависима, что она что-то там контролирует "за себя и за того парня" - это перекладывать на нее ответственность за отношения целиком, как это, впрочем, и делается зачастую в нашем патриархальном обществе.
И напоследок любимое избранное из Аспазии.
Если человек говорит одно, а делает другое, объясняя это тем, что он" не понимает", что от него хотят, это означает, что он водит нас за нос. Тот кто не понимает что происходит в жизни- лежит в сумасшедшем доме. Или его уже нет в живых, т.к. не будучи в состоянии понимать что происходит вокруг, он не справился с жизнью и умер.
Каждый раз когда мы пытаемся себя убедить в том, что человек не считается с нами, потому что, он чего-то якобы не понимает или "не догоняет", а не потому что он прекрасно знает что нашими желаниями можно пренебречь и мы это съедим как миленькие, мы пытаемся обмануть самих себя. Преувеличив свое значение в глазах и жизни другого человека.
Когда напротив мы поступаем не наилучшим образом по отношению к ближнему, мы тоже прекрасно понимаем что ему некуда деваться и он все это сьест.Поэтому когда мы что-то "не понимаем" или закашиваем под дурачка перед собой или другими, мы делаем это только для того, чтобы нас не мучала совесть.
Если отбросить все игры, отмазки и вранье, конечный и главный вопрос будет сформулирован так: мы вместе или нет? Если да - то ты как часть меня, моя рука или нога. И если она болит, я не могу с этим не считаться.То же самое в отношении меня. Я - часть тебя.
А если мы не вместе, то тоже очень просто. Я - не твой и ты - не мой. Поэтому для каждого из нас амбиции, власть, собственное удобство просто важнее чем другой человек.
Миф."может надо что-то сделать чтоб начали считаться с вашим мнением и все остальным." - Для того чтобы считались или не считались с вашим мнением в межполовых отношениях как правило ничего не делают. Человек вас либо уважает, либо нет. Оценка партнера происходит моментально, на невербальном уровне. Тут же устанавливается иерархия: кто сверху - кто снизу.
#однафеминисткасказала
Я не хочу сказать, что достаточно подвести баланс и опа! Ты свободна от зависимости - иди и строй равноправные отношения. Но внушать женщине, которая уже зависима, что она что-то там контролирует "за себя и за того парня" - это перекладывать на нее ответственность за отношения целиком, как это, впрочем, и делается зачастую в нашем патриархальном обществе.
И напоследок любимое избранное из Аспазии.
Если человек говорит одно, а делает другое, объясняя это тем, что он" не понимает", что от него хотят, это означает, что он водит нас за нос. Тот кто не понимает что происходит в жизни- лежит в сумасшедшем доме. Или его уже нет в живых, т.к. не будучи в состоянии понимать что происходит вокруг, он не справился с жизнью и умер.
Каждый раз когда мы пытаемся себя убедить в том, что человек не считается с нами, потому что, он чего-то якобы не понимает или "не догоняет", а не потому что он прекрасно знает что нашими желаниями можно пренебречь и мы это съедим как миленькие, мы пытаемся обмануть самих себя. Преувеличив свое значение в глазах и жизни другого человека.
Когда напротив мы поступаем не наилучшим образом по отношению к ближнему, мы тоже прекрасно понимаем что ему некуда деваться и он все это сьест.Поэтому когда мы что-то "не понимаем" или закашиваем под дурачка перед собой или другими, мы делаем это только для того, чтобы нас не мучала совесть.
Если отбросить все игры, отмазки и вранье, конечный и главный вопрос будет сформулирован так: мы вместе или нет? Если да - то ты как часть меня, моя рука или нога. И если она болит, я не могу с этим не считаться.То же самое в отношении меня. Я - часть тебя.
А если мы не вместе, то тоже очень просто. Я - не твой и ты - не мой. Поэтому для каждого из нас амбиции, власть, собственное удобство просто важнее чем другой человек.
Миф."может надо что-то сделать чтоб начали считаться с вашим мнением и все остальным." - Для того чтобы считались или не считались с вашим мнением в межполовых отношениях как правило ничего не делают. Человек вас либо уважает, либо нет. Оценка партнера происходит моментально, на невербальном уровне. Тут же устанавливается иерархия: кто сверху - кто снизу.
#однафеминисткасказала
💯78🔥32👍11❤10👏4
Неолиберальная политика опирается на риторику индивидуальной ответственности. Она стремится демонтировать государственные услуги и полностью переложить социальное воспроизводство на плечи отдельной семьи или продать услуги по воспроизводству на рынке. Капитализму как системе выгоден неоплачиваемый труд по социальному воспроизводству в рамках семьи и ограничение государственных расходов. Система не может позволить себе полностью обойтись без социального воспроизводства, «не подвергая опасности процесс накопления», потому что социальное воспроизводство обеспечивает непрерывное существование одного товара, в котором капитализм нуждается больше всего, — рабочей силы. Понимание этой противоречивой зависимости производства от социального воспроизводства — ключ к пониманию политической экономии гендерных отношений, в том числе гендерного насилия.
Капитализму как системе выгоден неоплачиваемый труд по социальному воспроизводству в рамках семьи и ограничение государственных расходов.
Мы должны осознать масштабы гендерного насилия последних лет, которые делают наше исследование очень актуальным. Первое обширное исследование насилия против женщин от Всемирной организации здравоохранения, опубликованное в 2013 году, показало, что треть женщин всего мира, 35,6%, будут подвергаться физическому или сексуальному насилию в течение всей своей жизни, как правило, со стороны партнера-мужчины. Самый высокий уровень насилия против женщин — в Африке, где почти половина женщин, 45,6%, страдают от физического или сексуального насилия. В бедных и «средних» странах Европы эта доля — 27,2%, в богатых странах треть женщин — 32,7% — будут подвергаться насилию в какой-то период своей жизни.
Титхи Бхаттачарья
Гендерное насилие в эпоху неолиберализма
Капитализму как системе выгоден неоплачиваемый труд по социальному воспроизводству в рамках семьи и ограничение государственных расходов.
Мы должны осознать масштабы гендерного насилия последних лет, которые делают наше исследование очень актуальным. Первое обширное исследование насилия против женщин от Всемирной организации здравоохранения, опубликованное в 2013 году, показало, что треть женщин всего мира, 35,6%, будут подвергаться физическому или сексуальному насилию в течение всей своей жизни, как правило, со стороны партнера-мужчины. Самый высокий уровень насилия против женщин — в Африке, где почти половина женщин, 45,6%, страдают от физического или сексуального насилия. В бедных и «средних» странах Европы эта доля — 27,2%, в богатых странах треть женщин — 32,7% — будут подвергаться насилию в какой-то период своей жизни.
Титхи Бхаттачарья
Гендерное насилие в эпоху неолиберализма
😢80❤22🔥11
Будучи главным оставшимся препятствием (по сути, последним из того, что Маркс называл естественными преградами) на пути к полной реализации капитализма в стиле 24/7, сон не может быть устранен совсем. Но его можно изуродовать и разграбить, и, как показывают открывшие книгу примеры, методы и мотивации для осуществления этой атаки уже наготове.
Разрушение сна неотделимо от продолжающегося демонтажа социальных гарантий в других сферах. Подобно тому как всеобщий доступ к чистой питьевой воде подвергся целенаправленному уничтожению во всем мире в результате загрязнения и приватизации с сопутствующей монетизацией бутилированной воды, нетрудно представить аналогичное конструирование дефицита в отношении сна. Все посягательства на него создадут условия бессонницы, при которых сон надо покупать (хотя платить придется за химически измененное состояние, лишь отчасти приближающееся к настоящему сну).
Статистика стремительного роста употребления снотворных показывает, что в 2010 году примерно 50 миллионам американцев были прописаны такие средства, как Ambien или Lunesta, и еще много миллионов купили безрецептурные препараты для сна. Но было бы ошибкой видеть в этом улучшение нынешних условий, позволяющее людям спать здоровым сном и просыпаться отдохнувшими. На данный момент даже менее жестко организованный мир вряд ли избавит нас от бессонницы. Она приобретает свое историческое значение и свою специфическую аффективную структуру в зависимости от внешних по отношению к ней коллективных переживаний и ныне неотделима от многих других форм угнетения и социального упадка, имеющих место по всему миру. Как индивидуальное бедствие в нашем настоящем она — продолжение общего состояния безмирности (worldlessness).
Джонатан Крэри
24/7. Поздний капитализм и цели сна
Разрушение сна неотделимо от продолжающегося демонтажа социальных гарантий в других сферах. Подобно тому как всеобщий доступ к чистой питьевой воде подвергся целенаправленному уничтожению во всем мире в результате загрязнения и приватизации с сопутствующей монетизацией бутилированной воды, нетрудно представить аналогичное конструирование дефицита в отношении сна. Все посягательства на него создадут условия бессонницы, при которых сон надо покупать (хотя платить придется за химически измененное состояние, лишь отчасти приближающееся к настоящему сну).
Статистика стремительного роста употребления снотворных показывает, что в 2010 году примерно 50 миллионам американцев были прописаны такие средства, как Ambien или Lunesta, и еще много миллионов купили безрецептурные препараты для сна. Но было бы ошибкой видеть в этом улучшение нынешних условий, позволяющее людям спать здоровым сном и просыпаться отдохнувшими. На данный момент даже менее жестко организованный мир вряд ли избавит нас от бессонницы. Она приобретает свое историческое значение и свою специфическую аффективную структуру в зависимости от внешних по отношению к ней коллективных переживаний и ныне неотделима от многих других форм угнетения и социального упадка, имеющих место по всему миру. Как индивидуальное бедствие в нашем настоящем она — продолжение общего состояния безмирности (worldlessness).
Джонатан Крэри
24/7. Поздний капитализм и цели сна
😢89
В 1980-е советская промышленность освоила производство пластиковых масок зайцев, поэтому на некоторых фотографиях дети стоят в поднятых как рыцарские забрала масках – иначе как узнаешь, какой заяц чей. Костюм дополнялся или целым белым комбинезоном, или только пришитым к шортам «заячьим» хвостиком. Образ зайца не ограничивался только костюмом – для групповых хороводов требовалась специальная пластика прижатых к груди ручек-лапок и мелких прыжков обеими ногами. Картина одинаково прыгающих вокруг елки детей с умилительно сложенными на груди руками и падающими в разные стороны ушами, наверное, наполняла счастьем воспитательские сердца. Родители пытались уследить глазами за «своим» зайцем и сфотографировать именно его.
Ассоциация ребенка с зайцем поддерживается различными форматами коммуникации. Так, иконография советского детства реализует канон ребенок-зайчик в открытках, плакатах наглядной агитации (в поликлиниках и библиотеках). На открытках 70–80-х годов XX века, посвященных советским праздникам, дети воплощены в образе зайчиков. Зайчики, читающие книжки, – к 1 сентября; зайчики, несущие в дар маме самое дорогое для них – огромную морковку, – к 8 Марта; зайчики, сопровождающие Деда Мороза, – к Новому году. Тотальность перевоплощения в «белого и пушистого» оборачивается освоенной социальной ролью во взрослом возрасте. Разоблачение чрезмерной/неискренней правильности и фиксируется употреблением фразеологизма «белый и пушистый»
В раннюю постсоветскую эпоху ряженье в зайчиков взрослых мужчин (а особенно музыкантов военных духовых оркестров) было допустимым карнавальным приемом, работающим на эффекте снижения «взрослости» и «мужественности». По моим воспоминаниям, так выступал военный оркестр в одном из новогодних телешоу на центральном российском канале. Однако к 2009 году переодевание военного оркестра в костюмы зайчиков стало недопустимым. Блоги и новостные порталы за июль – август 2009 года наполнены сообщениями о выступлении военного оркестра в костюмах зайчиков.
Столь серьезное отношение к художественным акциям, вероятно, свидетельствует или о сакрализации образа зайчика (его прирастании к «детскости» или сексуальности – если это не зайчик, а плейбоевский кролик), или о неприкасаемости мужественности и воинственности (даже у музыкальных коллективов). Во всяком случае, эффективный (если есть ценность, то именно она должна быть осмеяна в карнавале, так различаются границы приемлемого культурой) карнавальный прием стал восприниматься как наказуемое символическое деяние. Так зайчики стали не просто карнавальными костюмами, а символами послушности, «пушистости», инфантильности, желаемой для детей и недопустимой для взрослых мужчин.
Инна Веселова.
Детские новогодние карнавалы
Ассоциация ребенка с зайцем поддерживается различными форматами коммуникации. Так, иконография советского детства реализует канон ребенок-зайчик в открытках, плакатах наглядной агитации (в поликлиниках и библиотеках). На открытках 70–80-х годов XX века, посвященных советским праздникам, дети воплощены в образе зайчиков. Зайчики, читающие книжки, – к 1 сентября; зайчики, несущие в дар маме самое дорогое для них – огромную морковку, – к 8 Марта; зайчики, сопровождающие Деда Мороза, – к Новому году. Тотальность перевоплощения в «белого и пушистого» оборачивается освоенной социальной ролью во взрослом возрасте. Разоблачение чрезмерной/неискренней правильности и фиксируется употреблением фразеологизма «белый и пушистый»
В раннюю постсоветскую эпоху ряженье в зайчиков взрослых мужчин (а особенно музыкантов военных духовых оркестров) было допустимым карнавальным приемом, работающим на эффекте снижения «взрослости» и «мужественности». По моим воспоминаниям, так выступал военный оркестр в одном из новогодних телешоу на центральном российском канале. Однако к 2009 году переодевание военного оркестра в костюмы зайчиков стало недопустимым. Блоги и новостные порталы за июль – август 2009 года наполнены сообщениями о выступлении военного оркестра в костюмах зайчиков.
Столь серьезное отношение к художественным акциям, вероятно, свидетельствует или о сакрализации образа зайчика (его прирастании к «детскости» или сексуальности – если это не зайчик, а плейбоевский кролик), или о неприкасаемости мужественности и воинственности (даже у музыкальных коллективов). Во всяком случае, эффективный (если есть ценность, то именно она должна быть осмеяна в карнавале, так различаются границы приемлемого культурой) карнавальный прием стал восприниматься как наказуемое символическое деяние. Так зайчики стали не просто карнавальными костюмами, а символами послушности, «пушистости», инфантильности, желаемой для детей и недопустимой для взрослых мужчин.
Инна Веселова.
Детские новогодние карнавалы
👍78😢2
«Признав» и оценив елочную игрушку как важное воспитательное средство, власти столкнулись с массой проблем. Оказалось, что между планами по внедрению елочной игрушки в праздничную повседневность и их воплощением в жизнь, тем более немедленным, – огромная дистанция. Неожиданно нагрянувшая елка 1935 года была устроена «почти экспромтом, без подготовки, без нужного количества елочных украшений», производство которых в стране к тому моменту было фактически полностью прекращено. Даже если бы оно и существовало, то наследием, доставшимся от царской России, тоже едва ли можно было похвастаться. Мелкие кустарные мастерские, ориентированные на ручной труд, безусловно, не смогли бы насытить огромный советский потребительский рынок. Советская же легкая промышленность, не имевшая приоритетного статуса и финансировавшаяся по остаточному принципу, вообще не владела технологиями елочного игрушечного производства.
Первый номер журнала «Советская игрушка» за 1936 год подвел итоги прошедшей новогодней кампании. Результаты ее оказались очень противоречивыми. С одной стороны, потребность в елочной игрушке была необыкновенно высокой, с другой – немедленно удовлетворить ее было очень сложно. Описывая убранство елок, прошедших 30–31 декабря 1935 – в начале января 1936 года в детских садах, школах, домах культуры пионера и школьника, жилищно-арендных кооперативных товариществах (жактах) Москвы, журнал сообщал, что на елках были развешены либо игрушки обычные («пришлось довольствоваться деревянными шарами, мягкими куклами, различными целлулоидными игрушками»), либо самодельные («подвешивали спичечные коробки, папиросные, из-под пудры; все это тщательно закрашивали, заклеивали, придавали новую форму»), либо старые, хранившиеся дома елочные игрушки («собрали у себя, у кого что было; нанесли столько, сколько мы и не ожидали»).
Немногочисленные сохранившиеся и подходящие по профилю производства работали день и ночь. Так, все ночи напролет изготовляли елочные игрушки на предприятиях и в мастерских Мособлстеклокерамсоюза. 28 декабря 1935 года московский «Детский мир» торговал елочными игрушками до 11 часов ночи, столь же оживленно торговля шла вплоть до 2 января (позднее елочные игрушки уже не продавали, чтобы не поощрять празднование Рождества).
Заведующий магазином № 8 Москоопкультторга рассказывал: «Вечером 29 декабря (1935 года. – А. С.) мне было предложено выставить в витрине магазина елку. Не было специальных елочных украшений. Деда Мороза сделали сами, обернув куклу ватой… Я спросил у сотрудницы магазина, не сохранилось ли у нее чего-нибудь от елок дореволюционного времени. Нашелся небольшой ассортимент цветных фонариков, блесток, стеклянных украшений. К ним добавили летние игрушки. Поставили хоровод из кукол». Далее он сообщал о том, что «буквально каждый покупатель требовал елочных украшений. Это заменялось гуттаперчевыми лебедями, утками, целлулоидными мальчиками, цветными шариками из материи, дореволюционными раскрашенными шариками, парашютистами, картинками, различной деревянной мелкой игрушкой, маленькими медвежатами»
Алла Сальникова
История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку
Первый номер журнала «Советская игрушка» за 1936 год подвел итоги прошедшей новогодней кампании. Результаты ее оказались очень противоречивыми. С одной стороны, потребность в елочной игрушке была необыкновенно высокой, с другой – немедленно удовлетворить ее было очень сложно. Описывая убранство елок, прошедших 30–31 декабря 1935 – в начале января 1936 года в детских садах, школах, домах культуры пионера и школьника, жилищно-арендных кооперативных товариществах (жактах) Москвы, журнал сообщал, что на елках были развешены либо игрушки обычные («пришлось довольствоваться деревянными шарами, мягкими куклами, различными целлулоидными игрушками»), либо самодельные («подвешивали спичечные коробки, папиросные, из-под пудры; все это тщательно закрашивали, заклеивали, придавали новую форму»), либо старые, хранившиеся дома елочные игрушки («собрали у себя, у кого что было; нанесли столько, сколько мы и не ожидали»).
Немногочисленные сохранившиеся и подходящие по профилю производства работали день и ночь. Так, все ночи напролет изготовляли елочные игрушки на предприятиях и в мастерских Мособлстеклокерамсоюза. 28 декабря 1935 года московский «Детский мир» торговал елочными игрушками до 11 часов ночи, столь же оживленно торговля шла вплоть до 2 января (позднее елочные игрушки уже не продавали, чтобы не поощрять празднование Рождества).
Заведующий магазином № 8 Москоопкультторга рассказывал: «Вечером 29 декабря (1935 года. – А. С.) мне было предложено выставить в витрине магазина елку. Не было специальных елочных украшений. Деда Мороза сделали сами, обернув куклу ватой… Я спросил у сотрудницы магазина, не сохранилось ли у нее чего-нибудь от елок дореволюционного времени. Нашелся небольшой ассортимент цветных фонариков, блесток, стеклянных украшений. К ним добавили летние игрушки. Поставили хоровод из кукол». Далее он сообщал о том, что «буквально каждый покупатель требовал елочных украшений. Это заменялось гуттаперчевыми лебедями, утками, целлулоидными мальчиками, цветными шариками из материи, дореволюционными раскрашенными шариками, парашютистами, картинками, различной деревянной мелкой игрушкой, маленькими медвежатами»
Алла Сальникова
История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку
❤69👍16
Хотя жир поносят по всему земному шару, на самом деле это всего лишь часть нашего тела. Именно — часть. Это может удивить многих, кто воспринимает жир просто как кусок сала. Но новые исследования показывают, что жир является частью эндокринной системы, и ученые уже много лет ссылаются на него как на часть тела. Получается, что жир может быть столь же важным, как позвоночник, легкие или сердце.
Жир обеспечивает наши ежедневные энергетические потребности на такие вещи, как ходьба, разговоры, бег и даже сон. Жир находится тут для того, чтобы тело без перебоя продолжало функционировать, когда мы пропускаем обед, чтобы доделать работу вовремя, воздерживаемся от пищи по религиозным соображениям или просто не хотим готовить еду. Он также в нашем распоряжении, когда мы съедаем на унцию пищи больше, чем нам сейчас нужно. Если вы когда-либо не могли устоять перед десертом, таким искусительным, что мимо не пройти, будьте благодарны жиру, который готов поглотить такую еду. Жир действует как центральный банк тела, управляя излишками и обеспечивая ресурсами, когда это необходимо. Он охотно растет во времена благоденствия и альтруистично уничтожает себя во времена нужды, чтобы другие органы могли жить.
Жир не только делает невероятную работу по управлению нашими запасами энергии. Исследования показывают, что он также обеспечивает взросление, позволяет функционировать репродуктивным органам, усиливает кости и иммунную систему и даже увеличивает размер мозга (подумайте об этом в следующий раз, прежде чем сказать, что у кого-то мозги заплыли жиром).
И хотя сейчас на войну с ним тратят многие миллиарды долларов, жир не всегда ненавидели. Когда-то он был восхитительным компаньоном человечества. Наши кочевые предки приветствовали его как средство выживания во время голода. Даже в цивилизациях, что развились с течением времени, жир занимал важное место. Пухлость тела Будды остается его признаком, можно сказать, важной частью его бренда. В Китае династии Тан (618–907) надгробные скульптуры изображали полную женщину, помощницу для мертвых в их процветании в загробной жизни. Достаточно недавно Боттичелли, Рубенс и Тициан изображали жир как необходимую часть красивого человеческого тела. Стандарты подтянутости, прославляемые ныне Vogue, не находят нигде в прошлом, нечто подобное использовали, только чтобы показать страдания.
Даже в Америке было время, когда к жиру относились с уважением. После гражданской войны уровень бедности вырос, но небольшая часть общества процветала. Как происходит со всем редким и ценным, вроде золота и драгоценных камней, жир начал цениться, поскольку им было трудно обзавестись. Жир был признаком процветания, здоровья и красоты. Все хотели его.
Трудно поверить, но свидетельства прошлого говорят о любви к жиру. Престижный «Клуб толстяков» появился в Коннектикуте в 1866 году под девизом «Толстым мужчину делает толстый банковский счет». Требовалось быть достаточно тучным, чтобы вступить в него. Женщины тоже гордились излишком плоти, консультировались с журналом Ladies Home как набрать вес или обращались к вышедшей в 1878 году книге «Как растолстеть». Вместо того чтобы гнаться за уменьшением размера одежды, знаменитости гордились набранными фунтами. Певица Лилиан Рассел весила больше двухсот фунтов, и восхищались не только ее голосом, но и телом. Женщины даже использовали накладные подушечки под одеждой, чтобы походить на нее. И Даймонд Джим Брэйди, Дональд Трамп своего времени, был любим не только за благосостояние, но и за вес (триста фунтов).
Даже врачи поддерживали жир. Они предупреждали насчет ожирения, но предлагали набрать несколько фунтов в качестве средства лечения нервозности и даже заразных болезней. Родители также призывали детей много есть.
Жир обеспечивает наши ежедневные энергетические потребности на такие вещи, как ходьба, разговоры, бег и даже сон. Жир находится тут для того, чтобы тело без перебоя продолжало функционировать, когда мы пропускаем обед, чтобы доделать работу вовремя, воздерживаемся от пищи по религиозным соображениям или просто не хотим готовить еду. Он также в нашем распоряжении, когда мы съедаем на унцию пищи больше, чем нам сейчас нужно. Если вы когда-либо не могли устоять перед десертом, таким искусительным, что мимо не пройти, будьте благодарны жиру, который готов поглотить такую еду. Жир действует как центральный банк тела, управляя излишками и обеспечивая ресурсами, когда это необходимо. Он охотно растет во времена благоденствия и альтруистично уничтожает себя во времена нужды, чтобы другие органы могли жить.
Жир не только делает невероятную работу по управлению нашими запасами энергии. Исследования показывают, что он также обеспечивает взросление, позволяет функционировать репродуктивным органам, усиливает кости и иммунную систему и даже увеличивает размер мозга (подумайте об этом в следующий раз, прежде чем сказать, что у кого-то мозги заплыли жиром).
И хотя сейчас на войну с ним тратят многие миллиарды долларов, жир не всегда ненавидели. Когда-то он был восхитительным компаньоном человечества. Наши кочевые предки приветствовали его как средство выживания во время голода. Даже в цивилизациях, что развились с течением времени, жир занимал важное место. Пухлость тела Будды остается его признаком, можно сказать, важной частью его бренда. В Китае династии Тан (618–907) надгробные скульптуры изображали полную женщину, помощницу для мертвых в их процветании в загробной жизни. Достаточно недавно Боттичелли, Рубенс и Тициан изображали жир как необходимую часть красивого человеческого тела. Стандарты подтянутости, прославляемые ныне Vogue, не находят нигде в прошлом, нечто подобное использовали, только чтобы показать страдания.
Даже в Америке было время, когда к жиру относились с уважением. После гражданской войны уровень бедности вырос, но небольшая часть общества процветала. Как происходит со всем редким и ценным, вроде золота и драгоценных камней, жир начал цениться, поскольку им было трудно обзавестись. Жир был признаком процветания, здоровья и красоты. Все хотели его.
Трудно поверить, но свидетельства прошлого говорят о любви к жиру. Престижный «Клуб толстяков» появился в Коннектикуте в 1866 году под девизом «Толстым мужчину делает толстый банковский счет». Требовалось быть достаточно тучным, чтобы вступить в него. Женщины тоже гордились излишком плоти, консультировались с журналом Ladies Home как набрать вес или обращались к вышедшей в 1878 году книге «Как растолстеть». Вместо того чтобы гнаться за уменьшением размера одежды, знаменитости гордились набранными фунтами. Певица Лилиан Рассел весила больше двухсот фунтов, и восхищались не только ее голосом, но и телом. Женщины даже использовали накладные подушечки под одеждой, чтобы походить на нее. И Даймонд Джим Брэйди, Дональд Трамп своего времени, был любим не только за благосостояние, но и за вес (триста фунтов).
Даже врачи поддерживали жир. Они предупреждали насчет ожирения, но предлагали набрать несколько фунтов в качестве средства лечения нервозности и даже заразных болезней. Родители также призывали детей много есть.
❤74❤🔥7🔥2
Это были хорошие времена для жира. Его ценили за положительные качества — способность запасать энергию и символизировать благосостояние. Но к большой печали этой части тела, те славные деньки не затянулись. Экономическое состояние Америки улучшилось, еда стала доступной, а вместе с ней и жир. И как любой ресурс, оказавшийся вдруг в изобилии, он перестал быть дорогим. Ценность его резко упала.
Бизнес-элита начала подчеркивать, что рабочей силе необходимы ловкие и стройные тела. Военные лидеры связали поджарость с любовью к стране, один из них сказал: «Любой здоровый нормальный человек, копящий жир в наше время, не может считаться патриотом». И религиозные вожди обрушились на жир как на воплощение излишеств и обжорства. Врачи, общаясь с настороженно относящимися к жиру пациентам, начали давать советы для похудения. Знаменитости, включая Лилиан Рассел, вынуждены были последовать моде и уменьшиться в размерах. И «Клуб толстяков», символ влиятельности в прежние годы, закрылся в 1903 году.
Внимание к жиру началось с того, что к нему относились как к символу растущего благоденствия страны, но вскоре это чувство перешло в презрение. Ругательства вроде «жирдяй» или «жирный» нашли место в повседневном лексиконе. Мультфильмы сделали толстяков объектом издевки. Даже президент США Говард Тафт, весивший 305 фунтов, не смог избежать насмешек. Один из газетных заголовков времен его правления — «Тафт вызвал наводнение в отеле: приливная волна из его ванны затопила банкиров в гостиной». Байка о «ванне Тафта» после этого случая прожила многие годы.
Поворотным моментом в одержимости жиром стало введение калории как единицы измерения питательности. Калория была определена в 1800-х как объем энергии, который требуется, чтобы поднять температуру одного килограмма воды на один градус Цельсия. Затем в конце века химик Уилбур Этуотер провел детальные исследования о том, как наше тело превращает пищу в энергию. Для этого он помещал тестируемых в тесные камеры и оценивал количество производимой ими двуокиси углерода, а также уровень кислорода, который они потребляли после поедания различной пищи. Результаты он выразил в единицах энергии, и калория стала стандартной единицей пищевой ценности. В 1918 врач Лулу Хант Питерс назвала подсчет калорий активной формой патриотизма и опубликовала книгу «Диета и здоровье: ключ к калориям». Было продано два миллиона копий, и книга стала первым «диетическим бестселлером». Бизнес на тех, кто соблюдает диету, пришел в движение.
Сильвиа Тара
Правильный жир. Для чего он нужен организму и почему надо перестать его ненавидеть
Бизнес-элита начала подчеркивать, что рабочей силе необходимы ловкие и стройные тела. Военные лидеры связали поджарость с любовью к стране, один из них сказал: «Любой здоровый нормальный человек, копящий жир в наше время, не может считаться патриотом». И религиозные вожди обрушились на жир как на воплощение излишеств и обжорства. Врачи, общаясь с настороженно относящимися к жиру пациентам, начали давать советы для похудения. Знаменитости, включая Лилиан Рассел, вынуждены были последовать моде и уменьшиться в размерах. И «Клуб толстяков», символ влиятельности в прежние годы, закрылся в 1903 году.
Внимание к жиру началось с того, что к нему относились как к символу растущего благоденствия страны, но вскоре это чувство перешло в презрение. Ругательства вроде «жирдяй» или «жирный» нашли место в повседневном лексиконе. Мультфильмы сделали толстяков объектом издевки. Даже президент США Говард Тафт, весивший 305 фунтов, не смог избежать насмешек. Один из газетных заголовков времен его правления — «Тафт вызвал наводнение в отеле: приливная волна из его ванны затопила банкиров в гостиной». Байка о «ванне Тафта» после этого случая прожила многие годы.
Поворотным моментом в одержимости жиром стало введение калории как единицы измерения питательности. Калория была определена в 1800-х как объем энергии, который требуется, чтобы поднять температуру одного килограмма воды на один градус Цельсия. Затем в конце века химик Уилбур Этуотер провел детальные исследования о том, как наше тело превращает пищу в энергию. Для этого он помещал тестируемых в тесные камеры и оценивал количество производимой ими двуокиси углерода, а также уровень кислорода, который они потребляли после поедания различной пищи. Результаты он выразил в единицах энергии, и калория стала стандартной единицей пищевой ценности. В 1918 врач Лулу Хант Питерс назвала подсчет калорий активной формой патриотизма и опубликовала книгу «Диета и здоровье: ключ к калориям». Было продано два миллиона копий, и книга стала первым «диетическим бестселлером». Бизнес на тех, кто соблюдает диету, пришел в движение.
Сильвиа Тара
Правильный жир. Для чего он нужен организму и почему надо перестать его ненавидеть
❤84👍18🔥7❤🔥4🥰1
Восприятие заботы о других исторически и психологически связано с дезинтеграцией, поражением, неудачей, неравенством и принуждением. Если мы откажемся от образа матери как образца и олицетворения бескорыстной заботы, то неизбежно столкнемся с психологическими и политическими последствиями тысячелетней феминизации этого труда и недовольством, порожденным этой моделью в тех, кто предположительно с успехом ее воплощает.
Раз «согласие на то, чтобы не быть одиноким» является в сущности – или по аналогии – материнской связью, то интересно сопоставить это наблюдение с предостережением Жаклин Роуз, которое она приводит в своей книге «Матери: эссе о любви и жестокости»: «Не стоит недооценивать садизм, который могут спровоцировать матери». Такая динамика частично происходит из-за того, что мы присваиваем материнской функции дополнительную обязанность проявлять безграничную, безусловную, бескорыстную любовь и заботу по отношению к другому, без оговорок и обид, в условиях социо-политических, экономических или психологических систем, которые только усложняют или делают ее проявление невозможным.
Очевидно, это невозможно, поэтому Роуз пишет: «Матери всегда терпят поражение… Не нужно воспринимать эти провалы как катастрофу, это нормально». Каждый день материнства в той или иной степени напоминает о вездесущем призраке неадекватности.
Например, сегодня я открываю электронную почту и вижу сообщение от французской журналистки, которой давала интервью неделю назад; она пишет, что у нее есть всего лишь один дополнительный вопрос, который, как выясняется, звучит так: «Вы сказали, что забираете сына из школы каждый день или только иногда?» Можно только догадываться о том, зачем ей это знать, но суть кажется достаточно ясной: за эстетической или интеллектуальной заботой любой матери всегда охотится призрак недостаточно хорошей заботы о своем ребенке – замечание, (я с осторожностью должна обратить на это внимание) редко адресованное художникам– или писателям-отцам, которые если забирают ребенка из школы хотя бы раз в неделю, уже вызывают бурю восхищения.
Думаю, я хорошо понимаю, что журналистка хотела от меня услышать. Тем не менее я предпочла не отвечать. Уверять кого-то в том, что матери способны «делать всё», – значит позволить моей поразительной привилегированности скрыть то мучительное бремя, с которым многие сталкиваются в своих попытках выстроить достойную жизнь; это также свидетельствует о неуважении к неизбежности материнской дилеммы и материнских неудач.
Один из уроков этих дилемм и конфликтов заключается в том, что проявлять (или получать) заботу приятнее, полезнее, и, может быть, даже более нравственно, когда она кажется (или является) добровольной. Когда речь идет о заботе, то различие между добровольным и принудительным часто бывает более размытым, чем нам бы хотелось.
Перенос этих вопросов в сферу искусства через некритическую валоризацию заботы без сомнения вносит свой вклад в мое «фу!», поскольку предполагает, что искусство (сфера, в которую женщин допустили лишь мгновение назад в контексте истории человечества) должно стать еще одним местом, где женщины должны бороться с уже феминизированной, матернализированной обязанностью заботиться и исцелять, иначе их упрекнут в подражании токсичным, маскулинным формам свободы, если они будут настаивать на «более широких и разнообразных» способах самовыражения и проявления преданности. Мое «фу» было непосредственным, потому что я и мать, и дочь одновременно: мне знакомы радости и трудности, связанные с желанием и необходимостью полностью посвятить себя чьим-то потребностям, с одной стороны, и с желанием и необходимостью отделить и отстаивать свое «я» – с другой. Это означает, что мне знакомы гнев, страх и боль, которые испытывает ребенок, когда он понимает, что никто, даже идеальная мать, не может защитить его от страдания, а также гнев, страх и боль, которые испытывает мать, когда сталкивается с тем же самым с другой стороны.
Мэгги Нельсон
О свободе: четыре песни о заботе и принуждении
Раз «согласие на то, чтобы не быть одиноким» является в сущности – или по аналогии – материнской связью, то интересно сопоставить это наблюдение с предостережением Жаклин Роуз, которое она приводит в своей книге «Матери: эссе о любви и жестокости»: «Не стоит недооценивать садизм, который могут спровоцировать матери». Такая динамика частично происходит из-за того, что мы присваиваем материнской функции дополнительную обязанность проявлять безграничную, безусловную, бескорыстную любовь и заботу по отношению к другому, без оговорок и обид, в условиях социо-политических, экономических или психологических систем, которые только усложняют или делают ее проявление невозможным.
Очевидно, это невозможно, поэтому Роуз пишет: «Матери всегда терпят поражение… Не нужно воспринимать эти провалы как катастрофу, это нормально». Каждый день материнства в той или иной степени напоминает о вездесущем призраке неадекватности.
Например, сегодня я открываю электронную почту и вижу сообщение от французской журналистки, которой давала интервью неделю назад; она пишет, что у нее есть всего лишь один дополнительный вопрос, который, как выясняется, звучит так: «Вы сказали, что забираете сына из школы каждый день или только иногда?» Можно только догадываться о том, зачем ей это знать, но суть кажется достаточно ясной: за эстетической или интеллектуальной заботой любой матери всегда охотится призрак недостаточно хорошей заботы о своем ребенке – замечание, (я с осторожностью должна обратить на это внимание) редко адресованное художникам– или писателям-отцам, которые если забирают ребенка из школы хотя бы раз в неделю, уже вызывают бурю восхищения.
Думаю, я хорошо понимаю, что журналистка хотела от меня услышать. Тем не менее я предпочла не отвечать. Уверять кого-то в том, что матери способны «делать всё», – значит позволить моей поразительной привилегированности скрыть то мучительное бремя, с которым многие сталкиваются в своих попытках выстроить достойную жизнь; это также свидетельствует о неуважении к неизбежности материнской дилеммы и материнских неудач.
Один из уроков этих дилемм и конфликтов заключается в том, что проявлять (или получать) заботу приятнее, полезнее, и, может быть, даже более нравственно, когда она кажется (или является) добровольной. Когда речь идет о заботе, то различие между добровольным и принудительным часто бывает более размытым, чем нам бы хотелось.
Перенос этих вопросов в сферу искусства через некритическую валоризацию заботы без сомнения вносит свой вклад в мое «фу!», поскольку предполагает, что искусство (сфера, в которую женщин допустили лишь мгновение назад в контексте истории человечества) должно стать еще одним местом, где женщины должны бороться с уже феминизированной, матернализированной обязанностью заботиться и исцелять, иначе их упрекнут в подражании токсичным, маскулинным формам свободы, если они будут настаивать на «более широких и разнообразных» способах самовыражения и проявления преданности. Мое «фу» было непосредственным, потому что я и мать, и дочь одновременно: мне знакомы радости и трудности, связанные с желанием и необходимостью полностью посвятить себя чьим-то потребностям, с одной стороны, и с желанием и необходимостью отделить и отстаивать свое «я» – с другой. Это означает, что мне знакомы гнев, страх и боль, которые испытывает ребенок, когда он понимает, что никто, даже идеальная мать, не может защитить его от страдания, а также гнев, страх и боль, которые испытывает мать, когда сталкивается с тем же самым с другой стороны.
Мэгги Нельсон
О свободе: четыре песни о заботе и принуждении
🔥54❤32👍6❤🔥4
Начнем с того что мужик воспринимает свою якобы любимую женщину как бытовой прибор и прекрасно знает что бытовые приборы работают по алгоритму. чтобы кофемашина выдала кофе надо нажать кнопочки в определенной последовательности, чтобы женщина выдала борщ и минетик надо в определенной последовательности с ней взаимодействовать(как это модно сейчас говорить: разговаривать словами через рот, он же у нас современный профеминистичный котик). ну знаете этот алгоритм общение с бабой: тут кивни, там угукни, погладь по жопе, донести чашку до раковины.
и чтобы вечером баба оформила ему минетик ему надо прикинуться эмпатичным и поддерживающий.
а тут уже во-вторых.
во-вторых свою поддержку и эмпатию он считает очень ценным ресурсом и хочет точно выяснить а не зазря ли он ее потратит сегодня, а точно ли баба права и заслужила. отсюда и вытекают такие вопросы как у сферического пионера в вакууме «я что должен солгать??? а как потом в глаза ее(чужим посторонним людям с которым он дай боже увидится пару раз в жизни на корпоративе и то не факт) коллегам смотреть.
мужчины очень любят играть в честность и справедливость когда речь заходит о безусловной поддержке женщины. а вдруг она и правда не права да и врать вообще-то плохо
#однафеминисткасказала
и чтобы вечером баба оформила ему минетик ему надо прикинуться эмпатичным и поддерживающий.
а тут уже во-вторых.
во-вторых свою поддержку и эмпатию он считает очень ценным ресурсом и хочет точно выяснить а не зазря ли он ее потратит сегодня, а точно ли баба права и заслужила. отсюда и вытекают такие вопросы как у сферического пионера в вакууме «я что должен солгать??? а как потом в глаза ее(чужим посторонним людям с которым он дай боже увидится пару раз в жизни на корпоративе и то не факт) коллегам смотреть.
мужчины очень любят играть в честность и справедливость когда речь заходит о безусловной поддержке женщины. а вдруг она и правда не права да и врать вообще-то плохо
#однафеминисткасказала
👍69💯56😢10❤8🔥6🥰2