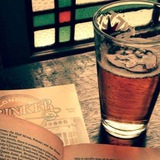Быстрый анонс номер два: на ближайшие месяцы есть несколько мест для философских консультаций / совместных ридингов, индивидуальных или групповых.
Я дипломированный политфилософ (мда) и за последнее время провела некоторое количество разных чтений с последующим обсуждением прочитанного. (Здесь есть многословный пост об этом, ниже — короче).
Обычно мы в переписке или коротком звонке обсуждаем ваши интересы (это может быть направление мысли, конкретный автор или более общий вопрос: например, как найти свое предназначение, или что можно считать достойными средствами для существования в современном обществе. Еще это может быть вопрос, связанный с личной практикой, или же более абстрактно академический — как что-то устроено, и почему что-то устроено именно так).
Потом я предлагаю почитать что-то, связанное с запросом: это может быть глава, статья/статьи, возможно, небольшая книга (зависит от того, какой объем вы готовы/хотите прочитать).
Когда все дочитываем — встречаемся в зуме, я что-то немножко рассказываю по сути дела и про контекст, и мы обсуждаем, что надумали на фоне прочитанного в свете вашего вопроса. Возможно, даже приходим к каким-то выводам.
Получается неплохо! Я вообще считаю, что философия — это отличное хобби или тема для вечеринки с пауэрпоинт-презентациями.
Так что если вдруг что-то такое интересно (опять же, для себя или для какой-нибудь группки, в таком формате или каком-либо другом) — пишите, что-то надумаем: @humanaviator
(Тут репостам буду рада вдвойне).
Я дипломированный политфилософ (мда) и за последнее время провела некоторое количество разных чтений с последующим обсуждением прочитанного. (Здесь есть многословный пост об этом, ниже — короче).
Обычно мы в переписке или коротком звонке обсуждаем ваши интересы (это может быть направление мысли, конкретный автор или более общий вопрос: например, как найти свое предназначение, или что можно считать достойными средствами для существования в современном обществе. Еще это может быть вопрос, связанный с личной практикой, или же более абстрактно академический — как что-то устроено, и почему что-то устроено именно так).
Потом я предлагаю почитать что-то, связанное с запросом: это может быть глава, статья/статьи, возможно, небольшая книга (зависит от того, какой объем вы готовы/хотите прочитать).
Когда все дочитываем — встречаемся в зуме, я что-то немножко рассказываю по сути дела и про контекст, и мы обсуждаем, что надумали на фоне прочитанного в свете вашего вопроса. Возможно, даже приходим к каким-то выводам.
Получается неплохо! Я вообще считаю, что философия — это отличное хобби или тема для вечеринки с пауэрпоинт-презентациями.
Так что если вдруг что-то такое интересно (опять же, для себя или для какой-нибудь группки, в таком формате или каком-либо другом) — пишите, что-то надумаем: @humanaviator
(Тут репостам буду рада вдвойне).
❤14🔥6
Чувство, что ваши возможности безграничны и вас никак не стесняют внешние обстоятельства, не приносит ни уверенности, ни покоя. В нем тоже скрыт диктат, хотя и не тот, что исходит от Сверх-Я, этого внутреннего голоса, неотступно напоминающего вам о правилах, предписанных кем-то, кто наделен властью, будь то родители, учитель или начальник. Наше «общество достижений», по словам социального теоретика Бюн-Чхоль Хана, избегает запретов и требований идеологии «ты должен», заменяя их уверением «ты можешь».
Это диктат со стороны Я-идеала, отголосок бессознательной убежденности в собственной непогрешимости, закладываемой в нас родителями с самого нашего рождения. Для них мы, как язвительно выразился Фрейд, «His Majesty the Baby». Рано или поздно до нас доходит неприятная новость о том, что мы не настолько совершенны, как они думали, и мы реагируем на нее, создавая внутри себя образ этого изначального, а теперь утраченного совершенства, которое однажды узрели в полных любви улыбках наших родителей.
Я-идеал — странный, двуликий повелитель. Он выдает себя за любящего союзника, который желает нам только добра, поэтому сопротивляться ему труднее, чем авторитету Сверх-Я. Если Сверх-Я отказывает нам в том, чего мы хотим, то Я-идеал, подобно тиранически любящему родителю, хочет лишь того, чего хотим мы сами, ну, может быть, чуточку большего. Его призывы заставляю нас всю жизнь прыгать через препятствия, с тревогой выискивая новую цель и постоянно опасаясь чего-нибудь не достичь. В тени Я-идеала, пишет Хан, «чувство выполненного долга недостижимо».
«Неработа. Почему мы говорим стоп», Джош Коэн
(Коллегам-выгоранцам привет).
💔19❤2👍2
Книгу из цитаты выше будем обсуждать в субботу, аккурат после утренней мимозы — одного из центральных элементов образа московского трудоголика, который уже забыл, зачем это всё, но остановиться не может. Такие герои в книжке тоже есть — она читается быстро и бодро (это сборник эссе психоаналитика, эдакий Ирвин Ялом, только про пост-труд), а суть становится понятна с первых страниц, так что чтение для разговоров самое подходящее.
❤7🤩2
Forwarded from Библиотека Шанинки
Мы завершаем сезон совместных с издательством Ad Marginem ридингов «Экскоммуникация» обсуждением книги Джоша Коэна «Неработа. Почему мы говорим “стоп”» (301.01 КОЭ) и отправляемся на каникулы, неработать.
Коэн анализирует важное противоречие, лежащее в основе жизни современного человека: стремление к успеху и социально одобряемому труду и при этом естественное нежелание работать. Британский психоаналитик напоминает, что жизнь не исчерпывается работой, а наши амбиции часто конечной целью имеют подавленное желание забраться в кровать и не выходить из квартиры. Во время ридинга мы обсудим, как феномен отказа от конвенционального труда реализовался в стратегиях Энди Уорхола (выгоревший), Орсона Уэллса (лентяй), Эмили Диккенсон (мечтатель) и Дэвида Фостера Уоллеса (пофигист) и как на их примерах Коэн строит свою концепцию неработы.
Ридинг ведут:
⭐️ Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследовательница цифровой памяти и травмы, консультант в сфере DEIB-коммуникации
⭐️ Катя Кудрявцева, авторка тг-канала «Вроде культурный человек», выпускница программы «Политическая философия»
Дата и время: 15 июня, 14:00
Место: библиотека Шанинки
Зарегистрироваться ➡️
Коэн анализирует важное противоречие, лежащее в основе жизни современного человека: стремление к успеху и социально одобряемому труду и при этом естественное нежелание работать. Британский психоаналитик напоминает, что жизнь не исчерпывается работой, а наши амбиции часто конечной целью имеют подавленное желание забраться в кровать и не выходить из квартиры. Во время ридинга мы обсудим, как феномен отказа от конвенционального труда реализовался в стратегиях Энди Уорхола (выгоревший), Орсона Уэллса (лентяй), Эмили Диккенсон (мечтатель) и Дэвида Фостера Уоллеса (пофигист) и как на их примерах Коэн строит свою концепцию неработы.
Ридинг ведут:
⭐️ Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследовательница цифровой памяти и травмы, консультант в сфере DEIB-коммуникации
⭐️ Катя Кудрявцева, авторка тг-канала «Вроде культурный человек», выпускница программы «Политическая философия»
Дата и время: 15 июня, 14:00
Место: библиотека Шанинки
Зарегистрироваться ➡️
msses.ru
Библиотека Шанинки x Ad Marginem: ридинг по книге «Неработа» Джоша Коэна
👍5❤3🔥1
(1/2) Интересный текст о богатстве и неравенстве — а именно, о связи капитала и идеи достаточности.
По Аристотелю — источнику, как мы знаем, бОльшинства идей в западной философии, — управление домом (ойкосом) требует богатства (ploutos). Ойкос — основа полиса, и поэтому никакая политическая теория не может обойти стороной вопрос того, как человек приобретает богатство.
Богатство у Аристотеля было средством достижения счастья (эвдемонии), а не самоцелью. И все же, конечно, «естественное» (то есть наследное) богатство — всегда предпочтительнее других вариантов. Торговля на рынке (то есть появление денег как медиума для сделок) и, тем более, делание денег с помощью денег (ростовщичество и прочее — что впоследствии было также осуждено в христианстве и исламе) — предпочтительными вариантами не являются, ибо они могут привести к жадности и поклонению знакам (денежным), а не сути (история Мидаса — как предупреждение от этого).
«В этом отношении Аристотель был в целом согласен с Карлом Марксом, который столетия спустя в первой книге "Капитала" настаивал на том, что придание ценности товару посредством торговли или обмена обесценивает его или лишает его сущности. Его истинной ценностью была “потребительная стоимость”, в отличие от “меновой стоимости”».
Но осуждение получения богатства с помощью механизмов обмена парадоксальным образом привело к тому, что сегодня мы называем «неравенством доходов», а также послужило обоснованием рабства. По Аристотелю, как есть «природные блага», которыми можно владеть, так есть и те, кого можно назвать «прирожденными рабами», цель которых — обеспечить своим безвозмездным трудом счастье рабовладельца.
Именно из-за этой идеи церковь веками не осуждала различные формы крепостного права и рабство. Расизм не был причиной, он последовал за коммерциализацией человеческих тел, которая возникла из-за связи аристотелевского принципа «естественного рабства» и возникшей системы массового производства. И именно поэтому стало возможным беспрецедентное производство «добавочной стоимости» (Маркс) человеческого труда.
Но фабрика в какой-то момент заменила плантацию — по причинам вовсе не гуманитарным, а вполне экономическим: правящие классы были вынуждены заключить со своими белыми промышленными рабочими определенные «сделки» (как, например, создание видимости «свободы» заключения контрактов рабочими на оплату своего труда). Идея такого взгляда на историю приводит к выводу: капитализм как в его ранних, так и в поздних формах всегда был случайным экономическим аппаратом для исправления ранее потерпевших неудачу систем накопления богатства.
Марксизм решал вторую половину уравнения «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Аристотель пожертвовал первой — отдал способности многих на откуп нуждам немногих — и это привело к натурализированному неравенству.
Удовлетворение потребностей многих приводит к удивительным (и чудовищным) эффектам — и, вполне вероятно, ведет к стимулированию империализма. Так, например, справедливый по отношению к победителям (по мнению самих победителей) Версальский договор так нагрузил экономическую и социальную систему проигравших, что Веймарская парламентская демократия не выдержала, и весь мир снова оказался втянут в войну.
Моральная аргументация по вопросу социального равенства («1 процент» и так далее) — вполне вероятно, не касается сути вопроса, которая находится не столько в распределении, сколько в производстве богатства; не столько в вопросе удовлетворения потребностей, сколько в попытке понять, из чего эти потребности состоят и как быстро, и под воздействием чего они меняются.
(—2)
По Аристотелю — источнику, как мы знаем, бОльшинства идей в западной философии, — управление домом (ойкосом) требует богатства (ploutos). Ойкос — основа полиса, и поэтому никакая политическая теория не может обойти стороной вопрос того, как человек приобретает богатство.
Богатство у Аристотеля было средством достижения счастья (эвдемонии), а не самоцелью. И все же, конечно, «естественное» (то есть наследное) богатство — всегда предпочтительнее других вариантов. Торговля на рынке (то есть появление денег как медиума для сделок) и, тем более, делание денег с помощью денег (ростовщичество и прочее — что впоследствии было также осуждено в христианстве и исламе) — предпочтительными вариантами не являются, ибо они могут привести к жадности и поклонению знакам (денежным), а не сути (история Мидаса — как предупреждение от этого).
«В этом отношении Аристотель был в целом согласен с Карлом Марксом, который столетия спустя в первой книге "Капитала" настаивал на том, что придание ценности товару посредством торговли или обмена обесценивает его или лишает его сущности. Его истинной ценностью была “потребительная стоимость”, в отличие от “меновой стоимости”».
Но осуждение получения богатства с помощью механизмов обмена парадоксальным образом привело к тому, что сегодня мы называем «неравенством доходов», а также послужило обоснованием рабства. По Аристотелю, как есть «природные блага», которыми можно владеть, так есть и те, кого можно назвать «прирожденными рабами», цель которых — обеспечить своим безвозмездным трудом счастье рабовладельца.
Именно из-за этой идеи церковь веками не осуждала различные формы крепостного права и рабство. Расизм не был причиной, он последовал за коммерциализацией человеческих тел, которая возникла из-за связи аристотелевского принципа «естественного рабства» и возникшей системы массового производства. И именно поэтому стало возможным беспрецедентное производство «добавочной стоимости» (Маркс) человеческого труда.
Но фабрика в какой-то момент заменила плантацию — по причинам вовсе не гуманитарным, а вполне экономическим: правящие классы были вынуждены заключить со своими белыми промышленными рабочими определенные «сделки» (как, например, создание видимости «свободы» заключения контрактов рабочими на оплату своего труда). Идея такого взгляда на историю приводит к выводу: капитализм как в его ранних, так и в поздних формах всегда был случайным экономическим аппаратом для исправления ранее потерпевших неудачу систем накопления богатства.
Марксизм решал вторую половину уравнения «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Аристотель пожертвовал первой — отдал способности многих на откуп нуждам немногих — и это привело к натурализированному неравенству.
Удовлетворение потребностей многих приводит к удивительным (и чудовищным) эффектам — и, вполне вероятно, ведет к стимулированию империализма. Так, например, справедливый по отношению к победителям (по мнению самих победителей) Версальский договор так нагрузил экономическую и социальную систему проигравших, что Веймарская парламентская демократия не выдержала, и весь мир снова оказался втянут в войну.
Моральная аргументация по вопросу социального равенства («1 процент» и так далее) — вполне вероятно, не касается сути вопроса, которая находится не столько в распределении, сколько в производстве богатства; не столько в вопросе удовлетворения потребностей, сколько в попытке понять, из чего эти потребности состоят и как быстро, и под воздействием чего они меняются.
(—2)
❤7👍5🤔2
(2/2)
(1—)
Темпами, немыслимыми даже полвека назад, “каждый” удовлетворялся во все большей мере “в соответствии со своими потребностями”, но само мерило потребностей изменилось почти до неузнаваемости.
Еще совсем недавно, на рубеже нового тысячелетия, мало кто мог представить себе сотовый телефон дешевым общемировым товаром, не говоря уже о количестве энергии, которое необходимо производить на душу населения, чтобы поддерживать новообретенное “богатство” планеты. Постоянно растущее потребление, сопровождаемое неуклонным ростом населения, ставит под угрозу отношения между человечеством и природой на таком уровне, который привел бы в ужас Аристотеля, когда он впервые попытался сформулировать вопрос о богатстве.
А растущее потребление, как показывают данные, неизбежно сопровождается ростом неравенства на национальном уровне в плане владения богатством и контроля за ним. Во всем мире пресловутый “один процент” в настоящее время контролирует почти половину мирового богатства. Основной причиной этой тенденции является стремительный прогресс в области цифровых технологий и автоматизации в создании материальных благ, новых марксистских “средств производства”, которые нелегко перераспределить демократическим путем.
Проблема богатства — это извечный моральный вопрос о том, кому и сколько должно быть позволено иметь. Но вопрос о том, как оно создается, который с самого начала был загадкой политической экономии, не так легко поддается морализаторским решениям.
(1—)
❤10
Ууу, хот тейк от Делёза и Гваттари о бессмысленности дискуссий для занятий философией из книги «Что такое философия?»:
Коллеги, мнения?
И кто лучший последователь великих философов — тот, кто повторяет то, что они говорили, или же тот, кто делает то, что они делали, то есть создает концепты для необходимо меняющихся проблем?
Поэтому у философа очень мало вкуса к дискуссиям. Услышав фразу "давайте подискутируем", любой философ убегает со всех ног. Спорить хорошо за круглым столом, но философия бросает свои шифрованные кости на совсем иной стол. Самое малое, что можно сказать о дискуссиях, это что они не продвигают дело вперед, так как собеседники никогда не говорят об одном и том же. Какое дело философии до того, что некто имеет такие-то взгляды, думает так, а не иначе, коль скоро остаются невысказанными замешанные в этом споре проблемы? А когда эти проблемы высказаны, то туг уж надо не спорить, а создавать для назначенной себе проблемы бесспорные концепты. Коммуникация всегда наступает слишком рано или слишком поздно, и беседа всегда является лишней по отношению к творчеству. Иногда философию представляют себе как вечную дискуссию, в духе "коммуникационной рациональности" или "мирового демократического диалога". Нет ничего более неточного; когда один философ критикует другого, то делает это исходя из чуждых ему проблем и в чуждом ему плане, переплавляя его концепты, подобно тому как можно переплавить пушку, отлив из нее новое оружие. Спорящие всегда оказываются в разных планах. Критиковать -- значит просто констатировать, что старый концепт, погруженный в новую среду, исчезает, теряет свои составляющие или же приобретает другие, которые его преображают. А те, кто занимается нетворческой критикой, кто ограничивается защитой исчезающего концепта, не умея придать ему сил к возрождению, — для философии такие суть истинное бедствие. Все эти специалисты по дискуссиям и коммуникации движимы обидой. Сталкивая друг с другом пустые общие словеса, они говорят лишь сами о себе. Философия же не выносит дискуссий. Ей всегда не до них. Спор для нее нестерпим не потому, чтобы она была так уж уверена в себе; напротив, именно неуверенность влечет ее на новые, более одинокие пути. Но разве Сократ не превратил философию в вольную дружескую дискуссию? Разве это не вершина греческой общительности — беседы свободных людей? На самом деле Сократ постоянно занимался тем, что делал невозможной всякую дискуссию — будь то в краткой форме агона (вопросов и ответов) или в длинной форме соперничающих между собой речей. Из друга он сделал исключительно друга концепта, а из самого концепта — безжалостный монолог, устраняющий одного соперника за другим.
Коллеги, мнения?
❤13😁1
Итак, пассивный консерватизм представляет всякое реально существующее государство не результатом сознательного проекта, не произведением разума, но произведением искусства, в котором консерватор обнаруживает объект вдохновения. Скепсис в отношении просвещенческого Разума, таким образом, оборачивался подозрением в отношении любого политического действия. Для Карла Шмитта такая вторичность содержания государства «является следствием окказиональной позиции и глубоко обоснована в сути романтического, ядром которого является пассивность». Конечно, для романтического представления о единстве природы и искусства, данного и прекрасного, было «соблазнительно признать отличительным признаком всех контрреволюционных теорий общий отказ от сознательного «делания», однако «традиционализм в своем последовательном отвержении каждого разума в отдельности не обязательно пассивен». Романтический субъект находит себя в «окказиональной позиции», так как ставит себя вне естественного развития событий и рассматривает «мир как повод и возможность своей романтической продуктивности». Подобный «политический романтизм» для Шмитта неизбежно приводил к закономерному отвержению самого ядра политики как иерархии морального и социального порядка. Более того, пассивный романтический консерватизм своим моральным релятивизмом и безостановочной эстетизацией лишь развивает логику Модерна, изгоняющего из мира политические и духовные смыслы — ведь «только в распавшемся на индивиды обществе эстетически творящий субъект мог поместить духовный центр в самого себя».
Илья Будрайтскис в коротенькой книжке «Мир, который построил Хантингтон, и в котором живем все мы», цитирует «Политический романтизм» Карла Шмитта. Шмитт пишет эту книжку в 1919 году, когда, условно говоря, «ранний» Шмитт постепенно становится Шмиттом «поздним». Он разрывает со свойственным ему ранее романтизмом (где жизнь разумная — это жизнь механическая и изживающая себя, а подлинное постижение жизни доступно лишь художнику, который отказывается от оков рассудка) и свойственным тому времени представлением об активизме (как об, опять же, деятельности, которая не должна сковываться рассудком — это деятельность пророков и мессий, а не теоретиков или деятельных людей). Иными словами, удивительно современно звучащий текст.
Более того, после этого текста Шмитт начинает развивать свою идею политики как «вражды», а вовсе не пространства для пассивной эстетизации собственной внутренней жизни. С этой позиции интересно посмотреть, например, как «американская либеральная демократия становится знаменем неоконсерватизма не в качестве рационального механизма, преимущества которого очевидны каждому, а как добродетель, укорененная в традиции» (это снова Будрайтскис). И, развивая эту мысль — как, например, некоторые формы современного активизма это лишь способ «поместить духовный (хочется продолжить — и политический) центр в самого себя». И, в конечном счете, подменить предмет борьбы: вместо некоторого общественного блага или общественного же столкновения интересов обнаружится россыпь индивидуальных Я, увлеченных собственным романтизированным самовыражением.
❤12👍5🤔1
Завела отдельный канальчик про all things related to ADHD, а именно: туда я планирую писать и лонгриды типа таких, если они вдруг придут ко мне, а еще собирать мемы (которые одновременно смешные и нет 🥲), расписывать практики/навыки, которые кажутся полезными, делать заметки к видео и статьям/иным текстам на тему и так далее. В закрепленном посте написано, почему так — в целом мне кажется, что в этом канале философия отвлекает от СДВГ, и наоборот. Это все очень увлекательно — для меня и внутри моей головы, но, вполне вероятно, навыки эмоциональной регуляции странно смотрятся рядом с рассуждениями о демократии и теориями общественного сожительства. Вероятно, как и обычно, разложить на коробочки может помочь. (А может и нет — тоже как и обычно).
Короче, у меня сдвг, поэтому.
Короче, у меня сдвг, поэтому.
Telegram
у меня сдвг, поэтому
СДВГ и «стена отвращения»
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой…
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой…
❤10
Впервые за, наверное, всю историю моих взаимоотношений с контентом на ютубе, посмотрела 2+ часовое видеоинтервью, где два мужика просто сидят, трещат, с уровнем вовлечения в происходящее 146%.
Название, конечно, слегка кликбейтное — аюрведа это просто вывеска, точнее, просто повод поговорить о том, насколько совместимы системы западной и восточной медицины. Доктор Майк выступает за сугубо западный подход: рандомизированные контролируемые исследования, представление о медицине как о системе лечения статистически заметных групп населения (а не отдельных индивидов) и «искусство медицины», то есть плохо (или вообще не) стандартизируемая практика приземления способов лечения, проверенных на массах, на индивидуальные тела и умы конкретных людей. С другой стороны — доктор Кей, который находится между восточным и западным мирами (готовился стать буддистским монахом, но стал западным врачом, который, однако, активно использует восточные практики в своей работе), и предполагает, что каждая из этих систем заметным образом игнорирует огромные куски человеческого опыта, а потому по определению они обе не полны. Но, если у них появится общая цель, они обе могут выиграть от взаимного обогащения друг друга (друг другом). И, кажется, если в той же философии или теории международных отношений эта общая для западной и восточной системы мысли цель может быть не очевидна, то у медицины (самой в себе) она как-то будто бы есть: помогать людям (вы)жить.
Но интересен, на мой взгляд, даже не только контент разговора (хотя он и крутой), но и то, как вообще этот разговор развивался: насколько очевидным становится сопротивление Майка и то, как Кей с этим сопротивлением работает (заметно, в какой момент Кей на секунду заскакивает в мета-позицию коуча и смотрит на их разговор со стороны, пытаясь понять, что именно сейчас происходит) — и как разговор выруливает именно туда, во взаимопонимание и обогащение позиций, изначально друг с другом не согласных.
Вот все бы споры о ценностях и экзистенциальных позициях в интернете такими были, конечно.
Название, конечно, слегка кликбейтное — аюрведа это просто вывеска, точнее, просто повод поговорить о том, насколько совместимы системы западной и восточной медицины. Доктор Майк выступает за сугубо западный подход: рандомизированные контролируемые исследования, представление о медицине как о системе лечения статистически заметных групп населения (а не отдельных индивидов) и «искусство медицины», то есть плохо (или вообще не) стандартизируемая практика приземления способов лечения, проверенных на массах, на индивидуальные тела и умы конкретных людей. С другой стороны — доктор Кей, который находится между восточным и западным мирами (готовился стать буддистским монахом, но стал западным врачом, который, однако, активно использует восточные практики в своей работе), и предполагает, что каждая из этих систем заметным образом игнорирует огромные куски человеческого опыта, а потому по определению они обе не полны. Но, если у них появится общая цель, они обе могут выиграть от взаимного обогащения друг друга (друг другом). И, кажется, если в той же философии или теории международных отношений эта общая для западной и восточной системы мысли цель может быть не очевидна, то у медицины (самой в себе) она как-то будто бы есть: помогать людям (вы)жить.
Но интересен, на мой взгляд, даже не только контент разговора (хотя он и крутой), но и то, как вообще этот разговор развивался: насколько очевидным становится сопротивление Майка и то, как Кей с этим сопротивлением работает (заметно, в какой момент Кей на секунду заскакивает в мета-позицию коуча и смотрит на их разговор со стороны, пытаясь понять, что именно сейчас происходит) — и как разговор выруливает именно туда, во взаимопонимание и обогащение позиций, изначально друг с другом не согласных.
Вот все бы споры о ценностях и экзистенциальных позициях в интернете такими были, конечно.
YouTube
Debating The Value Of Eastern Medicine (Ayurveda) | Healthy Gamer Dr. K
I'll teach you how to become the media's go-to expert in your field. Enroll in The Professional's Media Academy now: https://www.professionalsmediaacademy.com/
Listen to my podcast, @DoctorMikeCheckup, here:
Spotify: https://go.doctormikemedia.com/spoti…
Listen to my podcast, @DoctorMikeCheckup, here:
Spotify: https://go.doctormikemedia.com/spoti…
❤12💯3✍1
Однажды вам придется нарушить важный закон во имя справедливости и рациональности. От этого будет зависеть все. Вы должны быть готовы. Как вы собираетесь подготовиться к этому дню, когда это действительно будет иметь значение? Когда наступит этот день, вы должны быть "в форме". Вам нужна "анархистская калистеника". Каждый день или около того нарушайте какой-нибудь тривиальный закон, который не имеет смысла, даже если это всего лишь переход улицы. Используйте свой разум, чтобы судить о том, справедлив ли закон. Так вы будете поддерживать себя в форме, и, когда наступит важный день, вы будете готовы.
— Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity and Meaningful Work and Play
В общем, для тех, кто прочитал всего Дэвида Гребера — книги Скотта на английском есть в The Anarchist Library.
❤19
Forwarded from ЭГАЛИТÉ
19 июля умер человек, посвятивший практические все свое творчество опровержению марксистской концепции гегемонии, подразумевающей, что существует безраздельное господство правящих классов над интеллектуальной и социальной жизнью угнетенных.
Изучая нравственную экономику, культуру и социальную структуру крестьянских общин Юго-Восточной Азии, антрополог и специалист по сравнительной политологии Джеймс Скотт пришел к выводу, что внутри каждой политико-экономической системы существует множество социальных групп, для которых то, что преподносится официальным дискурсом как очевидное, базовое, необходимое вовсе таковым не является. Фундаментальный раскол, связанный со множеством внутренних социальных историй, скрепляющих сообщества, делает возможным две формы коммуникации между властью и подчиненными: внешнюю, предполагающую соблюдение установленных формальностей, и скрытую, которая основана на пренебрежении и нарушении большинства установок правящих групп.
Скрытые формы коммуникации угнетенных с системой власти являются ни чем иным, как формами повседневного сопротивления, которые Скотт назвал «инфраполитикой». Инфраполитика была охарактеризована им как анархична per se, поскольку зачастую игнорирует «здравый смысл» больших управленческих проектов, а основывается на социальном опыте индивидов, личных отношениях, принципах комфортного общежития и безопасности.
По Скотту, основным «оружием слабых» становится побег от государства. В своей книге «Против зерна», на основании многочисленных современных археологических исследований, он утверждает, что большинство первых городов-государств погибали из-за того, что податное население массово покидало их. Крестьянские общины, изученные Скоттом, например, народы Зомии, ради ускользания от государства вновь выбирали кочевой образ жизни, отказывались от письменности как формы когнитивного угнетения (становясь постписьменными), а также переходили к охоте, собирательству и подсечно-огневому земледелию. Таким образом, благодаря его полевым исследованиям, многие интуиции первого анархиста-антрополога Пьера Кластра нашли свое подтверждение. А что касается ближайших для нас контекстов, то в истории народов постсоветских стран тоже найдется немало примеров инфраполитики, ставшей ответом на насильственную коллективизацию, ликвидацию легального рынка и полное огосударствление всех сфер жизни.
Уникальность наследия Джеймса Скотта заключается в том, что ко многим вопросам современной политологии он подошел с «анархической наблюдательностью», проявив удивительное умение видеть за фасадом структур и систем неупорядоченные, спонтанные действия, медленно разрушающие принудительный порядок изнутри. Пока для многих левых наука остается полем философских дебатов вокруг больших идей, Скотт придал значимость хаосу, приключениям, эскапизму и анархии, найдя их среди тех, кому большинство категорий западной политической мысли были не знакомы.
Изучая нравственную экономику, культуру и социальную структуру крестьянских общин Юго-Восточной Азии, антрополог и специалист по сравнительной политологии Джеймс Скотт пришел к выводу, что внутри каждой политико-экономической системы существует множество социальных групп, для которых то, что преподносится официальным дискурсом как очевидное, базовое, необходимое вовсе таковым не является. Фундаментальный раскол, связанный со множеством внутренних социальных историй, скрепляющих сообщества, делает возможным две формы коммуникации между властью и подчиненными: внешнюю, предполагающую соблюдение установленных формальностей, и скрытую, которая основана на пренебрежении и нарушении большинства установок правящих групп.
Скрытые формы коммуникации угнетенных с системой власти являются ни чем иным, как формами повседневного сопротивления, которые Скотт назвал «инфраполитикой». Инфраполитика была охарактеризована им как анархична per se, поскольку зачастую игнорирует «здравый смысл» больших управленческих проектов, а основывается на социальном опыте индивидов, личных отношениях, принципах комфортного общежития и безопасности.
По Скотту, основным «оружием слабых» становится побег от государства. В своей книге «Против зерна», на основании многочисленных современных археологических исследований, он утверждает, что большинство первых городов-государств погибали из-за того, что податное население массово покидало их. Крестьянские общины, изученные Скоттом, например, народы Зомии, ради ускользания от государства вновь выбирали кочевой образ жизни, отказывались от письменности как формы когнитивного угнетения (становясь постписьменными), а также переходили к охоте, собирательству и подсечно-огневому земледелию. Таким образом, благодаря его полевым исследованиям, многие интуиции первого анархиста-антрополога Пьера Кластра нашли свое подтверждение. А что касается ближайших для нас контекстов, то в истории народов постсоветских стран тоже найдется немало примеров инфраполитики, ставшей ответом на насильственную коллективизацию, ликвидацию легального рынка и полное огосударствление всех сфер жизни.
Уникальность наследия Джеймса Скотта заключается в том, что ко многим вопросам современной политологии он подошел с «анархической наблюдательностью», проявив удивительное умение видеть за фасадом структур и систем неупорядоченные, спонтанные действия, медленно разрушающие принудительный порядок изнутри. Пока для многих левых наука остается полем философских дебатов вокруг больших идей, Скотт придал значимость хаосу, приключениям, эскапизму и анархии, найдя их среди тех, кому большинство категорий западной политической мысли были не знакомы.
❤29
О том, чего мы можем не делать
Некогда Жиль Делёз определил действие власти как отделение людей от того, что они могут, а именно — от их способностей. Действующие силы сталкиваются с препятствием либо из–за отсутствия материальных условий для их реализации, либо из–за какого–либо запрета, который делает их применение категорически невозможным. В обоих случаях власть — и в этом проявляется её высший деспотизм и жестокость — отделяет людей от их способностей и тем самым обуславливает их бессилие. Но существует и другое, более коварное действие власти, распространяющееся не непосредственно на то, что люди могут делать — на их силы, а на их бессилие, то есть на то, чего они не могут делать или, скорее, на то, чего они могут не делать.
Сила в основе своей есть то же бессилие, каждая способность делать что–либо по определению подразумевает способность не делать чего–либо, и это — ключевое достижение теории способности, которую Аристотель развивает в IX книге «Метафизики». «Неспособность [adynamia], — пишет он, — это лишённость, противоположная такого рода способности [dynamis], так что способность всегда бывает к тому же и в том же отношении, что и неспособность»[60] (Met. 1046а, 29–31). «Неспособность» означает здесь не только отсутствие способности, невозможность делать что–либо, но также и прежде всего «возможность не делать чего–либо», возможность не задействовать собственную способность. <...> В то время как огонь может лишь гореть, а другие живые существа могут действовать лишь в меру свойственной им способности, иными словами, они могут вести себя только так или иначе, в соответствии с их биологическим предназначением, то человек — это животное, которое способно на собственную неспособность.
Как раз на эту, менее очевидную, сторону способности и опирается сегодня власть, не без иронии именующая себя «демократической». Она отделяет людей не только и не столько от того, что они могут делать, сколько от того, чего они могут не делать.
Сегодняшнего человека отделили от собственной неспособности, лишили представления о том, чего он может не делать, и в итоге он верит в своё всемогущество и повторяет радостное «Проще простого!» или безответственное «Будет сделано!», когда на самом деле он должен понять, что он каким–то непостижимым образом оказался во власти сил и процессов, контролировать которые он совершенно не в состоянии. Он слеп не к своим способностям, а к своим неспособностям, не к тому, что он может делать, а к тому, чего он не может делать или же чего он может не делать.
Отсюда и вся путаница нашего времени, неумение отделять ремесло от призвания, профессиональную принадлежность — от социальных ролей, каждую из которых играют статисты, чья наглость обратно пропорциональна непостоянству и неуверенности в качестве исполнения. Мысль о том, что каждый может делать что угодно или быть кем угодно, или же предположение, что не только осматривающий меня врач завтра может стать видеохудожником, но и убивающий меня палач уже действительно стал — как в «Процессе» Кафки — певцом, лишь отражает понимание того, что все просто–напросто прогибаются, пытаясь соответствовать тому уровню гибкости, которого на сегодняшний день больше всего требует от каждого из нас рынок.
Ничто не превращает нас в нищих и не лишает свободы так, как это отчуждение неспособности. Человек, отделённый от того, что он может делать, способен ещё сопротивляться, он ещё может не делать чего–либо. Но тот, кого оторвали от собственной неспособности, прежде всего лишается возможности противостоять. Лишь острое осознание того, чем мы не можем быть, гарантирует нам истинное понимание того, чем мы являемся, — точно так же ясное представление о том, чего мы не можем делать или чего мы можем не делать, наполняет наши действия реальным содержанием.
Джорджо Агамбен, «Нагота»
❤11💯4🔥2
Вроде культурный человек
О том, чего мы можем не делать Некогда Жиль Делёз определил действие власти как отделение людей от того, что они могут, а именно — от их способностей. Действующие силы сталкиваются с препятствием либо из–за отсутствия материальных условий для их реализации…
Философией не-делания сейчас мало кого удивишь, и тем не менее кажется, что она реже, чем хотелось бы, перерастает в какую-то более приближенную к жизни практику.
Например, на уровне политики (о чем и пишет Агамбен): что, если жители современных демократий столкнутся с реальностью, в которой они на самом деле не обладают возможностью ничего, в политическом смысле, решить? Что, если нарратив славы, силы и всемогущества сменится чем-то куда более человеческим — бессилием, неспособностью, терпением? Что, если жители современных либеральных капитализмов столкнутся с тем, что не каждый может быть кем угодно, и, более того, что это требование в значительной степени безумно? И, конечно — что не-делание может привести к насилию со стороны системы куда бОльшему, чем делание? Или, на более частном уровне: что, если я столкнусь с осознанием, что мою жизнь в значительной степени оформляет не то, что я могу делать, а то, чего я не могу не делать (будь то по внешним или внутренним причинам)? В конце концов, возможности не делать что я могу быть в данный момент лишен(а)?
Иными словами, именно не-делание в конечном итоге и может высвободить наш ментальный и эмоциональный потенциал из удушающих привычек и увлеченности циклом потребления и производства, в котором не должно оставаться пустых, незаполненных мест. Так, по крайней мере, дает основания считать Агамбен.
Например, на уровне политики (о чем и пишет Агамбен): что, если жители современных демократий столкнутся с реальностью, в которой они на самом деле не обладают возможностью ничего, в политическом смысле, решить? Что, если нарратив славы, силы и всемогущества сменится чем-то куда более человеческим — бессилием, неспособностью, терпением? Что, если жители современных либеральных капитализмов столкнутся с тем, что не каждый может быть кем угодно, и, более того, что это требование в значительной степени безумно? И, конечно — что не-делание может привести к насилию со стороны системы куда бОльшему, чем делание? Или, на более частном уровне: что, если я столкнусь с осознанием, что мою жизнь в значительной степени оформляет не то, что я могу делать, а то, чего я не могу не делать (будь то по внешним или внутренним причинам)? В конце концов, возможности не делать что я могу быть в данный момент лишен(а)?
Иными словами, именно не-делание в конечном итоге и может высвободить наш ментальный и эмоциональный потенциал из удушающих привычек и увлеченности циклом потребления и производства, в котором не должно оставаться пустых, незаполненных мест. Так, по крайней мере, дает основания считать Агамбен.
❤13✍6
Мне чем дальше, тем больше кажется, что античных философов надо читать, высматривая, в каком именно кармане тоги у него фига. Фига, понятное дело, скорее для современного читателя со всей нашей привычкой читать классические философские тексты прямолинейно, as is.
Например, платоновский диалог (или, иначе — сократический диалог, так как в большинстве текстов этого жанра присутствует Сократ, но это необязательное условие) — особый философско-литературный жанр, который, в общем, развивается в соответствии с определенными принципами. Это не философский диалог, и даже не дискуссия о философии, как иногда принято считать — это дидактический жанр, то есть текст, который призван чему-то научить читателя. В платоновском диалоге есть носитель представления об истине — например, Сократ, который заранее защищается от каких-либо обвинений в неправоте, так как он играет роль человека, носителем знания не являющегося. Предпосылка платонического диалога — ирония: «расскажи мне про Австралию, мне ужасно интересно».
Итак: если под диалогом мы понимаем столкновение разных точек зрения, разных истин и представлений о философии и культуре, и в этом его отличие от монолога (или серии монологов), то платоновский диалог не является в прямом смысле диалогом: в нем всегда есть герой, который не прав, и герой, который прав (например, Сократ). Иными словами, «нет ничего более монологичного, чем платоновский диалог»: в таких текстах у автора есть точка зрения и есть герой, эту точку зрения выражающий, и (это важно) она никогда не изменится в процессе спора. Его партнеры по диалогу (другие персонажи текста) — это слушатели, производители мнений, которые будут опровергнуты (обязательно), ученики или самовлюбленные уверенные в себе ребята, которых, как злодеев в боевиках, в конце обязательно победят, да еще и с позором (в некоторых текстах это «разбиение» позиции носит почти юмористический характер, от читателя ожидается, что в конце он похихикает над глупостью побежденного).
Это не диалог, в котором столкновение умов порождает истину — истина заведомо известна, она лишь упаковывается в форму диалога для увлекательности чтения.
В таком прочтении Платон предстает догматиком, который через искусную литературную работу «упаковал» свое учение (скорее даже — небольшую его часть) в форму увлекательных с чисто драматической точки зрения диалогов (многие из них построены по принципу сценического агона). И в этом смысле платоновский диалог — это проза, целью которой является не торжество свободной дискуссии, а передача знаний, совершенная форма которой есть устная беседа (переданная, за неимением лучшего медиума, в форме написанного текста). И это знание, если его непростительно упростить, в том, что любое наше убеждение мы должны иметь возможность логически вывести и обсновать, и что природа знания — не в убежденности и пассивно полученном знании (будь то через верования или через образование), а в активном понимании сути вещей и способности мыслить на уровне идей.
Вот неплохая, в целом, простоязычная статья об этом — и о том, как еще можно читать Платона. В результате, конечно, мы все равно сделаем круг — и придем к идее, что истинная философия содержится не в письменном слове (ибо письменное слово, по Платону, мертво — его собственное в том числе), а в устной беседе.
А вот еще гайд по героям диалогов Платона — все они были не риторическими персонажами, а вполне конкретными людьми, и это тоже важно для понимания текста: Сократ опровергает не абстрактные убеждения, а доводы вполне конкретных людей. Короче, весело это все.
Например, платоновский диалог (или, иначе — сократический диалог, так как в большинстве текстов этого жанра присутствует Сократ, но это необязательное условие) — особый философско-литературный жанр, который, в общем, развивается в соответствии с определенными принципами. Это не философский диалог, и даже не дискуссия о философии, как иногда принято считать — это дидактический жанр, то есть текст, который призван чему-то научить читателя. В платоновском диалоге есть носитель представления об истине — например, Сократ, который заранее защищается от каких-либо обвинений в неправоте, так как он играет роль человека, носителем знания не являющегося. Предпосылка платонического диалога — ирония: «расскажи мне про Австралию, мне ужасно интересно».
Итак: если под диалогом мы понимаем столкновение разных точек зрения, разных истин и представлений о философии и культуре, и в этом его отличие от монолога (или серии монологов), то платоновский диалог не является в прямом смысле диалогом: в нем всегда есть герой, который не прав, и герой, который прав (например, Сократ). Иными словами, «нет ничего более монологичного, чем платоновский диалог»: в таких текстах у автора есть точка зрения и есть герой, эту точку зрения выражающий, и (это важно) она никогда не изменится в процессе спора. Его партнеры по диалогу (другие персонажи текста) — это слушатели, производители мнений, которые будут опровергнуты (обязательно), ученики или самовлюбленные уверенные в себе ребята, которых, как злодеев в боевиках, в конце обязательно победят, да еще и с позором (в некоторых текстах это «разбиение» позиции носит почти юмористический характер, от читателя ожидается, что в конце он похихикает над глупостью побежденного).
Это не диалог, в котором столкновение умов порождает истину — истина заведомо известна, она лишь упаковывается в форму диалога для увлекательности чтения.
В таком прочтении Платон предстает догматиком, который через искусную литературную работу «упаковал» свое учение (скорее даже — небольшую его часть) в форму увлекательных с чисто драматической точки зрения диалогов (многие из них построены по принципу сценического агона). И в этом смысле платоновский диалог — это проза, целью которой является не торжество свободной дискуссии, а передача знаний, совершенная форма которой есть устная беседа (переданная, за неимением лучшего медиума, в форме написанного текста). И это знание, если его непростительно упростить, в том, что любое наше убеждение мы должны иметь возможность логически вывести и обсновать, и что природа знания — не в убежденности и пассивно полученном знании (будь то через верования или через образование), а в активном понимании сути вещей и способности мыслить на уровне идей.
Вот неплохая, в целом, простоязычная статья об этом — и о том, как еще можно читать Платона. В результате, конечно, мы все равно сделаем круг — и придем к идее, что истинная философия содержится не в письменном слове (ибо письменное слово, по Платону, мертво — его собственное в том числе), а в устной беседе.
Конечная цель любых его бесед, независимо от их формы, — обратить человека в философию, заставить его жить в согласии с разумом. И как сказал Томас Слезак, «кто начинает философствовать с Платоном, может быть уверен, что находится на правильном пути».
А вот еще гайд по героям диалогов Платона — все они были не риторическими персонажами, а вполне конкретными людьми, и это тоже важно для понимания текста: Сократ опровергает не абстрактные убеждения, а доводы вполне конкретных людей. Короче, весело это все.
❤10👍1
Forwarded from Тезис 11
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАТВЕЕВЫМ ИЛЬЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАТВЕЕВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Если сейчас Телеграм прекратит работу, начнет сбоить или не сможет преодолеть новую попытку блокировки со стороны российский властей - что останется от независимой публичной сферы в России?
Для меня этим исчерпывается вопрос об аресте Дурова.
Если сейчас Телеграм прекратит работу, начнет сбоить или не сможет преодолеть новую попытку блокировки со стороны российский властей - что останется от независимой публичной сферы в России?
Для меня этим исчерпывается вопрос об аресте Дурова.