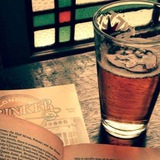Если наш «левый дядюшка за семейным столом» — это Дэвид Гребер, то у Дэвида Гребера им, очевидно, был Карл Поланьи.
«Разумеется, никакое общество не могло бы жить, не располагая экономикой того или иного типа, однако вплоть до нашей эпохи не существовало экономики, которая, хотя бы в принципе, управлялась законами рынка. Вопреки хору академических заклинаний, столь упорных в XIX в., прибыль и доход, получаемые посредством обмена, в прежние времена никогда не играли важной роли в человеческой экономике. Хотя сам институт рынка был довольно широко распространен начиная с позднего каменного века, его функция в экономической жизни оставалась вполне второстепенной.
Мыслитель такого уровня, как Адам Смит, утверждал, что разделение труда в обществе зависит от существования рынков или, как он выразился, от «склонности человека к торгу и обмену».
Впоследствии из этой фразы развилась концепция Экономического Человека. Теперь, в ретроспективе, можно сказать, что никогда еще ложное истолкование прошлого не оказывалось столь же блестящим предсказанием будущего. Ибо если до Адама Смита эта склонность едва ли обнаруживалась в сколько-нибудь значительных масштабах в каком-либо из известных нам обществ, оставаясь, самое большее, второстепенным фактором экономической жизни, то уже сто лет спустя на большей части земного шара развилась такая система хозяйственной организации, которая и практически и теоретически исходила из того, что всей экономической деятельностью человечества и чуть ли не всеми его политическими, интеллектуальными и духовными устремлениями управляет именно эта склонность. Во второй половине XIX в., после весьма поверхностного знакомства с экономическими проблемами, Герберт Спенсер отождествил принцип разделения труда с обменом, а еще через 50 лет то же заблуждение повторяли Людвиг фон Мизес и Уолтер Липпман. Впрочем, к этому времени никто уже и не требовал доказательств: целый сонм авторов, писавших по вопросам политической экономики, социальной истории, политической философии и общей социологии, двинулся по стопам Смита, превратив его пример «обменивающегося дикаря» в аксиому соответствующих наук. На самом же деле гипотеза Адама Смита об экономической психологии первобытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии дикаря. Разделение труда, феномен столь же древний, как и само общество, обусловлен различиями, заданными полом, географией и индивидуальными способностями, а пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична. Истории и этнографии известны разные типы экономик, большинство из которых включает в себя институт рынка, но им неведома какая-либо экономика, предшествующая нашей, которая бы, пусть даже в минимальной степени, регулировалась и управлялась рынком. <...>
Вначале мы должны отбросить некоторые предрассудки XIX столетия, лежавшие в основе гипотезы Адама Смита о мнимом пристрастии первобытного человека к прибыльным занятиям. Поскольку аксиома эта имела гораздо больше смысла в применении к ближайшему будущему, нежели к туманному прошлому, то она внушила его последователям странный подход к ранней истории человечества. Фактические данные свидетельствовали, на первый взгляд, о том, что первобытному человеку была свойственна не капиталистическая, а как раз коммунистическая психология (позднее было доказано, что и это неверно). А потому экономические историки ограничивали свой научный интерес тем сравнительно коротким периодом истории, когда феномен обмена приобрел заметный размах, первобытная же экономика была низведена до уровня «предыстории». В итоге они невольно склонили чашу весов в пользу рыночной психологии, ибо в пределах относительно краткого периода — нескольких последних столетий — буквально все можно было истолковать как тенденцию к утверждению того, что в конце концов и утвердилось, т. е. рыночной системы, совершенно игнорируя при этом прочие тенденции, на время исчезнувшие из виду».
Карл Поланьи, «Великая Трансформация» (1944)
«Разумеется, никакое общество не могло бы жить, не располагая экономикой того или иного типа, однако вплоть до нашей эпохи не существовало экономики, которая, хотя бы в принципе, управлялась законами рынка. Вопреки хору академических заклинаний, столь упорных в XIX в., прибыль и доход, получаемые посредством обмена, в прежние времена никогда не играли важной роли в человеческой экономике. Хотя сам институт рынка был довольно широко распространен начиная с позднего каменного века, его функция в экономической жизни оставалась вполне второстепенной.
Мыслитель такого уровня, как Адам Смит, утверждал, что разделение труда в обществе зависит от существования рынков или, как он выразился, от «склонности человека к торгу и обмену».
Впоследствии из этой фразы развилась концепция Экономического Человека. Теперь, в ретроспективе, можно сказать, что никогда еще ложное истолкование прошлого не оказывалось столь же блестящим предсказанием будущего. Ибо если до Адама Смита эта склонность едва ли обнаруживалась в сколько-нибудь значительных масштабах в каком-либо из известных нам обществ, оставаясь, самое большее, второстепенным фактором экономической жизни, то уже сто лет спустя на большей части земного шара развилась такая система хозяйственной организации, которая и практически и теоретически исходила из того, что всей экономической деятельностью человечества и чуть ли не всеми его политическими, интеллектуальными и духовными устремлениями управляет именно эта склонность. Во второй половине XIX в., после весьма поверхностного знакомства с экономическими проблемами, Герберт Спенсер отождествил принцип разделения труда с обменом, а еще через 50 лет то же заблуждение повторяли Людвиг фон Мизес и Уолтер Липпман. Впрочем, к этому времени никто уже и не требовал доказательств: целый сонм авторов, писавших по вопросам политической экономики, социальной истории, политической философии и общей социологии, двинулся по стопам Смита, превратив его пример «обменивающегося дикаря» в аксиому соответствующих наук. На самом же деле гипотеза Адама Смита об экономической психологии первобытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии дикаря. Разделение труда, феномен столь же древний, как и само общество, обусловлен различиями, заданными полом, географией и индивидуальными способностями, а пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична. Истории и этнографии известны разные типы экономик, большинство из которых включает в себя институт рынка, но им неведома какая-либо экономика, предшествующая нашей, которая бы, пусть даже в минимальной степени, регулировалась и управлялась рынком. <...>
Вначале мы должны отбросить некоторые предрассудки XIX столетия, лежавшие в основе гипотезы Адама Смита о мнимом пристрастии первобытного человека к прибыльным занятиям. Поскольку аксиома эта имела гораздо больше смысла в применении к ближайшему будущему, нежели к туманному прошлому, то она внушила его последователям странный подход к ранней истории человечества. Фактические данные свидетельствовали, на первый взгляд, о том, что первобытному человеку была свойственна не капиталистическая, а как раз коммунистическая психология (позднее было доказано, что и это неверно). А потому экономические историки ограничивали свой научный интерес тем сравнительно коротким периодом истории, когда феномен обмена приобрел заметный размах, первобытная же экономика была низведена до уровня «предыстории». В итоге они невольно склонили чашу весов в пользу рыночной психологии, ибо в пределах относительно краткого периода — нескольких последних столетий — буквально все можно было истолковать как тенденцию к утверждению того, что в конце концов и утвердилось, т. е. рыночной системы, совершенно игнорируя при этом прочие тенденции, на время исчезнувшие из виду».
Карл Поланьи, «Великая Трансформация» (1944)
❤11👍1
Если загуглить karl polanyi meme, вылезает oh no the economy: шуточки о том, что если всю свою жизнь мы паримся о ВВП, EBITDA, опционах, купонах, прибыли для акционеров, капитализации Apple и внешнем долге, значит ли это, что это и есть самая важная для общества вещь, ключевая структура и ценность, которая нас определяет, как людей? Значит ли это, что когда Земля сгорит в ядерном пламени, нашей последней мыслью будет: о нет, как жаль, экономика?
Если это звучит смешно, разве не странно, что мы тратим бесценную жизнь на работу на рынок? А если странно — то почему так происходит? Это — один из ключевых тезисов Поланьи, который задается вопросом чуть более глубоким, чем «что значит мемчик»: как стала возможна Вторая Мировая Война, почему возник фашизм, какие социальные трансформации должны были произойти, чтобы все это стало возможным, и что их вызвало?
Ответ он ищет в дуальности отношений социального и экономического: промышленная революция и последовавшие за ней трансформации в экономической мотивации людей (новые классы буржуа приходят на смену наследной и королевской знати, и их основная задача — личное обогащение) разрушили привычные связи, уничтожили традиционные формы взаимодействия людей внутри разных социальных структур (в семье, земельных отношениях, работе, etc). Изменения были слишком быстрыми и неконтролируемыми, а на смену разорвавшимся связям не пришло ничего — только опустошающая гонка за прибылью (для других), вечное капиталистическое колесо сансары (постоянно растущие потребности и желания, чтобы вынудить людей работать больше) и рынки, которые управляют жизнью общества, но которые (the irony) вовсе не являются свободными и никогда, в общем, не являлись. По Поланьи выходит, что общество сейчас существует только для того, чтобы могла продолжать существовать рыночная экономика — и никакой социальной жизни за её пределами мы уже не представляем, а ведь прошло (в рамках человеческой истории) очень немного времени с тех пор, как эта идея вообще а) появилась и б) стала «нормальной».
Oh no.
Если это звучит смешно, разве не странно, что мы тратим бесценную жизнь на работу на рынок? А если странно — то почему так происходит? Это — один из ключевых тезисов Поланьи, который задается вопросом чуть более глубоким, чем «что значит мемчик»: как стала возможна Вторая Мировая Война, почему возник фашизм, какие социальные трансформации должны были произойти, чтобы все это стало возможным, и что их вызвало?
Ответ он ищет в дуальности отношений социального и экономического: промышленная революция и последовавшие за ней трансформации в экономической мотивации людей (новые классы буржуа приходят на смену наследной и королевской знати, и их основная задача — личное обогащение) разрушили привычные связи, уничтожили традиционные формы взаимодействия людей внутри разных социальных структур (в семье, земельных отношениях, работе, etc). Изменения были слишком быстрыми и неконтролируемыми, а на смену разорвавшимся связям не пришло ничего — только опустошающая гонка за прибылью (для других), вечное капиталистическое колесо сансары (постоянно растущие потребности и желания, чтобы вынудить людей работать больше) и рынки, которые управляют жизнью общества, но которые (the irony) вовсе не являются свободными и никогда, в общем, не являлись. По Поланьи выходит, что общество сейчас существует только для того, чтобы могла продолжать существовать рыночная экономика — и никакой социальной жизни за её пределами мы уже не представляем, а ведь прошло (в рамках человеческой истории) очень немного времени с тех пор, как эта идея вообще а) появилась и б) стала «нормальной».
Oh no.
❤28🤔5👍3
Сигаловада сутта — текст, в котором собраны наставления для буддистов-мирян, занятых материальной деятельностью (а не духовной). В ней Будда беседует с Сугалой — представителем сословия вайшьев, которые зарабатывают себе на жизнь с помощью мирского ремесла, и советы ему несколько отличаются от тех, что он дает брахманам и царям.
В числе прочих, в этом тексте есть шесть каналов для рассеивания богатства, которыми не занимается благородный ученик — среди которых, в свою очередь, есть «привычка к безделью».
Коллеги, не могу не задать этот вопрос: мы или мы?
В числе прочих, в этом тексте есть шесть каналов для рассеивания богатства, которыми не занимается благородный ученик — среди которых, в свою очередь, есть «привычка к безделью».
(е) Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в привычке к безделью:
Он совсем не работает, говоря:
(1) что слишком холодно,
(2) что слишком жарко,
(3) что слишком поздно,
(4) что слишком рано,
(5) что он очень голоден,
(6) что он очень наелся.
Коллеги, не могу не задать этот вопрос: мы или мы?
😁18❤11💯6❤🔥2🤔1
СДВГ и «стена отвращения»
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой я ловлю себя на согласии с последствиями того, что сделано это мной не будет. И, конечно, когда последствия все же наступают, я думаю:
Катя блин почему так
Есть такая метафора: «стена отвращения» (wall of awful). Когда мы беремся за дело, перед нами не только, собственно, само дело, но и «стена отвращения» — эмоциональные барьеры, которые состоят из прошлого опыта (провалов, разочарования, прокрастинации, тревоги, отвержения, критики, сомнений, скуки). Такие барьеры есть у всех — но у сдвгешников они часто больше, прочнее и разнообразнее: из-за многолетнего и обычно обширного опыта проваленных задач, прокрастинации, запихивания себя в деятельность через страх или критику, низкой мотивации и особенностей исполнительной функции, которая могла бы перетолкнуть нас через стену, но она вышла из чата.
Катя блин че делать
Дофамин от некоторых заданий разносит стену (Настолько Интересно), ответственность перед другими (начальниками, коллегами по проекту, божьей матерью) и разнообразная экстернализация (убраться дома нет сил, но если придут гости — привет, гиперфокус на уборке) тоже помогает. Но это применимо не ко всем задачам.
В этом видео про «стену» перечисляют несколько практик:
1. Разбить стену. Это злость, направленная вовне (как же вы надоели, ладно, сделаю на силе ненависти к вам) или вовнутрь (как же я себе надоела, ладно, сделаю на силе ненависти к себе) — работает, но у этого есть понятная цена: разрушение отношений с людьми или с собой. Лучше к этому методу не прибегать. Но в эту тактику может качнуть независимо, потому, что это естественная человеческая реакция (замри, беги, бей — это именно бей), а у СДВГ-людей часто есть проблемы с контролем эмоциональной импульсивности.
2. Перелезть через стену. Признать её наличие (я не пишу это письмо не потому, что ленивая — передо мной, буквально, стена), посмотреть на нее и попытаться начать через неё перебираться в своем уме. Например, открыть почту — почувствовать что-то (отвращение, скуку), назвать это, и сказать себе: «прямо сейчас я лезу через стену». Это, по сути, эмоциональная рефлексия и рефрейминг: but again, мы столкнулись с эмоциональной проблемой, и она требует эмоционального решения. Да, это скорее долгосрочное решение; оно предполагает проработку «кирпичей» и делание барьеров не такими….барьеристыми. Терапия, направленная на эту работу, может сделать процесс более устойчивым.
3. Сделать дверь. Стена состоит из эмоций, которые мешают нам do the thing, мы можем попробовать изменить свое эмоциональное состояние через каналы получения, да, дофамина. У каждого могут быть разные схемы: например, форма физической активности (тренировка, отжимания рядом с рабочим столом, чертова прогулка), музыка, смена обстановки (да-да, писать в кофейне), холодный душ, тактильные штучки (аппликатор Кузнецова to the rescue), медитация или переключение внимания («Бросить якорь»). Это должны быть небольшие практики, которые не отправят вас в гиперфокус на НЕ ТОЙ ВЕЩИ.
4. Развесить по стене зацепы (да, это скалолазная метафора). А именно — конкретные СДВГ-навыки, к которым мы прибегаем, когда врезаемся в стену. Например, навыки планирования (планируем конкретные дела, небольшое количество и тд), или учимся измерять, сколько времени нам нужно, чтобы сделать дело (временная слепота мешает представить, что на оплату налогов не нужно тратить Весь День, но эмоционально это может так ощущаться, особенно если мы давно откладывали).
Лично мне помогает даже просто назвать сопротивление «стеной отвращения» и относиться к нему именно так — как к барьеру, который можно преодолеть. И дурацкая прогулка для дурацкого ментального здоровья, конечно.
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой я ловлю себя на согласии с последствиями того, что сделано это мной не будет. И, конечно, когда последствия все же наступают, я думаю:
Катя блин почему так
Есть такая метафора: «стена отвращения» (wall of awful). Когда мы беремся за дело, перед нами не только, собственно, само дело, но и «стена отвращения» — эмоциональные барьеры, которые состоят из прошлого опыта (провалов, разочарования, прокрастинации, тревоги, отвержения, критики, сомнений, скуки). Такие барьеры есть у всех — но у сдвгешников они часто больше, прочнее и разнообразнее: из-за многолетнего и обычно обширного опыта проваленных задач, прокрастинации, запихивания себя в деятельность через страх или критику, низкой мотивации и особенностей исполнительной функции, которая могла бы перетолкнуть нас через стену, но она вышла из чата.
Катя блин че делать
Дофамин от некоторых заданий разносит стену (Настолько Интересно), ответственность перед другими (начальниками, коллегами по проекту, божьей матерью) и разнообразная экстернализация (убраться дома нет сил, но если придут гости — привет, гиперфокус на уборке) тоже помогает. Но это применимо не ко всем задачам.
В этом видео про «стену» перечисляют несколько практик:
1. Разбить стену. Это злость, направленная вовне (как же вы надоели, ладно, сделаю на силе ненависти к вам) или вовнутрь (как же я себе надоела, ладно, сделаю на силе ненависти к себе) — работает, но у этого есть понятная цена: разрушение отношений с людьми или с собой. Лучше к этому методу не прибегать. Но в эту тактику может качнуть независимо, потому, что это естественная человеческая реакция (замри, беги, бей — это именно бей), а у СДВГ-людей часто есть проблемы с контролем эмоциональной импульсивности.
2. Перелезть через стену. Признать её наличие (я не пишу это письмо не потому, что ленивая — передо мной, буквально, стена), посмотреть на нее и попытаться начать через неё перебираться в своем уме. Например, открыть почту — почувствовать что-то (отвращение, скуку), назвать это, и сказать себе: «прямо сейчас я лезу через стену». Это, по сути, эмоциональная рефлексия и рефрейминг: but again, мы столкнулись с эмоциональной проблемой, и она требует эмоционального решения. Да, это скорее долгосрочное решение; оно предполагает проработку «кирпичей» и делание барьеров не такими….барьеристыми. Терапия, направленная на эту работу, может сделать процесс более устойчивым.
3. Сделать дверь. Стена состоит из эмоций, которые мешают нам do the thing, мы можем попробовать изменить свое эмоциональное состояние через каналы получения, да, дофамина. У каждого могут быть разные схемы: например, форма физической активности (тренировка, отжимания рядом с рабочим столом, чертова прогулка), музыка, смена обстановки (да-да, писать в кофейне), холодный душ, тактильные штучки (аппликатор Кузнецова to the rescue), медитация или переключение внимания («Бросить якорь»). Это должны быть небольшие практики, которые не отправят вас в гиперфокус на НЕ ТОЙ ВЕЩИ.
4. Развесить по стене зацепы (да, это скалолазная метафора). А именно — конкретные СДВГ-навыки, к которым мы прибегаем, когда врезаемся в стену. Например, навыки планирования (планируем конкретные дела, небольшое количество и тд), или учимся измерять, сколько времени нам нужно, чтобы сделать дело (временная слепота мешает представить, что на оплату налогов не нужно тратить Весь День, но эмоционально это может так ощущаться, особенно если мы давно откладывали).
Лично мне помогает даже просто назвать сопротивление «стеной отвращения» и относиться к нему именно так — как к барьеру, который можно преодолеть. И дурацкая прогулка для дурацкого ментального здоровья, конечно.
❤35❤🔥13👍1
Forwarded from СветоЭлектроМатерия
Только не это
В некоторых престижных российских научпоп-медиа былых времен, как и в иных Солидных Европейских Журналах былых времен, было принято приглашать оригинальных авторов с такими оговорками:
- Только не пишите ничего слишком научного!
- Слог статьи должен быть максимально понятен!
- Никаких терминов! Наш читатель не поймет!
Так шли годы, я торговалась и отрицала, и вот к какой позиции я склоняюсь сегодня: если издание ориентировано на читателя, неспособного понять сложные мысли, это значит, что оно активно банкротится социально и не умеет работать с реальной аудиторией - действует реактивно, а не активно.
"Читатель", кем бы он ни был, уже по своему определению человек заинтересованный, иначе он просто не откроет статью и не купит книгу.
Другое дело - чтобы понять его интерес, надо провести определенную и довольно большую работу.
Расшарите? Я бы почитала споры на эту тему.
В некоторых престижных российских научпоп-медиа былых времен, как и в иных Солидных Европейских Журналах былых времен, было принято приглашать оригинальных авторов с такими оговорками:
- Только не пишите ничего слишком научного!
- Слог статьи должен быть максимально понятен!
- Никаких терминов! Наш читатель не поймет!
Так шли годы, я торговалась и отрицала, и вот к какой позиции я склоняюсь сегодня: если издание ориентировано на читателя, неспособного понять сложные мысли, это значит, что оно активно банкротится социально и не умеет работать с реальной аудиторией - действует реактивно, а не активно.
"Читатель", кем бы он ни был, уже по своему определению человек заинтересованный, иначе он просто не откроет статью и не купит книгу.
Другое дело - чтобы понять его интерес, надо провести определенную и довольно большую работу.
Расшарите? Я бы почитала споры на эту тему.
❤2
СветоЭлектроМатерия
Только не это В некоторых престижных российских научпоп-медиа былых времен, как и в иных Солидных Европейских Журналах былых времен, было принято приглашать оригинальных авторов с такими оговорками: - Только не пишите ничего слишком научного! - Слог статьи…
Oh, do I have something to say on that.
Несколько лет я проработала в медиа (РБК), и в последний год рулила проектом, который, казалось бы, нацелен на что-то, связанное с познанием мира вокруг (РБК Тренды). Сотрудничала и с другими медиа, где-то делала проекты, куда-то что-то писала — и как человек, который любит познание (в моем случае, социальное и гуманитарное, и я специально тут избегаю слова «наука»), я считаю, что это в первую очередь способ узнать про мир кучу интересного, надумать кучу интересных штук и научиться смотреть на вещи с кучи интересных ракурсов. И, как медиаменеджер, я думала, что медиа — это идеальный способ эту логику популяризировать, связывать «вот еще как можно на это посмотреть»-логику и людей.
Мои наблюдения таковы.
Индустрия медиа по бОльшей части работает по рекламной модели: корпорации покупают у медиа «глаза», поэтому медиаплощадка должна любыми средствами нагнать соответствующее их количество и показать им рекламу. Тот факт, что глаза прицеплены к людям, которые еще и принимают какие-то самостоятельные решения — скорее неудобство, чем вдохновляющая возможность на установление продуктивного контакта. Аудитория абстрактна, её мотивы туманны и часто зависят от воли других крупных игроков — поставщиков трафика (условный гугл или фейсбук обрубает трафик на медиа — цифры аудитории летят вниз). До тех пор, пока медиа не начинает думать о других вещах (репутации (том самом социальном капитале); подписной модели; других продуктах), оно вообще редко думает о каких-то там читателях как отдельных людях с интересами.
В России, как мне кажется, больше, чем где-либо еще среди сотрудников медий (причем на всех сторонах политического спектра) распространена демофобия — а именно, неприязнь к людям в массе (демосу), отношение к ним как в целом глупым, несамостоятельным, враждебно настроенным и недалеким. В этой иерархической системе аудитория всегда «недо»: если у нас научное медиа, она недо-научена; если политическое — недо-политична; если феминистское — недо-просвещенна в нужном духе. От этого — особый тон: или дидактический; или «надо очень просто, чтобы любой дурачок понял»; или манипуляционный (упрощай до искажений, вообще не суть, они иначе не поймут). Короче, нужно как можно проще — чтобы как можно больше людей «выловить», привлечь (и показать им рекламу). Другая крайность — полное равнодушие к читателю — журналистика несет правду, это её главная задача, реципиент в разговоре об истине либо отсутствует, либо по определению не прав, должен быть подвержен воздействию знающего и измениться в объективно лучшую сторону. (Здесь можно порассуждать о том, что политика, построенная на демофобии — будь то консервативная или либеральная, — и производит такую же демофобную публичную сферу — как ответвление этой темы).
Проблема в том, что между этими двумя крайностями, по сути, ничего и нет: нет публичной, массовой медийной площадки, которая бы рассматривала свою аудиторию как сообщество равных людей, способных на дискуссию. К которым не надо относиться как к идиотам, недоучкам, ботам или толпе, которую нужно куда-то направить. (Нишевые площадки, построенные на коммьюнити и репутационных механиках — вполне есть, но там и модель другая, и своя специфика).
Я не думаю, что научные термины или какая-то натянутая сложность — это самоценность. За ними тоже часто скрывается дидактика, манипуляции или отсутствие смысла. Чтобы понять интерес читателя, действительно нужно проделать большую работу — проблема в том, что из-за контекста существования этих (медийных) систем, многие попросту не заинтересованы в этой работе, потому что она не окупится — будь то в деньгах или ином ресурсе.
И это еще вершинка айсберга, конечно.
(Меня наверняка читают бывшие и нынешние работники медиа и топора — заходите в комменты😁 )
Несколько лет я проработала в медиа (РБК), и в последний год рулила проектом, который, казалось бы, нацелен на что-то, связанное с познанием мира вокруг (РБК Тренды). Сотрудничала и с другими медиа, где-то делала проекты, куда-то что-то писала — и как человек, который любит познание (в моем случае, социальное и гуманитарное, и я специально тут избегаю слова «наука»), я считаю, что это в первую очередь способ узнать про мир кучу интересного, надумать кучу интересных штук и научиться смотреть на вещи с кучи интересных ракурсов. И, как медиаменеджер, я думала, что медиа — это идеальный способ эту логику популяризировать, связывать «вот еще как можно на это посмотреть»-логику и людей.
Мои наблюдения таковы.
Индустрия медиа по бОльшей части работает по рекламной модели: корпорации покупают у медиа «глаза», поэтому медиаплощадка должна любыми средствами нагнать соответствующее их количество и показать им рекламу. Тот факт, что глаза прицеплены к людям, которые еще и принимают какие-то самостоятельные решения — скорее неудобство, чем вдохновляющая возможность на установление продуктивного контакта. Аудитория абстрактна, её мотивы туманны и часто зависят от воли других крупных игроков — поставщиков трафика (условный гугл или фейсбук обрубает трафик на медиа — цифры аудитории летят вниз). До тех пор, пока медиа не начинает думать о других вещах (репутации (том самом социальном капитале); подписной модели; других продуктах), оно вообще редко думает о каких-то там читателях как отдельных людях с интересами.
В России, как мне кажется, больше, чем где-либо еще среди сотрудников медий (причем на всех сторонах политического спектра) распространена демофобия — а именно, неприязнь к людям в массе (демосу), отношение к ним как в целом глупым, несамостоятельным, враждебно настроенным и недалеким. В этой иерархической системе аудитория всегда «недо»: если у нас научное медиа, она недо-научена; если политическое — недо-политична; если феминистское — недо-просвещенна в нужном духе. От этого — особый тон: или дидактический; или «надо очень просто, чтобы любой дурачок понял»; или манипуляционный (упрощай до искажений, вообще не суть, они иначе не поймут). Короче, нужно как можно проще — чтобы как можно больше людей «выловить», привлечь (и показать им рекламу). Другая крайность — полное равнодушие к читателю — журналистика несет правду, это её главная задача, реципиент в разговоре об истине либо отсутствует, либо по определению не прав, должен быть подвержен воздействию знающего и измениться в объективно лучшую сторону. (Здесь можно порассуждать о том, что политика, построенная на демофобии — будь то консервативная или либеральная, — и производит такую же демофобную публичную сферу — как ответвление этой темы).
Проблема в том, что между этими двумя крайностями, по сути, ничего и нет: нет публичной, массовой медийной площадки, которая бы рассматривала свою аудиторию как сообщество равных людей, способных на дискуссию. К которым не надо относиться как к идиотам, недоучкам, ботам или толпе, которую нужно куда-то направить. (Нишевые площадки, построенные на коммьюнити и репутационных механиках — вполне есть, но там и модель другая, и своя специфика).
Я не думаю, что научные термины или какая-то натянутая сложность — это самоценность. За ними тоже часто скрывается дидактика, манипуляции или отсутствие смысла. Чтобы понять интерес читателя, действительно нужно проделать большую работу — проблема в том, что из-за контекста существования этих (медийных) систем, многие попросту не заинтересованы в этой работе, потому что она не окупится — будь то в деньгах или ином ресурсе.
И это еще вершинка айсберга, конечно.
(Меня наверняка читают бывшие и нынешние работники медиа и топора — заходите в комменты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤33👍2
«Приходится сделать вывод, что, возможно, не так-то просто ничего не делать, и это наводит на мысль о решении головоломки. Представьте себе, как сложится ваша жизнь, если вы узнаете, что больше никогда не будете путешествовать. Если вы не планируете кардинальных перемен в жизни, то такая перспектива выглядит устрашающе: «Раз, раз и еще раз, а потом я умру». Путешествие разделяет этот отрезок времени на тот, что происходит до поездки, и тот, что происходит после нее, скрывая от глаз уверенность в собственном уничтожении. И делает это самым хитрым образом: дает вам предвкушение этого. Вам не нравится думать о том, что однажды вы ничего не сделаете и никем не станете. Вы позволите себе предвосхитить этот опыт только тогда, когда сможете замаскировать его под рассказ о том, как вы делаете много интересных и полезных вещей: вы что-то переживаете, вы присоединяетесь к чему-то, вы преображаетесь, и у вас есть всякие безделушки и фотографии, чтобы это доказать».
В колонке про потребительскую суть современного концепта путешествий (когда мы едем куда-то на несколько дней, чтобы жить не так, как мы живем обычно — ходить по музеям, подниматься в гору на закате, смотреть на людей в кофейне, не чувствуя с ними никакой связи, а потом вернуться домой, полностью такими же, какими мы уезжали) встречается мысль, которую я сама в последнее время думаю довольно много. Мы как-то смирились с тем, что простая, обычная, повседневная жизнь в некотором смысле мучительна, и мы постоянно ищем, как бы из неё сбежать — на моречко, в европейскую столицу, в тропики, на сафари, серфинг или в палатку, на концерт, балет, кабриолет, и желательно, чтобы это происходило как можно чаще. И мысль, что обычная жизнь — это всё, что есть, невыносима без вот этих вот бесконечных средств побега, которые мало что дают, кроме желания сбегать и сбегать, снова и снова. Образ «наполненной» или «разнообразной» жизни трескается, если увидеть, что за идеей путешествия нет ничего, кроме чистого перемещения, потребления опыта, который никогда не стал бы нашей повседневностью, и нахождения с людьми, к которым мы вынуждены относиться, как зрители.
Сложно сказать при этом, что путешествия сами по себе, сами в себе, производят каких-то более глубоких, более интересных людей — современные политики, наверное, самые well traveled люди планеты, а Сократ, Кант и Эмили Дикинсон едва покидали пределы своих городов. Скорее, проблема в ложной причинно-следственной, казуальной связи: чем больше я потребляю разнообразных опытов Х (путешествий, культурки, тусовок — you name it), тем более наполненной становится моя жизнь. Но это далеко необязательно так: вопрос в том, меняет ли нас этот разнообразный опыт? приводит ли он к реальным трансформациям нашей этики, ценностей, мнений? или это просто гонка, потому что оставаться на месте невыносимо?
И тогда, конечно, вопрос меняется: а почему оставаться на месте невыносимо, и можно ли что-то сделать, чтобы это перестало быть так, кроме цепочки побегов. (В колонке можно заметить скрытую критику современного извода капитализма, в моем комментарии, наверное, тоже).
В колонке про потребительскую суть современного концепта путешествий (когда мы едем куда-то на несколько дней, чтобы жить не так, как мы живем обычно — ходить по музеям, подниматься в гору на закате, смотреть на людей в кофейне, не чувствуя с ними никакой связи, а потом вернуться домой, полностью такими же, какими мы уезжали) встречается мысль, которую я сама в последнее время думаю довольно много. Мы как-то смирились с тем, что простая, обычная, повседневная жизнь в некотором смысле мучительна, и мы постоянно ищем, как бы из неё сбежать — на моречко, в европейскую столицу, в тропики, на сафари, серфинг или в палатку, на концерт, балет, кабриолет, и желательно, чтобы это происходило как можно чаще. И мысль, что обычная жизнь — это всё, что есть, невыносима без вот этих вот бесконечных средств побега, которые мало что дают, кроме желания сбегать и сбегать, снова и снова. Образ «наполненной» или «разнообразной» жизни трескается, если увидеть, что за идеей путешествия нет ничего, кроме чистого перемещения, потребления опыта, который никогда не стал бы нашей повседневностью, и нахождения с людьми, к которым мы вынуждены относиться, как зрители.
Сложно сказать при этом, что путешествия сами по себе, сами в себе, производят каких-то более глубоких, более интересных людей — современные политики, наверное, самые well traveled люди планеты, а Сократ, Кант и Эмили Дикинсон едва покидали пределы своих городов. Скорее, проблема в ложной причинно-следственной, казуальной связи: чем больше я потребляю разнообразных опытов Х (путешествий, культурки, тусовок — you name it), тем более наполненной становится моя жизнь. Но это далеко необязательно так: вопрос в том, меняет ли нас этот разнообразный опыт? приводит ли он к реальным трансформациям нашей этики, ценностей, мнений? или это просто гонка, потому что оставаться на месте невыносимо?
И тогда, конечно, вопрос меняется: а почему оставаться на месте невыносимо, и можно ли что-то сделать, чтобы это перестало быть так, кроме цепочки побегов. (В колонке можно заметить скрытую критику современного извода капитализма, в моем комментарии, наверное, тоже).
The New Yorker
The Case Against Travel
It turns us into the worst version of ourselves while convincing us that we’re at our best.
❤31❤🔥11👍5🌚3
«В конце концов, нам не так уж и сложно соотнести себя с лишайниками. Эта разновидность отношений воплощает самую старую эволюционную максиму. Если слово "киборг" описывает существ, сочетающих облик и функции людей и машин, то мы, как и все жизненные формы, являемся "симборгами", или симбиотическими организмами. Авторы основополагающей работы о симбиотическом взгляде на жизнь ясно выражают свою позицию по этому вопросу. "Индивидуумов никогда не существовало, — заявляют они. — Мы все лишайники"».
— Мерлин Шелдрейк, «Запутанная жизнь: как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее»
Мы все лишайники! Далеко не худший вариант.
— Мерлин Шелдрейк, «Запутанная жизнь: как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее»
Мы все лишайники! Далеко не худший вариант.
❤27😁5💯3
Недавно для философского кружка (тм) перечитывала «Протестантскую этику и дух капитализма» Макса Вебера — это была одна из первых книжек, которую я прочитала целиком для поступления в Шанинку, и с тех пор люблю её (даже так!) довольно нежной интеллектуальной любовью. Мне кажется, что это отличная книга для увлечения философией: она короткая; в ней есть интрига и четко выстроенный нетривиальный аргумент, за развитием которого интересно следить; она про удивительно не-абстрактные вещи, которые можно наблюдать прямо сейчас, прямо вокруг себя; она написана простым языком.
В этот раз я подумала вот еще о чем.
В 1897 году у Макса Вебера случился нервный срыв. Ему было тридцать три года, до этого он работал до часу ночи, писал статьи, преподавал в университете, много чем увлекался и многовато выпивал. После срыва он не мог читать и писать, и жил с большим трудом; потом следовали циклы: ему становилось легче, но за улучшениями следовали новые кризисы. К 1903 году он уже совсем не мог преподавать (готовиться к лекциям стало невыносимо). На следующий год он написал «Протестантскую этику» — тогда еще не книгу, а эссе в двух частях (даже сейчас это книга очень условно — там больше более поздних сносок, чем собственно текста).
Вебер задался вопросом, в общем-то, не новым: почему институты и логики современного капитализма появились именно там, где появились (в северной Европе), и именно тогда (в семнадцатом веке)? Книга Вебера — одна из многих работ немецких интеллектуалов на ту же тему — подвергалась большой критике (отсюда и тонна сносок), но она остается одним из самых известных текстов по социологии/истории культуры/политфилософии. Потому что это, на деле, текст не об абстрактной истории капитализма. Он о вечном, экзистенциальном разрыве, который находится в самом сердце всего, чем занято большинство людей последние несколько веков: о разрыве между представлением о работе не только как об источнике средств к существованию, но как о некоем долге, который мы все должны куда-то «отдавать» на протяжении жизни, и при этом её (работы) фундаментальной бессмысленностью.
Кажется, что человек за гранью выгорания может почувствовать этот разрыв особенно остро: чувство долга, принуждающее к работе и создающее вокруг этого моральные императивы (твоя ценность как человека буквально зависит от того, насколько много, упорно и успешно ты работаешь), и одновременное ощущение полного отсутствия в работе смысла, отчуждение от работы и её результатов (в этой части Вебер был с Марксом согласен). И это чувство для Вебера оказывается не признаком помутнением сознания, болезни — а, напротив, пробуждением рационального ума, который задается верными вопросами о сути устройства общества. Если людям начинают платить больше за ту же работу — они начинают меньше работать, чтобы получать столько, сколько они и получали до повышения оплаты — и это максимально рациональное поведение капитализм представляет неразумным, предлагая обратную ценность: зарабатывать деньги — всегда хорошо, даже если тебе больше особо и не нужно. Но как, почему люди начали в это верить?
Потому что в протестантизме — а, точнее, в кальвинизме — работа обрела этическое значение: упорный и постоянный труд стал единственным способом прогнать сомнение в том, что бог назначил тебя к спасению в жизни после смерти. Тратить время жизни земной на развлечения абсурдно, поэтому и тратить деньги особо не на что — так копился капитал, капитал инвестировался и производил новый капитал. Вскоре этический компонент (связь работы и обещания Рая) исчез, но система уже работала.
«Пуританин хотел работать, потому что верил, что это его призвание. Мы же вынуждены это делать». Такой текст, пожалуй, мог написать только выгоренец-интеллектуал.
В этот раз я подумала вот еще о чем.
В 1897 году у Макса Вебера случился нервный срыв. Ему было тридцать три года, до этого он работал до часу ночи, писал статьи, преподавал в университете, много чем увлекался и многовато выпивал. После срыва он не мог читать и писать, и жил с большим трудом; потом следовали циклы: ему становилось легче, но за улучшениями следовали новые кризисы. К 1903 году он уже совсем не мог преподавать (готовиться к лекциям стало невыносимо). На следующий год он написал «Протестантскую этику» — тогда еще не книгу, а эссе в двух частях (даже сейчас это книга очень условно — там больше более поздних сносок, чем собственно текста).
Вебер задался вопросом, в общем-то, не новым: почему институты и логики современного капитализма появились именно там, где появились (в северной Европе), и именно тогда (в семнадцатом веке)? Книга Вебера — одна из многих работ немецких интеллектуалов на ту же тему — подвергалась большой критике (отсюда и тонна сносок), но она остается одним из самых известных текстов по социологии/истории культуры/политфилософии. Потому что это, на деле, текст не об абстрактной истории капитализма. Он о вечном, экзистенциальном разрыве, который находится в самом сердце всего, чем занято большинство людей последние несколько веков: о разрыве между представлением о работе не только как об источнике средств к существованию, но как о некоем долге, который мы все должны куда-то «отдавать» на протяжении жизни, и при этом её (работы) фундаментальной бессмысленностью.
Кажется, что человек за гранью выгорания может почувствовать этот разрыв особенно остро: чувство долга, принуждающее к работе и создающее вокруг этого моральные императивы (твоя ценность как человека буквально зависит от того, насколько много, упорно и успешно ты работаешь), и одновременное ощущение полного отсутствия в работе смысла, отчуждение от работы и её результатов (в этой части Вебер был с Марксом согласен). И это чувство для Вебера оказывается не признаком помутнением сознания, болезни — а, напротив, пробуждением рационального ума, который задается верными вопросами о сути устройства общества. Если людям начинают платить больше за ту же работу — они начинают меньше работать, чтобы получать столько, сколько они и получали до повышения оплаты — и это максимально рациональное поведение капитализм представляет неразумным, предлагая обратную ценность: зарабатывать деньги — всегда хорошо, даже если тебе больше особо и не нужно. Но как, почему люди начали в это верить?
Потому что в протестантизме — а, точнее, в кальвинизме — работа обрела этическое значение: упорный и постоянный труд стал единственным способом прогнать сомнение в том, что бог назначил тебя к спасению в жизни после смерти. Тратить время жизни земной на развлечения абсурдно, поэтому и тратить деньги особо не на что — так копился капитал, капитал инвестировался и производил новый капитал. Вскоре этический компонент (связь работы и обещания Рая) исчез, но система уже работала.
«Пуританин хотел работать, потому что верил, что это его призвание. Мы же вынуждены это делать». Такой текст, пожалуй, мог написать только выгоренец-интеллектуал.
❤🔥33❤17💔9🗿3👍1👎1
(1/2) В моральной философии есть проблема «моральной удачи».
Интуитивно мы связываем между собой ответственность и добровольность действия. Мы склонны оценивать людей за действия, совершенные а) самостоятельно, без внешнего принуждения или влияния и б) с полным пониманием последствий, которые можно было разумно предвидеть в момент совершения действия или до него. Иными словами, «человек морально ответственен только за то, что контролирует». Если одно или оба условия не выполняются, мы склонны отнестись к человеку менее строго.
Исторически философы старались либо игнорировать идею моральной удачи, либо доказать, что у моральной жизни к удаче (или к фортуне, если речь про философов, например, античности) есть иммунитет. Кант считал, что удача или невезение не должны влиять ни на наше моральное суждение о человеке и его поступках, ни на его моральную оценку самого себя. Человек не может нести ответственность за события за пределами своего контроля — равно как и никакая удача не должна повлиять на оценку его намерений. Скажем, извечный тезис о «силе, которая хочет зла, но совершает благо», по Канту — не имеет смысла; достигает ли злая воля своей цели, не имеет морального значения — равно как и злое действие не становится морально правильным, если по случайности приводит к счастливому исходу. Намерение является главным критерием нравственности.
Но философ Томас Нагель показывает, все не так просто: на деле большинство моральных суждений мы выносим по результату, а они далеко не всегда зависят от нас. Например, собьет ли водитель пешехода, проехав на красный свет, зависит от внешних условий — а именно, будет ли пешеход переходить в этот момент дорогу. Этот пример можно обернуть в форму дилеммы (моральные философы их любят): водитель А сел за руль пьяным, пешеход вышел на дорогу, и он сбил пешехода. Водитель Б тоже сел за руль пьяным, никто не вышел на дорогу, и он не сбил никого. Должны ли мы сказать, что водитель Б менее виноват, чем водитель А — только потому, что ему повезло, и внешние условия, на которые он не мог повлиять и о которых не мог знать, оказались в его пользу? Или же, следуя принципу контроля, мы должны сказать, что оба водителя виноваты одинаково (что, разумеется, абсурдно)? В этом и заключается парадокс моральной удачи — он показывает, что наши интуитивные и привычные моральные оценки на самом деле не так объективны и рациональны, как нам кажется.
Другой пример: более поздняя оценка наших действий. Об этом могут многое рассказать американские рабовладельцы, средневековые крестоносцы или европейские колонизаторы: они принимали моральные решения в течение жизни, которые впоследствии были переоценены потомками — и тут снова «как повезет». Рабовладельцы были лучшими людьми своих обществ; крестоносцы убивали и умирали за Бога, колонизаторы — за Цивилизацию. Принимая сейчас какое-либо моральное решение, мы не можем полагаться на «моральный абсолют», потому что он скрыт от нас.
Среда, уровень образования, наши родители и окружение, опыт, который мы имеем в течение жизни, тоже формирует наши взгляды — и мы можем повлиять на это не больше, чем на погоду. Можем ли мы нести ответственность за наши убеждения, если а) они были сформированы под воздействием внешних и внутренних причин и б) появились вне пределов нашего контроля?
Выходит, что если мы придерживаемся принципа контроля, то моральное суждение оказывается вообще невозможным: ибо мы не контролируем наше воспитание (нашу казуальную историю), условия совершения поступков, их результаты и то, как они в будущем будут оценены. Следующая остановка: моральный нигилизм, наркотики, рок-н-ролл.
Интуитивно мы связываем между собой ответственность и добровольность действия. Мы склонны оценивать людей за действия, совершенные а) самостоятельно, без внешнего принуждения или влияния и б) с полным пониманием последствий, которые можно было разумно предвидеть в момент совершения действия или до него. Иными словами, «человек морально ответственен только за то, что контролирует». Если одно или оба условия не выполняются, мы склонны отнестись к человеку менее строго.
Исторически философы старались либо игнорировать идею моральной удачи, либо доказать, что у моральной жизни к удаче (или к фортуне, если речь про философов, например, античности) есть иммунитет. Кант считал, что удача или невезение не должны влиять ни на наше моральное суждение о человеке и его поступках, ни на его моральную оценку самого себя. Человек не может нести ответственность за события за пределами своего контроля — равно как и никакая удача не должна повлиять на оценку его намерений. Скажем, извечный тезис о «силе, которая хочет зла, но совершает благо», по Канту — не имеет смысла; достигает ли злая воля своей цели, не имеет морального значения — равно как и злое действие не становится морально правильным, если по случайности приводит к счастливому исходу. Намерение является главным критерием нравственности.
Но философ Томас Нагель показывает, все не так просто: на деле большинство моральных суждений мы выносим по результату, а они далеко не всегда зависят от нас. Например, собьет ли водитель пешехода, проехав на красный свет, зависит от внешних условий — а именно, будет ли пешеход переходить в этот момент дорогу. Этот пример можно обернуть в форму дилеммы (моральные философы их любят): водитель А сел за руль пьяным, пешеход вышел на дорогу, и он сбил пешехода. Водитель Б тоже сел за руль пьяным, никто не вышел на дорогу, и он не сбил никого. Должны ли мы сказать, что водитель Б менее виноват, чем водитель А — только потому, что ему повезло, и внешние условия, на которые он не мог повлиять и о которых не мог знать, оказались в его пользу? Или же, следуя принципу контроля, мы должны сказать, что оба водителя виноваты одинаково (что, разумеется, абсурдно)? В этом и заключается парадокс моральной удачи — он показывает, что наши интуитивные и привычные моральные оценки на самом деле не так объективны и рациональны, как нам кажется.
Другой пример: более поздняя оценка наших действий. Об этом могут многое рассказать американские рабовладельцы, средневековые крестоносцы или европейские колонизаторы: они принимали моральные решения в течение жизни, которые впоследствии были переоценены потомками — и тут снова «как повезет». Рабовладельцы были лучшими людьми своих обществ; крестоносцы убивали и умирали за Бога, колонизаторы — за Цивилизацию. Принимая сейчас какое-либо моральное решение, мы не можем полагаться на «моральный абсолют», потому что он скрыт от нас.
Среда, уровень образования, наши родители и окружение, опыт, который мы имеем в течение жизни, тоже формирует наши взгляды — и мы можем повлиять на это не больше, чем на погоду. Можем ли мы нести ответственность за наши убеждения, если а) они были сформированы под воздействием внешних и внутренних причин и б) появились вне пределов нашего контроля?
Выходит, что если мы придерживаемся принципа контроля, то моральное суждение оказывается вообще невозможным: ибо мы не контролируем наше воспитание (нашу казуальную историю), условия совершения поступков, их результаты и то, как они в будущем будут оценены. Следующая остановка: моральный нигилизм, наркотики, рок-н-ролл.
❤14🤔9😁2
(2/2) Я задумалась вот о еще чем: сейчас мы живем во времена некоторых «моральных катастроф» и, в отличие от предыдущих поколений, кажется, знаем как минимум о некоторых из них: например, мы знаем, что уничтожаем планету, когда выкидываем сдохшую половинку авокадо из холодильника. Значит ли это, что мы тоже полагаемся на удачу (и обычную, и моральную) — надеемся, что нас «пронесет» и не придется нести моральную ответственность за сгоревшую планету? Но что позволяет нам считать, что нам этот моральный абсолют известен более, чем колонизаторам или рабовладельцам был известен их? И что, в конечном итоге, остановить производство авокадо и бензина — это более морально-верное решение? Такой вот парадокс моральной удачи.
Нагель пишет:
«Наши убеждения всегда, в конечном счете, обусловлены факторами, находящимися вне нашего контроля, и невозможность охватить эти факторы, не оказавшись во власти других, заставляет нас сомневаться в том, знаем ли мы что-нибудь. Похоже, что если какие-то из наших убеждений верны, то это скорее чисто биологическая удача, чем знание».
Как водится, мы не можем знать того, чего мы не знаем. Иметь убеждение, соответствующее действительности — это тоже, скорее, удача.
Нагель пишет:
«Наши убеждения всегда, в конечном счете, обусловлены факторами, находящимися вне нашего контроля, и невозможность охватить эти факторы, не оказавшись во власти других, заставляет нас сомневаться в том, знаем ли мы что-нибудь. Похоже, что если какие-то из наших убеждений верны, то это скорее чисто биологическая удача, чем знание».
Как водится, мы не можем знать того, чего мы не знаем. Иметь убеждение, соответствующее действительности — это тоже, скорее, удача.
🤔16❤1
(1/3) В 1966 году экономист Эрнст Шумахер (немец, перебравшийся в Англию от войны) написал эссе «Буддистская экономика». Это короткий текст о том, как могла бы выглядеть экономическая система, если бы в её центре находилось убеждение, что хорошая работа необходима для развития лучших человеческих качеств и что «производство из местных ресурсов для местных нужд является наиболее рациональным способом экономической жизни». Иными словами, абсолютно радикальная идея: что будет, если экономическая система не будет подчинять и разрушать социальную жизнь людей? Shocking, I know.
В эссе Шумахера есть несколько красивых аргументов.
Во-первых, труд — основа экономики. Но современные экономисты считают труд необходимым злом: если его можно автоматизировать, то и отлично. А сами работники — бесполезностью (disutility): работать — значит приносить в жертву свой комфорт, и зарплата — компенсация этой жертвы. Идеальная форма современной экономической системы избавлена от человеческого труда — что абсурдно само по себе. Но так появляется специализация корпоративного капитализма: работа разбита на повторяемые, однообразные кусочки, а взнос каждого — незначим.
В буддистской системе ценностей у работы есть не один смысл, а целых три: 1) дать человеку шанс использовать и развивать свои способности 2) дать ему возможность отцепиться от эго, объединившись с другими людьми в общей задаче и 3) производить товары и услуги, необходимые для полноценного существования. С этой точки зрения современный взгляд на труд ужасен: он лишает человека возможности самореализоваться, обесполезняет его и ставит в приоритет привязанность к вещам. В современной логике естественная альтернатива труду — безделье, но это тоже противоречит буддистскому представлению о человеческой природе.
Во-вторых, пишет Шумахер, современный экономист оценивает качество жизни через потребленные продукты: тот, кто больше потребляет, лучше живет, чем тот, кто потребляет меньше. Потребление — главная цель экономики, а фундаментальный критерий её успеха — общее количество произведенных вещей за определенный отрезок времени. А естественный же способ помогать безработным — это давать им продукты/вещи — то есть, снова заменять созидание потреблением.
Буддистский взгляд на цивилизацию предполагает обратную ценность: не мультипликацию желания и жажды потребления, но очищение человеческой сути, которая преимущественно и формируется через тот самый осмысленный, ненасильственный, созидательный труд.
Наконец, в-третьих, неравное распределение и растрата невозобновляемых источников энергии — это насилие против природы, которое неудержимо ведет к насилию между людьми. По причине заложенных в капитализм противоречий он нестабилен, и поэтому свобода, которую он обещает, нестабильна тоже (понятный фон для этого тезиса — фашизм, который Шумахеру довелось увидеть).
Срединный же путь между бездумным материализмом и традиционалистской неподвижностью — буддистский принцип right livelihood.
В эссе Шумахера есть несколько красивых аргументов.
Во-первых, труд — основа экономики. Но современные экономисты считают труд необходимым злом: если его можно автоматизировать, то и отлично. А сами работники — бесполезностью (disutility): работать — значит приносить в жертву свой комфорт, и зарплата — компенсация этой жертвы. Идеальная форма современной экономической системы избавлена от человеческого труда — что абсурдно само по себе. Но так появляется специализация корпоративного капитализма: работа разбита на повторяемые, однообразные кусочки, а взнос каждого — незначим.
В буддистской системе ценностей у работы есть не один смысл, а целых три: 1) дать человеку шанс использовать и развивать свои способности 2) дать ему возможность отцепиться от эго, объединившись с другими людьми в общей задаче и 3) производить товары и услуги, необходимые для полноценного существования. С этой точки зрения современный взгляд на труд ужасен: он лишает человека возможности самореализоваться, обесполезняет его и ставит в приоритет привязанность к вещам. В современной логике естественная альтернатива труду — безделье, но это тоже противоречит буддистскому представлению о человеческой природе.
Во-вторых, пишет Шумахер, современный экономист оценивает качество жизни через потребленные продукты: тот, кто больше потребляет, лучше живет, чем тот, кто потребляет меньше. Потребление — главная цель экономики, а фундаментальный критерий её успеха — общее количество произведенных вещей за определенный отрезок времени. А естественный же способ помогать безработным — это давать им продукты/вещи — то есть, снова заменять созидание потреблением.
Буддистский взгляд на цивилизацию предполагает обратную ценность: не мультипликацию желания и жажды потребления, но очищение человеческой сути, которая преимущественно и формируется через тот самый осмысленный, ненасильственный, созидательный труд.
Наконец, в-третьих, неравное распределение и растрата невозобновляемых источников энергии — это насилие против природы, которое неудержимо ведет к насилию между людьми. По причине заложенных в капитализм противоречий он нестабилен, и поэтому свобода, которую он обещает, нестабильна тоже (понятный фон для этого тезиса — фашизм, который Шумахеру довелось увидеть).
Срединный же путь между бездумным материализмом и традиционалистской неподвижностью — буддистский принцип right livelihood.
❤21👍4
(2/3) Итак, буддистская экономика, которую концептуализирует Шумахер, основывается на следующих принципах:
— Работа, которая связывает человека с природой и с другими людьми; отделенная от эго; созидательная. Не бездумная и не отупляющая.
— Полная трудоустроенность: целью экономики должна стать не максимизация производства, а максимизация труда.
— Свобода от привязанностей к деньгам и благам: наилучшее качество жизни с минимальной зависимостью от потребления благ.
— Вещи, которые создаются для пользования, а не потребления: безумие, например, специально создавать плохие материалы, чтобы одежда из них разрушалась — только чтобы люди чаще покупали новую плохую одежду.
— Простота и не-насилие: локальные самодостаточные сообщества менее вероятно захотят вовлекаться в массовую войну, чем те, кто зависит от международных систем торговли (тезис в духе Карла Поланьи).
— Зависеть от импорта не-экономично: лучше производить достаточно из имеющегося. Хотеть что-то из далеких земель — скорее неудачное экономическое решение, чем рациональное поведение.
И это подводит нас к вопросу экономической рациональности.
— Работа, которая связывает человека с природой и с другими людьми; отделенная от эго; созидательная. Не бездумная и не отупляющая.
— Полная трудоустроенность: целью экономики должна стать не максимизация производства, а максимизация труда.
— Свобода от привязанностей к деньгам и благам: наилучшее качество жизни с минимальной зависимостью от потребления благ.
— Вещи, которые создаются для пользования, а не потребления: безумие, например, специально создавать плохие материалы, чтобы одежда из них разрушалась — только чтобы люди чаще покупали новую плохую одежду.
— Простота и не-насилие: локальные самодостаточные сообщества менее вероятно захотят вовлекаться в массовую войну, чем те, кто зависит от международных систем торговли (тезис в духе Карла Поланьи).
— Зависеть от импорта не-экономично: лучше производить достаточно из имеющегося. Хотеть что-то из далеких земель — скорее неудачное экономическое решение, чем рациональное поведение.
И это подводит нас к вопросу экономической рациональности.
❤18👍3
(3/3) Понятное возражение Шумахеру может быть — но это же неразумно / нерационально / идеологично и вообще где религия, а где экономика.
Этот аргумент основывается на том, что современная экономика мыслит себя абсолютной наукой, состоящей из истинных утверждений; она, по своему собственному мнению, лишена какой-либо метафизики или ценностного компонента — что она свободна от идеологий, иными словами.
Homo economicus, который был объявлен «естественным человеком», ведет себя экономически рационально, и естественным, разумным образом рассматривает варианты и решения в рамках логических структур мышления, а не полагается на эмоции, мораль или психологию. Это — ключевой принцип экономической рациональности и основа современной экономической системы.
Как минимум, нам уже очевидно, что эмоциональность, мораль и психология играют важнейшую роль в современном капитализме — именно благодаря им существует рынок рекламы (за счет которого существуют соцсети, медиа и миллионы других людей и компаний).
Но рациональность — это тоже не абсолютное, а культуральное явление. Аргумент против буддистской экономики может быть таков: она основывается на религиозных ценностях, то есть, как бы, не рациональна и не логична, ибо в конечном итоге религия догматична. Но наше представление о том, что рационально, на деле связано с религиозной, культурной историей социальной жизни людей, и экономическая жизнь чаще всего следует из неё (об этом по своему писали и Карл Поланьи, и Макс Вебер).
Иудаизм, христианство и ислам — авраамические религии, которые основаны на концепции свободы пророка Авраама: люди Бога имеют исключительное право на управление миром. Монотеистические доктрины порождают монистический миропорядок, цель которого — собственная версия мирового господства. Индуизм, буддизм, конфуцианство и даосизм предлагают обратную индивидуалистической авраамической этике логику: это коллективистская этика, ориентированная на общее благополучие всех членов общества. Такая разница этик неизбежно предполагает и различное понимание того, что разумно и рационально. Например, в буддизме желание личного спасения или счастья противоречит условиям его достижения — поэтому стремиться к личному просветлению попросту неразумно, ибо это не приведет тебя к цели. Похожая логика распространяется и на экономику.
Мы же живем в ситуации, где экономическая жизнь подчинила и разрушает жизнь социальную — и это в конечном итоге приводит к коррозии политики, человеческих отношений и, в общем, того, как жизнь ощущается. Буддистская экономика и похожие теории возвращают в центр экономической мысли человека и его благополучие, а также благополучие всех людей вместе — вместо вводящих в заблуждение показателей типа ВВП или накопления капитала ради самого капитала. И это, на самом деле, куда больше похоже на экономически рациональную систему, чем.
Этот аргумент основывается на том, что современная экономика мыслит себя абсолютной наукой, состоящей из истинных утверждений; она, по своему собственному мнению, лишена какой-либо метафизики или ценностного компонента — что она свободна от идеологий, иными словами.
Homo economicus, который был объявлен «естественным человеком», ведет себя экономически рационально, и естественным, разумным образом рассматривает варианты и решения в рамках логических структур мышления, а не полагается на эмоции, мораль или психологию. Это — ключевой принцип экономической рациональности и основа современной экономической системы.
Как минимум, нам уже очевидно, что эмоциональность, мораль и психология играют важнейшую роль в современном капитализме — именно благодаря им существует рынок рекламы (за счет которого существуют соцсети, медиа и миллионы других людей и компаний).
Но рациональность — это тоже не абсолютное, а культуральное явление. Аргумент против буддистской экономики может быть таков: она основывается на религиозных ценностях, то есть, как бы, не рациональна и не логична, ибо в конечном итоге религия догматична. Но наше представление о том, что рационально, на деле связано с религиозной, культурной историей социальной жизни людей, и экономическая жизнь чаще всего следует из неё (об этом по своему писали и Карл Поланьи, и Макс Вебер).
Иудаизм, христианство и ислам — авраамические религии, которые основаны на концепции свободы пророка Авраама: люди Бога имеют исключительное право на управление миром. Монотеистические доктрины порождают монистический миропорядок, цель которого — собственная версия мирового господства. Индуизм, буддизм, конфуцианство и даосизм предлагают обратную индивидуалистической авраамической этике логику: это коллективистская этика, ориентированная на общее благополучие всех членов общества. Такая разница этик неизбежно предполагает и различное понимание того, что разумно и рационально. Например, в буддизме желание личного спасения или счастья противоречит условиям его достижения — поэтому стремиться к личному просветлению попросту неразумно, ибо это не приведет тебя к цели. Похожая логика распространяется и на экономику.
Мы же живем в ситуации, где экономическая жизнь подчинила и разрушает жизнь социальную — и это в конечном итоге приводит к коррозии политики, человеческих отношений и, в общем, того, как жизнь ощущается. Буддистская экономика и похожие теории возвращают в центр экономической мысли человека и его благополучие, а также благополучие всех людей вместе — вместо вводящих в заблуждение показателей типа ВВП или накопления капитала ради самого капитала. И это, на самом деле, куда больше похоже на экономически рациональную систему, чем.
❤22👍1
Быстрый анонс номер один: на ближайшие месяцы есть несколько мест для консультаций взрослых с СДВГ.
Это формат из пяти встреч, которые мы посвящаем сугубо функциональным вещам: как сделывать вещи, которые хочется, но не можется делать, или вещи, которые не хочется делать, но очень надо, как планировать и расставлять приоритеты, справляться с подавляющими делами, научиться регулировать свое эмоциональное состояние, снизить отвлекаемость и так далее.
За пять сессий мы стараемся внедрить в повседневную жизнь навыки, которые нужны именно в вашей ситуации и в контексте именно ваших задач. Это максимально конкретизированный формат работы: что происходит, почему, как с этим работать и что можно сделать, чтобы навык стал автоматическим или полу-автоматическим. В процессе составляем памятку из отработанных навыков и практик, которая потом у вас останется на случай, если/когда что-то отвалится (про профилактику рецедивов тоже поговорим). Потом можно пойти в разовый коучинг или еще один пятисетовик (теннисная отсылка). Или никуда не пойти.
Чуть подробнее про меня и про формат здесь.
Писать сюда: @humanaviator
(И да, буду рада репостам).
Это формат из пяти встреч, которые мы посвящаем сугубо функциональным вещам: как сделывать вещи, которые хочется, но не можется делать, или вещи, которые не хочется делать, но очень надо, как планировать и расставлять приоритеты, справляться с подавляющими делами, научиться регулировать свое эмоциональное состояние, снизить отвлекаемость и так далее.
За пять сессий мы стараемся внедрить в повседневную жизнь навыки, которые нужны именно в вашей ситуации и в контексте именно ваших задач. Это максимально конкретизированный формат работы: что происходит, почему, как с этим работать и что можно сделать, чтобы навык стал автоматическим или полу-автоматическим. В процессе составляем памятку из отработанных навыков и практик, которая потом у вас останется на случай, если/когда что-то отвалится (про профилактику рецедивов тоже поговорим). Потом можно пойти в разовый коучинг или еще один пятисетовик (теннисная отсылка). Или никуда не пойти.
Чуть подробнее про меня и про формат здесь.
Писать сюда: @humanaviator
(И да, буду рада репостам).
❤10🔥1