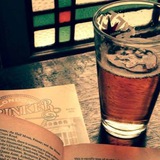Важно помнить, сталкиваясь, к примеру, с бушующей волной антигендерного движения, что слова «феминизм», «гомосексуальность», «транссексуальность» или «гендер» изобретены не радикальными активистами, а клиническим языком двух последних столетий. Вот одна из характеристик языков, служивших легитимации современных практик сомато-политического угнетения: если раньше языки угнетения XVII века работали с аппаратом теологической верификации, современные языки угнетения выстраиваются вокруг аппарата научно технической верификации. Такова наша тяжелая общая история, и именно с ней нам предстоит разбираться.
Спустимся, например, по временному туннелю, который нам открывает слово «феминизм». Это понятие возникло в 1871 году, когда молодой французский врач Фердинанд-Валер Фанно де ла Кур употребил его в своей докторской диссертации «О феминизме и инфантилизме туберкулезных больных». Согласно научной гипотезе де ла Кура, «феминизм» — это патология, поражающая больных туберкулезом мужчин, которая в качестве побочного явления производит «феминизацию» тела больного. Как пишет де ла Кур, больной мужчина «обладает по-женски тонкими волосами и бровями, длинными и тонкими ресницами; белой, тонкой и нежной кожей, развитой подкожной жировой тканью, что сообщает его силуэту заметную дряблость, в то время как мышцы и суставы производят ту гибкость, ту невыразимую грацию и плавность движений, которые свойственны кошке или женщине. Если больной достаточно возмужал и у него растет борода, мы находим, что рост бороды либо ослабевает, либо отмечается лишь на некоторых участках: чаще всего — над верхней губой, на подбородке либо в области бакенбард. Эти немногочисленные волоски обычно тонкие, редкие и чаще всего пушковые <...>. Половые органы примечательны своим маленьким размером». Феминизированный, лишенный «сил для размножения и способности к зачатию», больной туберкулезом мужчина теряет свой статус мужественного гражданина и становится носителем заразы, которого следует поместить под присмотр государственной медицины.
Спустя год после публикации диссертации Фердинанда-Валера Фанно де ла Кура Александр Дюма-сын использует в своих памфлетах медицинское понятие феминизма, описывая мужчин, солидарных с женским движением, борющимся за права «гражданок» — равные политические права и всеобщее избирательное право. Так, первыми «феминистами» стали именно мужчины — те, кого медицинская риторика считала ненормальными из-за потери ими «признаков мужественности»; но также мужчины, обвиненные в феминизации за их близость к политическому движению «гражданок». Только спустя несколько лет суфражистки присвоят себе это патологическое наименование и сделают его точкой идентификации и политического действия.
Но где сегодня новые феминистки? Где новые туберкулезные больные и новые суфражистки? Мы должны освободить феминизм от тирании политик идентичности и открыть его союзам с новыми субъектами борьбы с нормализацией и исключением — с «женоподобными» нашей истории; с гражданами второго сорта, с людьми без гражданства и с теми, кто карабкается на стены Мелильи, ранясь о колючую проволоку.
Напоминаю, что если утро не задалось, то можно открыть в совершенно случайном месте «Квартиру на Уране» Поля Б. Пресьядо, вдохнуть его академически-утопический резвый задор и как-то прямо-таки ПРОДЕРЖАТЬСЯ рабочий денечек!
Спустимся, например, по временному туннелю, который нам открывает слово «феминизм». Это понятие возникло в 1871 году, когда молодой французский врач Фердинанд-Валер Фанно де ла Кур употребил его в своей докторской диссертации «О феминизме и инфантилизме туберкулезных больных». Согласно научной гипотезе де ла Кура, «феминизм» — это патология, поражающая больных туберкулезом мужчин, которая в качестве побочного явления производит «феминизацию» тела больного. Как пишет де ла Кур, больной мужчина «обладает по-женски тонкими волосами и бровями, длинными и тонкими ресницами; белой, тонкой и нежной кожей, развитой подкожной жировой тканью, что сообщает его силуэту заметную дряблость, в то время как мышцы и суставы производят ту гибкость, ту невыразимую грацию и плавность движений, которые свойственны кошке или женщине. Если больной достаточно возмужал и у него растет борода, мы находим, что рост бороды либо ослабевает, либо отмечается лишь на некоторых участках: чаще всего — над верхней губой, на подбородке либо в области бакенбард. Эти немногочисленные волоски обычно тонкие, редкие и чаще всего пушковые <...>. Половые органы примечательны своим маленьким размером». Феминизированный, лишенный «сил для размножения и способности к зачатию», больной туберкулезом мужчина теряет свой статус мужественного гражданина и становится носителем заразы, которого следует поместить под присмотр государственной медицины.
Спустя год после публикации диссертации Фердинанда-Валера Фанно де ла Кура Александр Дюма-сын использует в своих памфлетах медицинское понятие феминизма, описывая мужчин, солидарных с женским движением, борющимся за права «гражданок» — равные политические права и всеобщее избирательное право. Так, первыми «феминистами» стали именно мужчины — те, кого медицинская риторика считала ненормальными из-за потери ими «признаков мужественности»; но также мужчины, обвиненные в феминизации за их близость к политическому движению «гражданок». Только спустя несколько лет суфражистки присвоят себе это патологическое наименование и сделают его точкой идентификации и политического действия.
Но где сегодня новые феминистки? Где новые туберкулезные больные и новые суфражистки? Мы должны освободить феминизм от тирании политик идентичности и открыть его союзам с новыми субъектами борьбы с нормализацией и исключением — с «женоподобными» нашей истории; с гражданами второго сорта, с людьми без гражданства и с теми, кто карабкается на стены Мелильи, ранясь о колючую проволоку.
Напоминаю, что если утро не задалось, то можно открыть в совершенно случайном месте «Квартиру на Уране» Поля Б. Пресьядо, вдохнуть его академически-утопический резвый задор и как-то прямо-таки ПРОДЕРЖАТЬСЯ рабочий денечек!
Меня, конечно, больше всего на свете увлекают разные ракурсы.
Вот, например: на этой неделе вышло исследование, которое говорит, что если мы полностью прекратим производство мяса и молочной продукции, то в течение тридцати-пятидесяти лет мы практически развернем глобальное потепление, потому что такая мера настолько сократит выбросы парниковых газов, что компенсирует рост выбросов во всех других отраслях промышленности (а еще спасем примерно 30% поверхности земли, которая сейчас убивается под выращивание домашнего скота, если засадим эти пространства растениями, что тоже полезно для планетки).
Судя по всему, исследование довольно качественное, и модель рабочая, хоть и абсолютно, на самом-то деле, экстремальная и не очень реалистичная (полностью! полностью отменить животноводство! пооооолностью).
Но есть и другой ракурс (он всегда есть! другой ракурс — это волшебная пыльца этого мира), а именно: со-автор этого исследования — Пэт Браун, профессор биохимии Стэнфордского университета и...основатель веганской мясной компании Impossible Foods. Товарищ — реальный и признанный ученый, изобретатель ДНК-чипов, который в сознательном возрасте отправился в предпринимательство, и это замечательно.
Интересно вот что: мы привыкли, что крупные компании (особенно нефтяные) отчаянно скрывают правду об изменении климата или всячески пытаются ослабить любые политики, которые направлены на купирование его эффектов. Но сейчас мир более или менее движется к тому, чтобы признать реальность опасности климатических изменений и необходимость что-то делать. И появляются новые тактики научной промышленности, которые структурно мало отличаются от лобби нефтянки — они всячески доказывают, что их решение — самое верное, практически единственное решение из всех, которое позволит спасти планету от перегрева, и кстати говоря, ОЧЕНЬ УДАЧНО, что именно у нас есть бизнес, производящий ИМЕННО ЭТО единственное в своем роде решение. Электромобили, многоразовые кружки, альтернативное мясо, меловая пыль в космосе — все это стартапы и компании, чья единственная цель диктуется теми же правилами, в рамках которых действовали нефтяные лоббисты: прибыль. Сейчас они просто действуют в другом понятийном аппарате.
А это значит — нужно очень внимательно следить за тем, что производит финансируемая промышленностью наука, и не забывать, чем именно определяется её деятельность.
Вот, например: на этой неделе вышло исследование, которое говорит, что если мы полностью прекратим производство мяса и молочной продукции, то в течение тридцати-пятидесяти лет мы практически развернем глобальное потепление, потому что такая мера настолько сократит выбросы парниковых газов, что компенсирует рост выбросов во всех других отраслях промышленности (а еще спасем примерно 30% поверхности земли, которая сейчас убивается под выращивание домашнего скота, если засадим эти пространства растениями, что тоже полезно для планетки).
Судя по всему, исследование довольно качественное, и модель рабочая, хоть и абсолютно, на самом-то деле, экстремальная и не очень реалистичная (полностью! полностью отменить животноводство! пооооолностью).
Но есть и другой ракурс (он всегда есть! другой ракурс — это волшебная пыльца этого мира), а именно: со-автор этого исследования — Пэт Браун, профессор биохимии Стэнфордского университета и...основатель веганской мясной компании Impossible Foods. Товарищ — реальный и признанный ученый, изобретатель ДНК-чипов, который в сознательном возрасте отправился в предпринимательство, и это замечательно.
Интересно вот что: мы привыкли, что крупные компании (особенно нефтяные) отчаянно скрывают правду об изменении климата или всячески пытаются ослабить любые политики, которые направлены на купирование его эффектов. Но сейчас мир более или менее движется к тому, чтобы признать реальность опасности климатических изменений и необходимость что-то делать. И появляются новые тактики научной промышленности, которые структурно мало отличаются от лобби нефтянки — они всячески доказывают, что их решение — самое верное, практически единственное решение из всех, которое позволит спасти планету от перегрева, и кстати говоря, ОЧЕНЬ УДАЧНО, что именно у нас есть бизнес, производящий ИМЕННО ЭТО единственное в своем роде решение. Электромобили, многоразовые кружки, альтернативное мясо, меловая пыль в космосе — все это стартапы и компании, чья единственная цель диктуется теми же правилами, в рамках которых действовали нефтяные лоббисты: прибыль. Сейчас они просто действуют в другом понятийном аппарате.
А это значит — нужно очень внимательно следить за тем, что производит финансируемая промышленностью наука, и не забывать, чем именно определяется её деятельность.
What could be easier than to write articles and to buy Persian cats with the profits?
Кстати, да — иногда продолжаю писать по-английски что-то небольшое и около-публицистическое. На этот раз — эссе-размышление об отношениях с деньгами и тратой денег, со способами зарабатывать деньги и с персидскими котами Вирджинии Вульф.
Лежит на Медиуме.
Итак, берем одну фразу, любую, например, эту: «мы знаем, чем все закончится. Мы умрем».
Прозу я тоже продолжаю писать, и она иногда даже где-то выходит (кстати, интересно: почему у меня нет проблем с тем, чтобы самостоятельно публиковать посты и заметки, но художественные тексты обязательно должны быть кем-то оценены и приняты к публикации в разного масштаба проекты? Повод задуматься). Энивей, в проекте «Флаги» вышла подборка экспериментов с поэзией в прозе, которую мы писали на интенсиве Аллы Горбуновой в школе прозы «Глагол». Спасибо всем, кто это провел и сделал возможным — ну и мне, видимо, за то, что я написала неплохой текст, не совсем мне свойственный.
Читать «Ментальную подготовку к революции» во «Флагах».
Кстати, да — иногда продолжаю писать по-английски что-то небольшое и около-публицистическое. На этот раз — эссе-размышление об отношениях с деньгами и тратой денег, со способами зарабатывать деньги и с персидскими котами Вирджинии Вульф.
Лежит на Медиуме.
Итак, берем одну фразу, любую, например, эту: «мы знаем, чем все закончится. Мы умрем».
Прозу я тоже продолжаю писать, и она иногда даже где-то выходит (кстати, интересно: почему у меня нет проблем с тем, чтобы самостоятельно публиковать посты и заметки, но художественные тексты обязательно должны быть кем-то оценены и приняты к публикации в разного масштаба проекты? Повод задуматься). Энивей, в проекте «Флаги» вышла подборка экспериментов с поэзией в прозе, которую мы писали на интенсиве Аллы Горбуновой в школе прозы «Глагол». Спасибо всем, кто это провел и сделал возможным — ну и мне, видимо, за то, что я написала неплохой текст, не совсем мне свойственный.
Читать «Ментальную подготовку к революции» во «Флагах».
Посмотрела The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window — новиночку Netflix, которая якобы пародирует жанр бытового женского триллера (аля «Женщина в окне» и «Девушка в поезде» и другое, другое, другое). Осталась расстроена, хотя я просто ОБОЖАЮ пародии на жанры, и этот жанр, конечно, давно напрашивался на пародию.
Кристен Белл тащит весь сериал на своих хрупких, но невероятно талантливых комедически плечах. Она играет главную героиню Анну, которая сидит в своем доме, переживая Страшную Личную Трагедию Связанную С Семьей (с чем еще? она же женщина), смотрит из одного и того же кресла в окно, целыми днями попивая красное вино, которое наливает в бокал «с горочкой», закусывая транквилизаторами. Несмотря на такой образ жизни, она всегда выглядит потрясающе, никогда не пьянеет и не страдает похмельями, и вообще выглядит абсолютно готовой к романтической любви (хотя казалось бы). Единственный минус: из-за алкоголя и таблеток она склонна к галлюцинациям (как и многие трагические женщины в этом жанре), и именно она становится свидетельницей убийства красивой белой женщины (как и многие трагические женщины в этом жанре). Ей никто не верит (как и...ну вы поняли), но почему-то именно это выдергивает её из оцепенения, и она берется за расследование (как и...да-да).
Сложно сказать, почему в итоге в сериале не работает примерно ничего, и зрителю остается только сидеть с лицом лица и изредка неуютно хихикать. Может быть, потому что сатирические элементы слишком уж летят в лоб и превращаются в абсурд не самого высокого пошиба (раннинг джоук про запеканку с курицей честно говоря надоела примерно сразу); или потому что они все граничат с безвкусицей (история смерти дочери главной героини — эээ); или потому что Белл на редкость УБЕДИТЕЛЬНА в роли скорбящей матери, и смеяться остается только над тем, как она наливает вино в бокал под завязку.
В конечном итоге кажется, что это тот случай, когда сценаристы просто плохо сделали свою работу — вышло не очень смешно, не слишком интересно, и абсолютно неизобретательно. Герои — скучные и плоские, главная героиня — хоть и замечательно сыгранная — вызывает только фрустрацию, основной сюжет медленный и неловкий, шутки не смешные, пародия не увлекает и в конечном итоге даже и не высмеивает жанр, а просто как-то неумело его пересказывает.
Это и не триллер с шуточками, и не шуточки над триллером. Что может быть хуже пародий с плохим чувством юмора? Я не знаю.
Тот же нетфликсовский Dead to Me работает как пародия намного лучше — так что проще и уж точно приятнее посмотреть его.
Кристен Белл тащит весь сериал на своих хрупких, но невероятно талантливых комедически плечах. Она играет главную героиню Анну, которая сидит в своем доме, переживая Страшную Личную Трагедию Связанную С Семьей (с чем еще? она же женщина), смотрит из одного и того же кресла в окно, целыми днями попивая красное вино, которое наливает в бокал «с горочкой», закусывая транквилизаторами. Несмотря на такой образ жизни, она всегда выглядит потрясающе, никогда не пьянеет и не страдает похмельями, и вообще выглядит абсолютно готовой к романтической любви (хотя казалось бы). Единственный минус: из-за алкоголя и таблеток она склонна к галлюцинациям (как и многие трагические женщины в этом жанре), и именно она становится свидетельницей убийства красивой белой женщины (как и многие трагические женщины в этом жанре). Ей никто не верит (как и...ну вы поняли), но почему-то именно это выдергивает её из оцепенения, и она берется за расследование (как и...да-да).
Сложно сказать, почему в итоге в сериале не работает примерно ничего, и зрителю остается только сидеть с лицом лица и изредка неуютно хихикать. Может быть, потому что сатирические элементы слишком уж летят в лоб и превращаются в абсурд не самого высокого пошиба (раннинг джоук про запеканку с курицей честно говоря надоела примерно сразу); или потому что они все граничат с безвкусицей (история смерти дочери главной героини — эээ); или потому что Белл на редкость УБЕДИТЕЛЬНА в роли скорбящей матери, и смеяться остается только над тем, как она наливает вино в бокал под завязку.
В конечном итоге кажется, что это тот случай, когда сценаристы просто плохо сделали свою работу — вышло не очень смешно, не слишком интересно, и абсолютно неизобретательно. Герои — скучные и плоские, главная героиня — хоть и замечательно сыгранная — вызывает только фрустрацию, основной сюжет медленный и неловкий, шутки не смешные, пародия не увлекает и в конечном итоге даже и не высмеивает жанр, а просто как-то неумело его пересказывает.
Это и не триллер с шуточками, и не шуточки над триллером. Что может быть хуже пародий с плохим чувством юмора? Я не знаю.
Тот же нетфликсовский Dead to Me работает как пародия намного лучше — так что проще и уж точно приятнее посмотреть его.
YouTube
The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window | Official Trailer | Netflix
For heartbroken Anna (Kristen Bell), every day is the same. She sits with her wine, staring out the window, watching life go by without her. But when a handsome neighbor (Tom Riley) and his adorable daughter move in across the street, Anna starts to see a…
Желаю продолжить серию текстов про диванную социологию и написать про empathy gap (по-русски это вроде бы можно перевести как «эмпатический разрыв»).
Empathy gap описывает нашу склонность недооценивать влияние разных ментальных состояний на наше собственное поведение и принятие решений. Мы часто говорим и делаем вещи, которые в значительной степени определены нашими эмоциями, чувствами или просто текущим состоянием бытия.
Термин иногда называется шире: hot-cold empathy gap. А именно: у нас есть hot-состояние, когда мы находимся под влиянием сильных чувств или эмоций: голод, сексуальное желание, усталость и тд. Cold-состояние, напротив, более взвешенное, спокойное и рациональное — в нем сильные эмоции на нас не влияют. Фишка в том, что, находясь в одном из двух этих состояний, мы а) не понимаем временную природу текущего состояния (что оно непостоянно и когда-то пройдет) и б) не можем представить свой майндсет в том, другом состоянии. Иными словами, в разных ситуациях мы можем переоценить свою рациональность или, скажем, не иметь возможности представить, что когда-то не будем испытывать такой бури эмоций по поводу какой-либо штуки.
Например, в «рациональном» состоянии сознания мы считаем, что поможем человеку на улице (мы рассчитываем, что в этой ситуации тоже будем вести себя рационально). Но, оказавшись в, собственно, этой ситуации, мы можем выпасть в «эмоциональное» состояние и сбежать, забыв о своих рациональных представлениях о себе.
Вывод следующий: люди в целом довольно плохо могут предсказать собственное поведение в различных ситуациях.
Это интересная штука для саморефлексии: например, она объясняет, почему вы никак не можете бросить пить пиво или кофе (решение принимаете в рациональном состоянии, но на вечеринке или в кофейне впадаете в эмоциональное и принимаете обратное решение) или зачем вы нахамили коллеге в чатике, когда он вас чем-то выбесил.
Еще это предубеждение может объяснить часть наших проекций на других людей: мы пытаемся предсказать поведение других, основываясь на собственном состоянии. Например, если наш дружок хамит коллеге в чате, мы в своем рациональном состоянии решаем, что мы бы так никогда не поступили, а дружок наш просто хамло и урод. А на деле он просто находится в hot-состоянии, обуреваемый эмоциями (а мы — нет. И мы не можем себя представить в таком же состоянии).
Системный уровень интереснее!
Во-первых, empathy gap показывает, что мы далеко не рациональные приниматели решений, какими нас рисует экономическая теория, которая исходит из того, что человек всегда принимает лучшее решение из возможного (рационально). Oh no.
Во-вторых, про empathy gap важно помнить, когда вы пытаетесь сделать выводы из каких-нибудь качественных исследований, опросов и обратной связи (тм). Например! Люди, которых спрашивали, что они будут делать, если у них будет безусловный базовый доход, отвечают: лежать на пляже и отдыхать. Какой вывод мы можем сделать? Что они ленивые скоты, конечно, которым неведома ценность труда на благо родины! Но empathy gap напоминает: а может быть, эти люди пытаются предсказать свое поведение в будущем из состояния крайней усталости и обморожения, и именно оно определяет их ответ? А если они отдохнут в теплом климате (и им не будет грозить возвращение в усталость и холод!), они примут совсем другое решение, потому что будут находиться в совсем другом состоянии? Think about it.
Глобально сделать с этим раскладом ничего нельзя. Можно только помнить, что а) мы хреново предсказываем свое поведение в будущем и б) наши эмоции и ощущения сильно влияют на наши решения, даже если мы мним себя вечно рациональными котиками в) ДРУГИЕ ЛЮДИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ.
Empathy gap описывает нашу склонность недооценивать влияние разных ментальных состояний на наше собственное поведение и принятие решений. Мы часто говорим и делаем вещи, которые в значительной степени определены нашими эмоциями, чувствами или просто текущим состоянием бытия.
Термин иногда называется шире: hot-cold empathy gap. А именно: у нас есть hot-состояние, когда мы находимся под влиянием сильных чувств или эмоций: голод, сексуальное желание, усталость и тд. Cold-состояние, напротив, более взвешенное, спокойное и рациональное — в нем сильные эмоции на нас не влияют. Фишка в том, что, находясь в одном из двух этих состояний, мы а) не понимаем временную природу текущего состояния (что оно непостоянно и когда-то пройдет) и б) не можем представить свой майндсет в том, другом состоянии. Иными словами, в разных ситуациях мы можем переоценить свою рациональность или, скажем, не иметь возможности представить, что когда-то не будем испытывать такой бури эмоций по поводу какой-либо штуки.
Например, в «рациональном» состоянии сознания мы считаем, что поможем человеку на улице (мы рассчитываем, что в этой ситуации тоже будем вести себя рационально). Но, оказавшись в, собственно, этой ситуации, мы можем выпасть в «эмоциональное» состояние и сбежать, забыв о своих рациональных представлениях о себе.
Вывод следующий: люди в целом довольно плохо могут предсказать собственное поведение в различных ситуациях.
Это интересная штука для саморефлексии: например, она объясняет, почему вы никак не можете бросить пить пиво или кофе (решение принимаете в рациональном состоянии, но на вечеринке или в кофейне впадаете в эмоциональное и принимаете обратное решение) или зачем вы нахамили коллеге в чатике, когда он вас чем-то выбесил.
Еще это предубеждение может объяснить часть наших проекций на других людей: мы пытаемся предсказать поведение других, основываясь на собственном состоянии. Например, если наш дружок хамит коллеге в чате, мы в своем рациональном состоянии решаем, что мы бы так никогда не поступили, а дружок наш просто хамло и урод. А на деле он просто находится в hot-состоянии, обуреваемый эмоциями (а мы — нет. И мы не можем себя представить в таком же состоянии).
Системный уровень интереснее!
Во-первых, empathy gap показывает, что мы далеко не рациональные приниматели решений, какими нас рисует экономическая теория, которая исходит из того, что человек всегда принимает лучшее решение из возможного (рационально). Oh no.
Во-вторых, про empathy gap важно помнить, когда вы пытаетесь сделать выводы из каких-нибудь качественных исследований, опросов и обратной связи (тм). Например! Люди, которых спрашивали, что они будут делать, если у них будет безусловный базовый доход, отвечают: лежать на пляже и отдыхать. Какой вывод мы можем сделать? Что они ленивые скоты, конечно, которым неведома ценность труда на благо родины! Но empathy gap напоминает: а может быть, эти люди пытаются предсказать свое поведение в будущем из состояния крайней усталости и обморожения, и именно оно определяет их ответ? А если они отдохнут в теплом климате (и им не будет грозить возвращение в усталость и холод!), они примут совсем другое решение, потому что будут находиться в совсем другом состоянии? Think about it.
Глобально сделать с этим раскладом ничего нельзя. Можно только помнить, что а) мы хреново предсказываем свое поведение в будущем и б) наши эмоции и ощущения сильно влияют на наши решения, даже если мы мним себя вечно рациональными котиками в) ДРУГИЕ ЛЮДИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ.
Несколько дней читала книгу Дэвида Гребера о том, почему глупая и опасная бюрократия захватила наш мир, и мы ничего с этим не делаем, а сегодня проснулась в мире, в котором проснулась. Цитата казалась мне вчера куда менее вызывающей, но мне видится очень важная в этом всем мысль: риторический инструментарий «правых» отвлекает нас от мысли, что наша социальная реальность поддерживается исключительно и только возможностью применения насилия государством в случае несоблюдения нами правил, которые государство же и устанавливает, и в любой момент может поменять. У нас нет денег, машин, земли, квартир, кофе-шопов, карьерных траекторий — ничего из этого на самом деле нам не принадлежит, и никогда не принадлежало, мы просто пока что соблюдаем некие правила, которые позволяют нам этим пользоваться, но эта ситуация может измениться в любой момент времени. Нет никаких «общественных» интересов, есть риторические аргументы и есть интересы конкретных людей, которые пользуются этими аргументами. Лично для меня это какой-то задел на размышления о ценностях (моих) и о том, что же на самом деле важно делать. Так было вчера, сегодня же это просто — идите нахуй со своей войной, ну просто нахуй идите.
Когда кого-то просят быть «реалистом», реальность, которую предлагают признать, состоит не из естественных материальных фактов и не из какой-то предположительной неприкрашенной правды о человеческой природе. Быть «реалистом» обычно означает всерьез воспринимать последствия систематической угрозы применения насилия. Эта вероятность даже просочилась в наш язык. Почему, например, здание называют «реальной собственностью» (real property) или «реальной недвижимостью» (real estate)? Слово «реальный» в этом значении происходит не от латинского res, то есть «вещь», а от испанского real, что означает «королевский», «принадлежащий королю». Вся земля в пределах суверенной территории в конечном счете принадлежит суверену — с юридической точки зрения это справедливо и в наши дни. Именно поэтому государство имеет право навязывать свои нормы. Но суверенитет сводится к монополии на то, что скрывают под словом «сила» — на самом деле речь идет о насилии. Как говорит итальянский философ Джорджо Агамбен, с точки зрения суверенной власти нечто живо, потому что вы можете его убить, поэтому собственность «реальна», ибо государство может её отнять или уничтожить.
Точно так же, когда кто-то придерживается «реалистических» позиций в международных отношениях, он исходит из того, что государства будут использовать все средства, имеющиеся в их распоряжении (в том числе и военную силу) для защиты своих национальных интересов. Какая «реальность» признается? Явно не материальная. Мысль о том, что нации — это человекоподобные организмы, имеющие свои цели и интересы, носит чисто метафизический характер. У короля Франции были свои цели и интересы. Но у самой Франции их нет. «Реалистическими» они кажутся потому, что те, кто управляет национальными государствами, обладают властью собирать армии, завоевывать, бомбить города и могут угрожать применением организованного насилия во имя того, что они называют своими «национальными интересами», — и было бы безумием игнорировать эту вероятность. Национальные интересы реальны, потому что могут убить вас.
Когда кого-то просят быть «реалистом», реальность, которую предлагают признать, состоит не из естественных материальных фактов и не из какой-то предположительной неприкрашенной правды о человеческой природе. Быть «реалистом» обычно означает всерьез воспринимать последствия систематической угрозы применения насилия. Эта вероятность даже просочилась в наш язык. Почему, например, здание называют «реальной собственностью» (real property) или «реальной недвижимостью» (real estate)? Слово «реальный» в этом значении происходит не от латинского res, то есть «вещь», а от испанского real, что означает «королевский», «принадлежащий королю». Вся земля в пределах суверенной территории в конечном счете принадлежит суверену — с юридической точки зрения это справедливо и в наши дни. Именно поэтому государство имеет право навязывать свои нормы. Но суверенитет сводится к монополии на то, что скрывают под словом «сила» — на самом деле речь идет о насилии. Как говорит итальянский философ Джорджо Агамбен, с точки зрения суверенной власти нечто живо, потому что вы можете его убить, поэтому собственность «реальна», ибо государство может её отнять или уничтожить.
Точно так же, когда кто-то придерживается «реалистических» позиций в международных отношениях, он исходит из того, что государства будут использовать все средства, имеющиеся в их распоряжении (в том числе и военную силу) для защиты своих национальных интересов. Какая «реальность» признается? Явно не материальная. Мысль о том, что нации — это человекоподобные организмы, имеющие свои цели и интересы, носит чисто метафизический характер. У короля Франции были свои цели и интересы. Но у самой Франции их нет. «Реалистическими» они кажутся потому, что те, кто управляет национальными государствами, обладают властью собирать армии, завоевывать, бомбить города и могут угрожать применением организованного насилия во имя того, что они называют своими «национальными интересами», — и было бы безумием игнорировать эту вероятность. Национальные интересы реальны, потому что могут убить вас.
В своем стихотворении «Толстое искусство, тонкое искусство» Седжвик пишет: «Самый прекрасный вопрос на любом языке: ” Об этом можно говорить?”». Мне всегда очень нравилась эта строчка, она служит мне импульсом к творческой вседозволенности и неповиновению.
— Мэгги Нельсон, «О свободе»
— Мэгги Нельсон, «О свободе»
(1) Я начала писать этот пост 20 февраля — и это замечательный пример того, как одни и те же слова в разном контексте могут иметь разный смысл.
Читаю книжку Дэвида Гребера «Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии». Во-первых, хочу быть Дэвидом Гребером, когда вырасту. Во-вторых, про книжку, собственно.
Он высказывает увлекательную идею: противоречие между государством (бюрократией) и частным рынком (демократией), которое сейчас выстраивается на уровне ценностей: «вы же НЕ ХОТИТЕ, чтобы всем правило государство? поэтому нам НУЖЕН частный СВОБОДНЫЙ рынок», на самом деле абсолютно мнимое. Частный рынок — давно и прочно часть огромной бюрократической машины, которая бездушна, всеобъемлема и довольно-таки глупа (Катя из 14 марта 2022 года не может не добавить: ХА. ХА. ХА).
Увлекательные мысли поменьше:
Железный закон либерализма гласит: всякая рыночная реформа или правительственное вмешательство, целью которого является уменьшение бюрократизма и стимулирование рыночных сил в конечном итоге приводит к увеличению общего объема регулирования, количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов на службе правительства. Этот закон были вынуждены признать даже видные праваки типа Людвига фон Мизеса, которому мы обязаны огромным трудом формулирования тезисов классического либерализма.
Бюрократизм попал на рынок в конце девятнадцатого века: считалось, что только бюрократические практики помогут из маленьких семейных бизнесов сделать крупномасштабные корпорации. До этого времени экономика США, Германии, Великобритании и прочих складывалась из небольших семейных компаний и крупных капиталов. Но постепенно началась складываться связка: корпорация — бюрократия — капитализм. Капитализм прикрывается мифом о свободе возможностей, но на деле без крупных корпораций и системной бюрократии он невозможен. Это связано с ростом финансового сектора, где грань между государством и частным рынком размыта сильнее всего.
На деле почти вся бумажная волокита, которой мы занимаемся в якобы свободном частном бизнесе, полностью сформирована правительством, которое задает юридические рамки и обеспечивает их соблюдение с помощью судов и сложных механизмов принуждения (по сути — угроз применения государством насилия, ну да).
Читаю книжку Дэвида Гребера «Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии». Во-первых, хочу быть Дэвидом Гребером, когда вырасту. Во-вторых, про книжку, собственно.
Он высказывает увлекательную идею: противоречие между государством (бюрократией) и частным рынком (демократией), которое сейчас выстраивается на уровне ценностей: «вы же НЕ ХОТИТЕ, чтобы всем правило государство? поэтому нам НУЖЕН частный СВОБОДНЫЙ рынок», на самом деле абсолютно мнимое. Частный рынок — давно и прочно часть огромной бюрократической машины, которая бездушна, всеобъемлема и довольно-таки глупа (Катя из 14 марта 2022 года не может не добавить: ХА. ХА. ХА).
Увлекательные мысли поменьше:
Железный закон либерализма гласит: всякая рыночная реформа или правительственное вмешательство, целью которого является уменьшение бюрократизма и стимулирование рыночных сил в конечном итоге приводит к увеличению общего объема регулирования, количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов на службе правительства. Этот закон были вынуждены признать даже видные праваки типа Людвига фон Мизеса, которому мы обязаны огромным трудом формулирования тезисов классического либерализма.
Бюрократизм попал на рынок в конце девятнадцатого века: считалось, что только бюрократические практики помогут из маленьких семейных бизнесов сделать крупномасштабные корпорации. До этого времени экономика США, Германии, Великобритании и прочих складывалась из небольших семейных компаний и крупных капиталов. Но постепенно началась складываться связка: корпорация — бюрократия — капитализм. Капитализм прикрывается мифом о свободе возможностей, но на деле без крупных корпораций и системной бюрократии он невозможен. Это связано с ростом финансового сектора, где грань между государством и частным рынком размыта сильнее всего.
На деле почти вся бумажная волокита, которой мы занимаемся в якобы свободном частном бизнесе, полностью сформирована правительством, которое задает юридические рамки и обеспечивает их соблюдение с помощью судов и сложных механизмов принуждения (по сути — угроз применения государством насилия, ну да).
(2) Гребер видит этому несколько причин:
1. 1971 год, отмена привязки стоимости доллара к золоту, как следствие — финансиализация капитализма.
2. Изменение классовых предпочтений: управленцы крупных компаний уходят от союзов с рабочими к союзу с инвесторами. Первое называется корпоративизмом: и промышленный пролетариат, и менеджеры были примерно одинаково заинтересованы в том, чтобы компания долго и надежно существовала, обеспечивая их пожизненной занятостью. Финансисты и прочие инвесторы казались доставалами, которые суют нос не в свои дела. (Этой конструкции один шаг до шовинизма, но это другая тема). Постепенно класс управленцев и инвесторов слился в один: корпоративный менеджмент финансиализировался, а финансовый сектор становился все более корпоративным (на замену индивидуальным инвесторам пришли фонды и банки). Параметром успешности стала прибыль, а не производственные успехи, пожизненная занятость ушла в прошлое, а сотрудники начали получать в качестве премий биржевые опционы (чья стоимость напрямую привязана к стоимости компании).
3. Социальная база в среднем классе: все это стало возможным, потому что определенную часть среднего класса удалось убедить в том, что у них есть своя доля в капитализме (которым правят финансы). Они стали «левыми нового толка», а настоящие рабочие организации типа профсоюзов полностью выпали из политики. И это была не просто политическая трансформация, а культурная: бюрократический сленг и приемчики проникли в самую суть социальной и культурной жизни определенной части среднего класса. Мы очень быстро забыли о том, что словечки типа «видение», «инновации», «развитие», «прогресс», «стратегические задачи» и вот это вот все, что так популярно в инстаграмчиках «саморазвиванцев» — это термины из залов заседаний корпораций 70-х.
Гребер описывает классную антропологическую историю: в бывшем колониальном мире развит культ сертификатов. В странах типа Бангладеш и Камеруна официальные бумажки, сертификаты и дипломы — это своего рода магические артефакты, материальные фетиши, которые придают носителю силу без какой-либо связи с реальными навыками или опытом. (напоминает некоторый культ эдтеха, который продает сертификаты «для выхода в профессию»...)
Еще один важный фактор — обязательность получения диплома для выхода на рынок труда и попадания в ряды среднего класса. Диплом — «право на участие», пусть и не связанное с приобретением реально необходимых знаний. Способности без диплома стоят мало, а вот дипломы стоят Очень Много, и покупательская способность часто зависит от степени обеспеченности семьи. Государство в прямом смысле покупает часть доходов будущего специалиста из среднего класса (кредиты на образование), и тем самым становится частью той глобальной финансовой системы, которая производит ценность не торговлей или промышленностью, а долгами других людей.
Сущность бюрократической системы в том, что она создает культуру соучастия. Все соглашаются с тем, что общество следует одинаковому набору правил, которые не нарушаются. Когда нарушение происходит на уровне простого человека, против него выкатывается вся мощь карательной машины (перерасход по кредитке? лови огромный штраф и приставов под дверь). Когда нарушение происходит на уровне богатого человека с большим куском капитализма в кармане или крупной корпорации (например, кризис 2008 года, где известны все виновные, ни один из которых не был наказан), то все соучастники бюрократической системы делают вид, что все в порядке.
В этой готовности в любой момент посмотреть в другую сторону и не увидеть нарушения тех стандартов, которые якобы считаются основой современной цивилизации, и кроется важная сущностная характеристика бюрократии. Например, как бы определяющая черта бюрократии — её обезличенность (бюрократы не избираются, как политики, и не наследуют власть). На деле все обстоит совсем не так: бюрократы получают позиции благодаря родственным связям или в результате лоббирования. Все знают, что дела обстоят именно так, но делают вид, что идеалы бюрократии соблюдаются.
1. 1971 год, отмена привязки стоимости доллара к золоту, как следствие — финансиализация капитализма.
2. Изменение классовых предпочтений: управленцы крупных компаний уходят от союзов с рабочими к союзу с инвесторами. Первое называется корпоративизмом: и промышленный пролетариат, и менеджеры были примерно одинаково заинтересованы в том, чтобы компания долго и надежно существовала, обеспечивая их пожизненной занятостью. Финансисты и прочие инвесторы казались доставалами, которые суют нос не в свои дела. (Этой конструкции один шаг до шовинизма, но это другая тема). Постепенно класс управленцев и инвесторов слился в один: корпоративный менеджмент финансиализировался, а финансовый сектор становился все более корпоративным (на замену индивидуальным инвесторам пришли фонды и банки). Параметром успешности стала прибыль, а не производственные успехи, пожизненная занятость ушла в прошлое, а сотрудники начали получать в качестве премий биржевые опционы (чья стоимость напрямую привязана к стоимости компании).
3. Социальная база в среднем классе: все это стало возможным, потому что определенную часть среднего класса удалось убедить в том, что у них есть своя доля в капитализме (которым правят финансы). Они стали «левыми нового толка», а настоящие рабочие организации типа профсоюзов полностью выпали из политики. И это была не просто политическая трансформация, а культурная: бюрократический сленг и приемчики проникли в самую суть социальной и культурной жизни определенной части среднего класса. Мы очень быстро забыли о том, что словечки типа «видение», «инновации», «развитие», «прогресс», «стратегические задачи» и вот это вот все, что так популярно в инстаграмчиках «саморазвиванцев» — это термины из залов заседаний корпораций 70-х.
Гребер описывает классную антропологическую историю: в бывшем колониальном мире развит культ сертификатов. В странах типа Бангладеш и Камеруна официальные бумажки, сертификаты и дипломы — это своего рода магические артефакты, материальные фетиши, которые придают носителю силу без какой-либо связи с реальными навыками или опытом. (напоминает некоторый культ эдтеха, который продает сертификаты «для выхода в профессию»...)
Еще один важный фактор — обязательность получения диплома для выхода на рынок труда и попадания в ряды среднего класса. Диплом — «право на участие», пусть и не связанное с приобретением реально необходимых знаний. Способности без диплома стоят мало, а вот дипломы стоят Очень Много, и покупательская способность часто зависит от степени обеспеченности семьи. Государство в прямом смысле покупает часть доходов будущего специалиста из среднего класса (кредиты на образование), и тем самым становится частью той глобальной финансовой системы, которая производит ценность не торговлей или промышленностью, а долгами других людей.
Сущность бюрократической системы в том, что она создает культуру соучастия. Все соглашаются с тем, что общество следует одинаковому набору правил, которые не нарушаются. Когда нарушение происходит на уровне простого человека, против него выкатывается вся мощь карательной машины (перерасход по кредитке? лови огромный штраф и приставов под дверь). Когда нарушение происходит на уровне богатого человека с большим куском капитализма в кармане или крупной корпорации (например, кризис 2008 года, где известны все виновные, ни один из которых не был наказан), то все соучастники бюрократической системы делают вид, что все в порядке.
В этой готовности в любой момент посмотреть в другую сторону и не увидеть нарушения тех стандартов, которые якобы считаются основой современной цивилизации, и кроется важная сущностная характеристика бюрократии. Например, как бы определяющая черта бюрократии — её обезличенность (бюрократы не избираются, как политики, и не наследуют власть). На деле все обстоит совсем не так: бюрократы получают позиции благодаря родственным связям или в результате лоббирования. Все знают, что дела обстоят именно так, но делают вид, что идеалы бюрократии соблюдаются.
❤1
(3) Гребер предлагает три аргумента для критики бюрократии: насилие, технологии и философия развития. Третий интереснее всего.
1. Современная бюрократия обеспечивается постоянной угрозой применения физического насилия. Любой разговор о «свободном рынке» возможен только в присутствии человека с ружьем. Либерализм XIX века появился одновременно с изобретением современной полиции (обезличенной бюрократической силы), которая стала принимать решения по всем вопросам городской жизни. Крайняя степень этого: камеры видеонаблюдения и государственные и частные структуры, которые проникли во все сферы нашей жизни и наводят порядки, подкрепленные угрозой насилия. При этом статистически полицейская власть почти никогда не помогает с реальными нарушениями прав (убийствами, грабежами и тд), но она очень вовлечена в процесс соблюдения норм поведения мирными людьми (финансовые процедуры, перемещения по городу, etc).
2. Глобализация — это новые политические союзы и бюрократии, а технологии лишь помогают бюрократизировать нашу реальность. Финансовые технологии стали хребтом социальной реальности — они придают финансовой абстракции вид факта (вы всегда получите деньги в банкомате — да ведь? :)) Когда разрушается технология, разрушается и абстракция (вы тоже заметили?). При этом инфраструктура реальной жизни (дороги, мосты, эскалаторы и тд) находится ниже в списке национальных приоритетов (можно порассуждать о разнице в социальном статусе среднего айтишника и среднего строителя или инженера). Технологии сейчас — не ведущая и далеко не созидательная сила, а простая производная финансовой власти.
3. Конечная ценность всей социальной жизни — это произведенная стоимость. Когда бОльшая часть населения стран Большого Севера состояла из ремесленников и крестьян, было легко представить себе трудовую теорию стоимости: хорошие вещи есть, потому что умелые люди их сделали. Труд предшествовал капиталу. Но бюрократический капитализм не мог существовать в таком ценностном поле, поэтому появилась «философия раскрытия способностей». Согласно ей глобальные корпорации могли создать такое материальное изобилие, которое позволит людям осознать себя через то, что они потребляют (а не через то, что они производят). Стоимость начала проистекать из капитала, а не труда, бюрократический язык «качества», «лидерства» и «инноваций» породил мир, который единственно создается нашей силой воли. Гребер пишет, что это — разновидность индивидуалистического фашизма, и в этом есть своя суровая логика (фашизм и бюрократия — друганы-братья).
Призывы к рациональности в этом контексте забавны: рационально считать, что компании и люди должны быть эффективными; но что значит эффективность, обсуждать как будто бы не нужно, ведь эффективность = производство стоимости, согласны? Индивидуальная свобода и самореализация достигается через потребление: зачем рабочим влиять на условия труда, если им и так доступен широкий выбор дешевых товаров?
Интересно при этом, что такие бюрократические формы организации жизни позволили отделить рациональные решения задач от иррациональных целей, для достижения которых они используются. (Государственные служащие гордятся решением своих бюрократических задач, не замечая, что эти решения реализуют людоедские идеи правительств). Твоя цель = решить задачу, получить деньги, потратить их на товары. Ты отчужден от результата своего труда и от сущностных ценностей, твоя самореализация — не в творчестве или создании справедливого общества, а в потреблении.
1. Современная бюрократия обеспечивается постоянной угрозой применения физического насилия. Любой разговор о «свободном рынке» возможен только в присутствии человека с ружьем. Либерализм XIX века появился одновременно с изобретением современной полиции (обезличенной бюрократической силы), которая стала принимать решения по всем вопросам городской жизни. Крайняя степень этого: камеры видеонаблюдения и государственные и частные структуры, которые проникли во все сферы нашей жизни и наводят порядки, подкрепленные угрозой насилия. При этом статистически полицейская власть почти никогда не помогает с реальными нарушениями прав (убийствами, грабежами и тд), но она очень вовлечена в процесс соблюдения норм поведения мирными людьми (финансовые процедуры, перемещения по городу, etc).
2. Глобализация — это новые политические союзы и бюрократии, а технологии лишь помогают бюрократизировать нашу реальность. Финансовые технологии стали хребтом социальной реальности — они придают финансовой абстракции вид факта (вы всегда получите деньги в банкомате — да ведь? :)) Когда разрушается технология, разрушается и абстракция (вы тоже заметили?). При этом инфраструктура реальной жизни (дороги, мосты, эскалаторы и тд) находится ниже в списке национальных приоритетов (можно порассуждать о разнице в социальном статусе среднего айтишника и среднего строителя или инженера). Технологии сейчас — не ведущая и далеко не созидательная сила, а простая производная финансовой власти.
3. Конечная ценность всей социальной жизни — это произведенная стоимость. Когда бОльшая часть населения стран Большого Севера состояла из ремесленников и крестьян, было легко представить себе трудовую теорию стоимости: хорошие вещи есть, потому что умелые люди их сделали. Труд предшествовал капиталу. Но бюрократический капитализм не мог существовать в таком ценностном поле, поэтому появилась «философия раскрытия способностей». Согласно ей глобальные корпорации могли создать такое материальное изобилие, которое позволит людям осознать себя через то, что они потребляют (а не через то, что они производят). Стоимость начала проистекать из капитала, а не труда, бюрократический язык «качества», «лидерства» и «инноваций» породил мир, который единственно создается нашей силой воли. Гребер пишет, что это — разновидность индивидуалистического фашизма, и в этом есть своя суровая логика (фашизм и бюрократия — друганы-братья).
Призывы к рациональности в этом контексте забавны: рационально считать, что компании и люди должны быть эффективными; но что значит эффективность, обсуждать как будто бы не нужно, ведь эффективность = производство стоимости, согласны? Индивидуальная свобода и самореализация достигается через потребление: зачем рабочим влиять на условия труда, если им и так доступен широкий выбор дешевых товаров?
Интересно при этом, что такие бюрократические формы организации жизни позволили отделить рациональные решения задач от иррациональных целей, для достижения которых они используются. (Государственные служащие гордятся решением своих бюрократических задач, не замечая, что эти решения реализуют людоедские идеи правительств). Твоя цель = решить задачу, получить деньги, потратить их на товары. Ты отчужден от результата своего труда и от сущностных ценностей, твоя самореализация — не в творчестве или создании справедливого общества, а в потреблении.
(4) Наконец, замечательное: «На самом деле ощущение порожденного цифровыми технологиями мира, который я описываю, можно рассматривать как идеальную иллюстрацию другого социального закона (по крайней мере, мне кажется, что его можно считать законом), который гласит, что если люди, придерживающиеся самых бредовых идей, получают достаточную власть в обществе, то они, осознанно или нет, ухитрятся создать такой мир, существование в котором будет тысячами разных способов усиливать впечатление, что эти идеи самоочевидны и истинны».
Дэвид Гребер 🤌🤌🤌
Дэвид Гребер 🤌🤌🤌
«Одной из главных тем в социологии Вебера являются непреднамеренные, непредвиденные последствия человеческих действий в обществе. Наиболее известную работу Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» критики зачастую неверно понимают потому, что упускают из виду именно эту тему. По их мнению, цитируемые Вебером протестантские мыслители отнюдь не предполагали, что с помощью их учений будут достигнуты известные экономические результаты. В частности, Вебер доказывал, что кальвинистская доктрина предопределения подвигла людей на «мирской аскетизм», т.е. на такое поведение, субъект которого напряженно, методически, самоотверженно соотносит себя с делами этого мира, в частности с экономической деятельностью. Критики же Вебера указывают, что нет ничего более чуждого замыслам Кальвина и других лидеров кальвинистской Реформации, чем указанные им последствия. Но Вебер никогда и не утверждал, будто кальвинистская мысль намеренно «произвела на свет» такие образцы экономического поведения. Напротив, он отлично знал, что намерения были совершенно иными. Последствия же не зависели от намерений. Веберовское наследие дает нам живую картину иронии судьбы над человеческими действиями. Веберовская социология представляет собой радикальную антитезу любым взглядам, согласно которым история есть реализация идей или плод произвольных индивидуальных и коллективных усилий. Это не значит, что идеи не имеют никакого влияния. Мысль Вебера надо понимать так: результаты реализации идей, как правило, очень сильно отличаются от того, что задумывали и на что рассчитывали поначалу их приверженцы. Осознание иронии истории отрезвляет и является сильным противоядием всякого рода революционному утопизму».
(с) Питер Бергер, «Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива» (1996)
Многое объясняет!
(с) Питер Бергер, «Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива» (1996)
Многое объясняет!
Я тут решила устроить себе весну социологии — читаю всякие Основополагающие книги про Основные Основы и, честно говоря, получаю большое удовольствие.
Правда, книга «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера скоро окончательно лишит меня мотивации к капиталистическому труду. Её, правда, и так было не то, чтобы очень много, но все же...
«Одним из технических приемов, при помощи которых современный предприниматель стремится повысить интенсивность труда «своих» рабочих и получить максимум производительности, является сдельная оплата труда. Так, например, в сельском хозяйстве наивысшей интенсивности в работе требует уборка урожая, ибо от ее своевременного завершения часто — особенно при неустойчивой погоде — зависит величина прибыли или убытка. Поэтому здесь в определенный период почти повсеместно вводится система сдельной оплаты труда. Поскольку же рост доходов и интенсивности хозяйства, как правило, влечет за собой возрастающую заинтересованность предпринимателя, то он, повышая расценки и предоставляя тем самым рабочим возможность получить необычно высокий заработок за короткий срок, пытается заинтересовать их в увеличении производительности их труда. Однако тут возникают неожиданные затруднения. В ряде случаев повышение расценок влечет за собой не рост, а снижение производительности труда, так как рабочие реагируют на повышение заработной платы уменьшением, а не увеличением дневной выработки. Так, например, жнец, который при плате в 1 марку за морген ежедневно жнет 2.5 моргена, зарабатывая таким образом 2,5 марки в день, после повышения платы на 25 пфеннигов за морген стал жать вместо предполагавшихся 3 моргенов, что дало бы ему теперь 3,75 марки в день, лишь 2 моргена, получая те же 2,5 марки в день, которыми он, по библейскому выражению, «довольствовался». Увеличение заработка привлекало его меньше, чем облегчение работы: он не спрашивал: сколько я смогу заработать за день, увеличив до максимума производительность моего труда; вопрос ставился по-иному: сколько мне надо работать для того, чтобы заработать те же 2,5 марки, которые я получал до сих пор и которые удовлетворяли мои традиционные потребности? Приведенный пример может служить иллюстрацией того строя мышления, который мы именуем «традиционализмом»: человек «по своей природе» не склонен зарабатывать деньги, все больше и больше денег, он хочет просто жить, жить так, как он привык, и зарабатывать столько, сколько необходимо для такой жизни. Повсюду, где современный капитализм пытался повысить «производительность» труда путем увеличения его интенсивности, он наталкивался на этот лейтмотив докапиталистического отношения к труду, за которым скрывалось необычайно упорное сопротивление; на это сопротивление капитализм продолжает наталкиваться и по сей день, и тем сильнее, чем более отсталыми (с капиталистической точки зрения) являются рабочие, с которыми ему приходится иметь дело. Возвратимся к нашему примеру. Поскольку расчет на «жажду наживы» не оправдался и повышение расценок не дало ожидаемых результатов, естественно, казалось бы, прибегнуть к противоположному средству, а именно принудить рабочих производить больше, чем раньше, путем снижения заработной платы. Этот ход мыслей находил свое подтверждение (а подчас находит его и теперь) в укоренившемся наивном представлении о наличии прямой связи между низкой оплатой труда и высокой прибылью; любое повышение заработной платы ведет якобы к соответствующему уменьшению прибыли. В самом деле, капитализм с момента своего возникновения постоянно возвращался на этот путь, и в течение ряда веков считалось непреложной истиной, что низкая заработная плата «производительна», то есть повышает «производительность» труда, что, как сказал уже Питер де ля Кур (в этом пункт он мыслит совершенно в духе раннего кальвинизма), «народ трудится лишь потому, что он беден, и до той поры, пока он беден».
Ок!
Правда, книга «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера скоро окончательно лишит меня мотивации к капиталистическому труду. Её, правда, и так было не то, чтобы очень много, но все же...
«Одним из технических приемов, при помощи которых современный предприниматель стремится повысить интенсивность труда «своих» рабочих и получить максимум производительности, является сдельная оплата труда. Так, например, в сельском хозяйстве наивысшей интенсивности в работе требует уборка урожая, ибо от ее своевременного завершения часто — особенно при неустойчивой погоде — зависит величина прибыли или убытка. Поэтому здесь в определенный период почти повсеместно вводится система сдельной оплаты труда. Поскольку же рост доходов и интенсивности хозяйства, как правило, влечет за собой возрастающую заинтересованность предпринимателя, то он, повышая расценки и предоставляя тем самым рабочим возможность получить необычно высокий заработок за короткий срок, пытается заинтересовать их в увеличении производительности их труда. Однако тут возникают неожиданные затруднения. В ряде случаев повышение расценок влечет за собой не рост, а снижение производительности труда, так как рабочие реагируют на повышение заработной платы уменьшением, а не увеличением дневной выработки. Так, например, жнец, который при плате в 1 марку за морген ежедневно жнет 2.5 моргена, зарабатывая таким образом 2,5 марки в день, после повышения платы на 25 пфеннигов за морген стал жать вместо предполагавшихся 3 моргенов, что дало бы ему теперь 3,75 марки в день, лишь 2 моргена, получая те же 2,5 марки в день, которыми он, по библейскому выражению, «довольствовался». Увеличение заработка привлекало его меньше, чем облегчение работы: он не спрашивал: сколько я смогу заработать за день, увеличив до максимума производительность моего труда; вопрос ставился по-иному: сколько мне надо работать для того, чтобы заработать те же 2,5 марки, которые я получал до сих пор и которые удовлетворяли мои традиционные потребности? Приведенный пример может служить иллюстрацией того строя мышления, который мы именуем «традиционализмом»: человек «по своей природе» не склонен зарабатывать деньги, все больше и больше денег, он хочет просто жить, жить так, как он привык, и зарабатывать столько, сколько необходимо для такой жизни. Повсюду, где современный капитализм пытался повысить «производительность» труда путем увеличения его интенсивности, он наталкивался на этот лейтмотив докапиталистического отношения к труду, за которым скрывалось необычайно упорное сопротивление; на это сопротивление капитализм продолжает наталкиваться и по сей день, и тем сильнее, чем более отсталыми (с капиталистической точки зрения) являются рабочие, с которыми ему приходится иметь дело. Возвратимся к нашему примеру. Поскольку расчет на «жажду наживы» не оправдался и повышение расценок не дало ожидаемых результатов, естественно, казалось бы, прибегнуть к противоположному средству, а именно принудить рабочих производить больше, чем раньше, путем снижения заработной платы. Этот ход мыслей находил свое подтверждение (а подчас находит его и теперь) в укоренившемся наивном представлении о наличии прямой связи между низкой оплатой труда и высокой прибылью; любое повышение заработной платы ведет якобы к соответствующему уменьшению прибыли. В самом деле, капитализм с момента своего возникновения постоянно возвращался на этот путь, и в течение ряда веков считалось непреложной истиной, что низкая заработная плата «производительна», то есть повышает «производительность» труда, что, как сказал уже Питер де ля Кур (в этом пункт он мыслит совершенно в духе раннего кальвинизма), «народ трудится лишь потому, что он беден, и до той поры, пока он беден».
Ок!
1/4
В последнее время (тм) часто вспоминают статью «Личная ответственность при диктатуре» Ханны Арендт. На меня она тоже производит какое-то гипнотическое впечатление (как и вообще многие тексты Арендт о зле, вине и революции. С деятельной жизнью посложнее дело идет). Если вам близко интеллектуальное познание (я вот только на нем и держусь), то рекомендую. В сборнике «Скрытая традиция» у неё другое эссе «на тему» — «Организованная вина». Оно было написано в 1944 году, но звучит очень…сейчас, до мурашек прямо. Но пока — кратко (нет) про личную ответственность. Не думаю, что на основе этой статьи (или любой другой) надо делать какие-то Выводы или Решения, но это как минимум интересный ракурс.
В этом эссе Арендт проводит несколько важных различий.
Первое: разница между политической и личной ответственностью.
Политическую ответственность несет правительство (за свои решения и за решения предшественников) и народ («каждое поколение просто в силу своей включенности в исторический континуум отягощено грехами отцов и благословлено свершениями предков»). Эту ответственность она понимает как скорее метафорическую: каждое поколение обновляет мир по-своему, но сам мир продолжит существовать, пока поколения отмирают, а каждый этап государственного правления не может не опираться на решения и политическую инфраструктуру предшественников. Это идея о продолжительности, непрерывности, но «с точки зрения морали чувствовать вину, не совершив ничего конкретного, столь же неправильно, как и не чувствовать вины за действительно содеянное».
Личная ответственность же дело куда более конкретное, и Арендт разбирает его на примере послевоенной Германии (обвс), где «люди, которые ничего конкретного не сделали, уверяли себя и весь мир в своем чувстве вины, а реальные преступники вовсю снимали с себя личную ответственность».
Коллективное признание личной вины привело к обелению тех, кто был реально виноват: «там, где виноваты все, не виноват никто». Но социальный поствоенный процесс склонялся к этому: протесты против казни Эйхмана (1962 год) и аргументы против продления срока давности для нацистских преступников в самой Германии происходили потому, что казни и преследования преступников могут «послужить искуплению той вины, которую чувствуют многие немецкие молодые люди». Простые немцы (особенно те, кто был слишком молод, чтобы застать само преступление) должны были продолжать испытывать муки совести.
Но Арендт считает, что чувствовать такие муки — заблуждение или интеллектуальное упражнение: «Нет такого явления, как коллективная вина или коллективная невиновность; вина и невиновность имеют смысл только в отношении отдельной личности».
Второе: разница между «обычным правительством», диктатурой и тоталитаризмом.
В «обычном правительстве» можно найти какое-то количество людей, принимающих решения.
В диктатуре и тоталитаризме все политические институты исчезают из поля принятия решений: есть только фигура Одного. Бюрократическая машина обезличивается: механизм работает вне зависимости от смены «винтиков» — это система должностей, а не людей.
При диктатуре «власть захватывают военные, упраздняя правительство и лишая граждан их политических прав и свобод, либо одна из партий захватывает государственный аппарат, устраняя организованную политическую оппозицию». Диктатура может совершать преступные действия против врагов режима, но она а) не преступна в контексте частной жизни и б) свои преступления она считает «исключениями» и открыто их не признает.
Тоталитаризм, напротив, совершает преступления против людей, «невинных» даже с точки зрения власти — и делает это открыто. Власть распространяется на частную жизнь: тоталитарное общество монолитно, вся социальная, культурная и научная жизнь координируются в одном направлении. Нет должностей, где можно работать, не поддерживая генеральную линию. Избежать соучастия (правового или морального) в преступлениях тоталитарного режима можно, только полностью устранившись из публичной жизни.
В последнее время (тм) часто вспоминают статью «Личная ответственность при диктатуре» Ханны Арендт. На меня она тоже производит какое-то гипнотическое впечатление (как и вообще многие тексты Арендт о зле, вине и революции. С деятельной жизнью посложнее дело идет). Если вам близко интеллектуальное познание (я вот только на нем и держусь), то рекомендую. В сборнике «Скрытая традиция» у неё другое эссе «на тему» — «Организованная вина». Оно было написано в 1944 году, но звучит очень…сейчас, до мурашек прямо. Но пока — кратко (нет) про личную ответственность. Не думаю, что на основе этой статьи (или любой другой) надо делать какие-то Выводы или Решения, но это как минимум интересный ракурс.
В этом эссе Арендт проводит несколько важных различий.
Первое: разница между политической и личной ответственностью.
Политическую ответственность несет правительство (за свои решения и за решения предшественников) и народ («каждое поколение просто в силу своей включенности в исторический континуум отягощено грехами отцов и благословлено свершениями предков»). Эту ответственность она понимает как скорее метафорическую: каждое поколение обновляет мир по-своему, но сам мир продолжит существовать, пока поколения отмирают, а каждый этап государственного правления не может не опираться на решения и политическую инфраструктуру предшественников. Это идея о продолжительности, непрерывности, но «с точки зрения морали чувствовать вину, не совершив ничего конкретного, столь же неправильно, как и не чувствовать вины за действительно содеянное».
Личная ответственность же дело куда более конкретное, и Арендт разбирает его на примере послевоенной Германии (обвс), где «люди, которые ничего конкретного не сделали, уверяли себя и весь мир в своем чувстве вины, а реальные преступники вовсю снимали с себя личную ответственность».
Коллективное признание личной вины привело к обелению тех, кто был реально виноват: «там, где виноваты все, не виноват никто». Но социальный поствоенный процесс склонялся к этому: протесты против казни Эйхмана (1962 год) и аргументы против продления срока давности для нацистских преступников в самой Германии происходили потому, что казни и преследования преступников могут «послужить искуплению той вины, которую чувствуют многие немецкие молодые люди». Простые немцы (особенно те, кто был слишком молод, чтобы застать само преступление) должны были продолжать испытывать муки совести.
Но Арендт считает, что чувствовать такие муки — заблуждение или интеллектуальное упражнение: «Нет такого явления, как коллективная вина или коллективная невиновность; вина и невиновность имеют смысл только в отношении отдельной личности».
Второе: разница между «обычным правительством», диктатурой и тоталитаризмом.
В «обычном правительстве» можно найти какое-то количество людей, принимающих решения.
В диктатуре и тоталитаризме все политические институты исчезают из поля принятия решений: есть только фигура Одного. Бюрократическая машина обезличивается: механизм работает вне зависимости от смены «винтиков» — это система должностей, а не людей.
При диктатуре «власть захватывают военные, упраздняя правительство и лишая граждан их политических прав и свобод, либо одна из партий захватывает государственный аппарат, устраняя организованную политическую оппозицию». Диктатура может совершать преступные действия против врагов режима, но она а) не преступна в контексте частной жизни и б) свои преступления она считает «исключениями» и открыто их не признает.
Тоталитаризм, напротив, совершает преступления против людей, «невинных» даже с точки зрения власти — и делает это открыто. Власть распространяется на частную жизнь: тоталитарное общество монолитно, вся социальная, культурная и научная жизнь координируются в одном направлении. Нет должностей, где можно работать, не поддерживая генеральную линию. Избежать соучастия (правового или морального) в преступлениях тоталитарного режима можно, только полностью устранившись из публичной жизни.
🤯4
2/4
Ключевая идея главы — показать, почему функционеры преступного режима несут личную ответственность за преступления государства, а «просто люди» — нет. Тут есть несколько аргументов.
1. В «тоталитарной реальности» (решения Одного + безликая бюрократическая машина) оборонительный аргумент нацистских функционеров как будто бы справедлив: «если бы я отказался это делать, это сделал бы кто-нибудь другой». Суд же превращает функционера («винтик») в человека: «А почему, с вашего позволения, вы стали этим винтиком или продолжили им быть при таких обстоятельствах?»
2. В тоталитарном государстве можно исключить себя из политической жизни (и отказаться нести ответственность за преступления режима). Это и случилось: и как будто бы привело к масштабному коллапсу моральных норм. На этом строится еще один оборонительный аргумент: погрузиться в личную жизнь — значит выбрать безответственный путь. А «те, кого сегодня считают виновными, на самом деле просто продолжали делать свою работу, чтобы избежать худшего поворота дел; лишь те, кто остался в системе, имели шанс хоть как-то положительно повлиять на происходящее и помочь хотя бы некоторым людям; мы отдали дьяволу его долю, но сохранили свою душу, а те, кто не сделал ничего, уклонились от любой ответственности, думая лишь о себе и о спасении своих драгоценных душ». С политической точки зрения этот аргумент не имеет смысла: это говорят не бунтовщики, заговорщики или саботажники (которые своей некомпетентностью могли бы тормозить бюрократические процессы и подрывать систему изнутри). Напротив: это говорят профессионалы, без навыков и Очень Хорошей Работы которых гитлеровский режим и его преступления были бы попросту неосуществимы. Управленческий аппарат что в Веймарской республике. что в кайзеровской Германии, что в нацистском государстве, что в Германии Аденауэра был сутево одинаковым, и особенно со сменой правительств не менялся.
3. Еще один аргумент функционеров — они выбрали меньшее зло, что считается более ответственным действием, чем бездействие (решить не выбирать вообще). Этот аргумент несостоятелен с точки зрения и религиозной морали, и политики (Третий рейх — меньшее зло? Сомнительно), однако абсолютно логичен с точки зрения тоталитарного аппарата, потому что принятие меньшего зла открывает дорогу (и для чиновников, и для народа) к принятию зла как такового. Например, первые антиеврейские меры подавались как «лучше уж так, иначе будет хуже» ровно до того момента, пока хуже уже и быть не могло.
4. Во время судебных процессов подсудимые апеллировали либо к тому, что эти преступления были «актами государственной власти», либо к тому, что они выполняли «приказы сверху».
Акты государственной власти — это действия для защиты суверенитета, ради существования государства как такового. Это, по сути, самооборона, которая может быть преступной, так как речь идет о выживании. Важно, что эти действия не подпадают под юрисдикцию никаких судов (на этом аргументе строилась защита Эйхмана). В случае Третьего рейха этот аргумент тоже не очень-то валиден: его существование не было под угрозой. Более того, можно сказать, что преступные акты государственной власти совершаются, чтобы сохранить политическую силу, которая является гарантом законности и безопасности граждан. Законности в Третьем рейхе не было тоже: скорее, каждое действие этой машины было преступным, а не-преступные действия были либо случайностью, либо уступкой. В этом смысле нацистское государство противоречит идее государства: потому что оно отказалось от защиты части своего населения (и лишило её права защищать себя самостоятельно).
Аргумент «приказов сверху» в этом контексте тоже не работает: чтобы человек мог не выполнить преступный приказ, он должен понимать разницу — отличать преступные приказы от не-преступных, и первые должны быть исключением на фоне вторых. В тоталитарных же государствах именно не-преступные приказы выглядят как исключения из правил.
Ключевая идея главы — показать, почему функционеры преступного режима несут личную ответственность за преступления государства, а «просто люди» — нет. Тут есть несколько аргументов.
1. В «тоталитарной реальности» (решения Одного + безликая бюрократическая машина) оборонительный аргумент нацистских функционеров как будто бы справедлив: «если бы я отказался это делать, это сделал бы кто-нибудь другой». Суд же превращает функционера («винтик») в человека: «А почему, с вашего позволения, вы стали этим винтиком или продолжили им быть при таких обстоятельствах?»
2. В тоталитарном государстве можно исключить себя из политической жизни (и отказаться нести ответственность за преступления режима). Это и случилось: и как будто бы привело к масштабному коллапсу моральных норм. На этом строится еще один оборонительный аргумент: погрузиться в личную жизнь — значит выбрать безответственный путь. А «те, кого сегодня считают виновными, на самом деле просто продолжали делать свою работу, чтобы избежать худшего поворота дел; лишь те, кто остался в системе, имели шанс хоть как-то положительно повлиять на происходящее и помочь хотя бы некоторым людям; мы отдали дьяволу его долю, но сохранили свою душу, а те, кто не сделал ничего, уклонились от любой ответственности, думая лишь о себе и о спасении своих драгоценных душ». С политической точки зрения этот аргумент не имеет смысла: это говорят не бунтовщики, заговорщики или саботажники (которые своей некомпетентностью могли бы тормозить бюрократические процессы и подрывать систему изнутри). Напротив: это говорят профессионалы, без навыков и Очень Хорошей Работы которых гитлеровский режим и его преступления были бы попросту неосуществимы. Управленческий аппарат что в Веймарской республике. что в кайзеровской Германии, что в нацистском государстве, что в Германии Аденауэра был сутево одинаковым, и особенно со сменой правительств не менялся.
3. Еще один аргумент функционеров — они выбрали меньшее зло, что считается более ответственным действием, чем бездействие (решить не выбирать вообще). Этот аргумент несостоятелен с точки зрения и религиозной морали, и политики (Третий рейх — меньшее зло? Сомнительно), однако абсолютно логичен с точки зрения тоталитарного аппарата, потому что принятие меньшего зла открывает дорогу (и для чиновников, и для народа) к принятию зла как такового. Например, первые антиеврейские меры подавались как «лучше уж так, иначе будет хуже» ровно до того момента, пока хуже уже и быть не могло.
4. Во время судебных процессов подсудимые апеллировали либо к тому, что эти преступления были «актами государственной власти», либо к тому, что они выполняли «приказы сверху».
Акты государственной власти — это действия для защиты суверенитета, ради существования государства как такового. Это, по сути, самооборона, которая может быть преступной, так как речь идет о выживании. Важно, что эти действия не подпадают под юрисдикцию никаких судов (на этом аргументе строилась защита Эйхмана). В случае Третьего рейха этот аргумент тоже не очень-то валиден: его существование не было под угрозой. Более того, можно сказать, что преступные акты государственной власти совершаются, чтобы сохранить политическую силу, которая является гарантом законности и безопасности граждан. Законности в Третьем рейхе не было тоже: скорее, каждое действие этой машины было преступным, а не-преступные действия были либо случайностью, либо уступкой. В этом смысле нацистское государство противоречит идее государства: потому что оно отказалось от защиты части своего населения (и лишило её права защищать себя самостоятельно).
Аргумент «приказов сверху» в этом контексте тоже не работает: чтобы человек мог не выполнить преступный приказ, он должен понимать разницу — отличать преступные приказы от не-преступных, и первые должны быть исключением на фоне вторых. В тоталитарных же государствах именно не-преступные приказы выглядят как исключения из правил.
3/4
Итого:
«Эти люди действовали в условиях, когда всякий моральный поступок был незаконен, а всякое законное действие было преступлением». Арендт считает форму правления правовым и моральным особым обстоятельством, которое можно принять во внимание, но оно не является оправданием.
Личная ответственность по Арендт находится в поле конкретных действий: распоряжения, которые дают бюрократы, приказы, которые они подписывают, и поступки, которые они совершают. Любое другое понимание вины размывает фокус на конкретном, определенном в правовых терминах, объективном составе преступления.
Она предлагает не отождествлять понятия повиновение и согласие, повинуется ребенок, который не является равноправным субъектом процесса воспитания; взрослый соглашается с предложением «лидера». Мотивация согласиться может быть разной (от искренней поддержки до страха), но ответственность появляется только тогда, когда человек совершает конкретные действия.
Арендт не соглашается с нарративом приговоров, мол, нацистские преступники нарушили некоторое глобальное, монументальное социальное представление о том, что законно, а что — нет: «чувство законности…прочно укоренено в совести каждого человека» (из приговора Военного суда Израиля). В этой риторике она видит нежелание признавать, что законным может быть признано что угодно, что «новым порядком» может стать абсолютно любая политическая и моральная система — как стало и новым, и (ключевое!) порядком нацистское государство. И что нет никакой прочной моральной основы, понятной каждому человеку с рождения. Кантианский принцип, который по идее должен упрочнять положение моральной нормы («закон есть закон, и исключений быть не может») стал основой трудовой этики Эйхмана.
Обвинение в безответственности бездействия Арендт беспокоит, но её ответ — в том, что есть ситуации, когда брать на себя ответственность за мир невозможно; политическая ответственность предполагает наличие хотя бы минимальной политической власти; если средств влияния нет — не может быть и ответственности.
Это понимание даже для самой Арендт скорее болезненно: она видит одну из ключевых черт тоталитаризма в том, что в нем человек вынужден не просто выпасть из политической жизни — он вынужден добровольно отказаться от ответственности за других и перестать предпринимать активные действия, чтобы избежать искушения зла.
Sad, but true, I guess.
Итого:
«Эти люди действовали в условиях, когда всякий моральный поступок был незаконен, а всякое законное действие было преступлением». Арендт считает форму правления правовым и моральным особым обстоятельством, которое можно принять во внимание, но оно не является оправданием.
Личная ответственность по Арендт находится в поле конкретных действий: распоряжения, которые дают бюрократы, приказы, которые они подписывают, и поступки, которые они совершают. Любое другое понимание вины размывает фокус на конкретном, определенном в правовых терминах, объективном составе преступления.
Она предлагает не отождествлять понятия повиновение и согласие, повинуется ребенок, который не является равноправным субъектом процесса воспитания; взрослый соглашается с предложением «лидера». Мотивация согласиться может быть разной (от искренней поддержки до страха), но ответственность появляется только тогда, когда человек совершает конкретные действия.
Арендт не соглашается с нарративом приговоров, мол, нацистские преступники нарушили некоторое глобальное, монументальное социальное представление о том, что законно, а что — нет: «чувство законности…прочно укоренено в совести каждого человека» (из приговора Военного суда Израиля). В этой риторике она видит нежелание признавать, что законным может быть признано что угодно, что «новым порядком» может стать абсолютно любая политическая и моральная система — как стало и новым, и (ключевое!) порядком нацистское государство. И что нет никакой прочной моральной основы, понятной каждому человеку с рождения. Кантианский принцип, который по идее должен упрочнять положение моральной нормы («закон есть закон, и исключений быть не может») стал основой трудовой этики Эйхмана.
Обвинение в безответственности бездействия Арендт беспокоит, но её ответ — в том, что есть ситуации, когда брать на себя ответственность за мир невозможно; политическая ответственность предполагает наличие хотя бы минимальной политической власти; если средств влияния нет — не может быть и ответственности.
Это понимание даже для самой Арендт скорее болезненно: она видит одну из ключевых черт тоталитаризма в том, что в нем человек вынужден не просто выпасть из политической жизни — он вынужден добровольно отказаться от ответственности за других и перестать предпринимать активные действия, чтобы избежать искушения зла.
Sad, but true, I guess.
4/4
По Арендт, главное этическое правило жизни при диктатуре — моральная подвижность, готовность менять моральные ориентиры, постоянно ставить под вопрос лозунги, призывы и окружающую реальность вообще, переизобретать мораль:
«Поэтому я бы предположила, что от участия воздержались именно те, чья совесть не работала, так сказать, на автоматизме, как будто мы располагаем набором врождённых или выученных правил, которые затем просто применяем к различным частным случаям, а в отношении всякого нового опыта или ситуации уже существует готовое суждение и нам всего лишь нужно действовать, исходя из того, что нам известно или выучено нами заранее. Они, как мне кажется, пользовались иным мерилом: они спрашивали себя, где та черта, перейдя которую, они не смогли бы больше жить в мире сами с собой; и они решили, что лучше не будут делать ничего, не потому, что мир от этого станет лучше, но просто потому, что только так они смогут жить дальше, оставаясь сами собой. По этой же причине, когда их пытались принудить к участию, они выбрали смерть. Грубо говоря, они отказались убивать не столько потому, что так твёрдо придерживались заповеди «Не убий», сколько потому, что не хотели в дальнейшем жить с убийцами — то есть, с самими собой.
Условием такого рода суждения является не высокоразвитый интеллект и не искушенность в вопросах морали, а скорее предрасположенность к тому, чтобы жить с самим собой, общаться с собой, т. е. вступать в тот безмолвный диалог, который мы со времен Сократа и Платона называем мышлением. Такого рода мышление, хотя оно лежит в основании всякой философии, не является техническим и не имеет дела с теоретическими проблемами. Граница, пролегающая между теми, кто хочет мыслить, а значит должен судить самостоятельно, и теми, кто этого избегает, игнорирует все различия в культуре, общественном положении и образовании. В этом отношении полный коллапс морали, случившийся при гитлеровском режиме с добропорядочным обществом, может научить нас тому, что в таких обстоятельствах те, кто лелеет ценности и твердо держится моральных норм, не надежны: теперь мы знаем, что моральные нормы могут поменяться в один миг, и у этих людей не останется ничего, кроме привычки чего-нибудь держаться. Гораздо надежнее скептики и любители сомневаться — не потому, что скептицизм хорош, а сомнение полезно, а потому, что такие люди привыкли ставить вещи под вопрос и жить своим умом. Лучше всех окажутся те, кто знает наверняка лишь одно: что бы ни случилось в дальнейшем, пока мы живы, жить нам придется с самими собой».
По Арендт, главное этическое правило жизни при диктатуре — моральная подвижность, готовность менять моральные ориентиры, постоянно ставить под вопрос лозунги, призывы и окружающую реальность вообще, переизобретать мораль:
«Поэтому я бы предположила, что от участия воздержались именно те, чья совесть не работала, так сказать, на автоматизме, как будто мы располагаем набором врождённых или выученных правил, которые затем просто применяем к различным частным случаям, а в отношении всякого нового опыта или ситуации уже существует готовое суждение и нам всего лишь нужно действовать, исходя из того, что нам известно или выучено нами заранее. Они, как мне кажется, пользовались иным мерилом: они спрашивали себя, где та черта, перейдя которую, они не смогли бы больше жить в мире сами с собой; и они решили, что лучше не будут делать ничего, не потому, что мир от этого станет лучше, но просто потому, что только так они смогут жить дальше, оставаясь сами собой. По этой же причине, когда их пытались принудить к участию, они выбрали смерть. Грубо говоря, они отказались убивать не столько потому, что так твёрдо придерживались заповеди «Не убий», сколько потому, что не хотели в дальнейшем жить с убийцами — то есть, с самими собой.
Условием такого рода суждения является не высокоразвитый интеллект и не искушенность в вопросах морали, а скорее предрасположенность к тому, чтобы жить с самим собой, общаться с собой, т. е. вступать в тот безмолвный диалог, который мы со времен Сократа и Платона называем мышлением. Такого рода мышление, хотя оно лежит в основании всякой философии, не является техническим и не имеет дела с теоретическими проблемами. Граница, пролегающая между теми, кто хочет мыслить, а значит должен судить самостоятельно, и теми, кто этого избегает, игнорирует все различия в культуре, общественном положении и образовании. В этом отношении полный коллапс морали, случившийся при гитлеровском режиме с добропорядочным обществом, может научить нас тому, что в таких обстоятельствах те, кто лелеет ценности и твердо держится моральных норм, не надежны: теперь мы знаем, что моральные нормы могут поменяться в один миг, и у этих людей не останется ничего, кроме привычки чего-нибудь держаться. Гораздо надежнее скептики и любители сомневаться — не потому, что скептицизм хорош, а сомнение полезно, а потому, что такие люди привыкли ставить вещи под вопрос и жить своим умом. Лучше всех окажутся те, кто знает наверняка лишь одно: что бы ни случилось в дальнейшем, пока мы живы, жить нам придется с самими собой».
Увлекательный (тм) вызов с точки зрения мировых климатических изменений назревает (уже давно назрел, но, как известно, пока шторм или пожар не постучится каждому в дверку, мы ничего и не заметим).
Неделю назад температура в «самом холодном месте Земли» (на станции Конкордия в Антарктиде) дошла до -11.8 градусов Цельсия, что на 40 градусов выше сезонной нормы. Возможная причина — тепло и влага из Австралии. В Арктике температура на 30 градусов выше сезонной нормы. Это событие значительно опережает прогнозы климатических моделей, на основании которых государства принимают свои «климатические политики».
Есть исследования, которые говорят, что богатые экономики должны полностью (!) прекратить добычу нефти и газа до 2034 года, чтобы у нас был шанс достичь потепления на те самые «1.5 градуса» (считается, что при таком уровне глобального потепления климатические изменения не будут экстремальными). Эти страны отвечают за треть производства нефти и газа в мире. В список таких экономик попадает США, Великобритания, Канада и, например, Эмираты. Это даст время более бедным экономикам перестроиться на другие рельсы и смочь сделать то же самое (прекратить добычу нефти и газа. Да, полностью), но попозже — вплоть до 2050-го года.
На стыке этих двух фактов лежит, скажем так, поражающая своей новизной мысль: похоже, люди все-таки не способны хоть как-то повлиять на климатические изменения (кроме как делать все, что мы уже делаем сейчас, чтобы они ускорялись). Разумеется, 19 богатейших стран мира не откажутся от производства нефти и газа до 2034 года и не срежут 75% производства до 2030-го. У всех в мире другие приоритеты. А это значит, что климатические изменения будут происходить: пожары будут выкашивать леса и города, перепады температур будут уничтожать привычные сельскохозяйственные процессы, дожди будут смывать дома, штормы будут вымывать прибрежные регионы, количество климатических мигрантов будет расти. Все это будет происходить — вопрос уже не в том, как это остановить, а в том, как к этому адаптироваться. Смогут ли человеки сделать хотя бы это? Уровень развития социальных институтов в мире не внушает большого оптимизма.
Такая вот катастрофическая пятничная пятиминутка, спасибо-пожалуйста.
Неделю назад температура в «самом холодном месте Земли» (на станции Конкордия в Антарктиде) дошла до -11.8 градусов Цельсия, что на 40 градусов выше сезонной нормы. Возможная причина — тепло и влага из Австралии. В Арктике температура на 30 градусов выше сезонной нормы. Это событие значительно опережает прогнозы климатических моделей, на основании которых государства принимают свои «климатические политики».
Есть исследования, которые говорят, что богатые экономики должны полностью (!) прекратить добычу нефти и газа до 2034 года, чтобы у нас был шанс достичь потепления на те самые «1.5 градуса» (считается, что при таком уровне глобального потепления климатические изменения не будут экстремальными). Эти страны отвечают за треть производства нефти и газа в мире. В список таких экономик попадает США, Великобритания, Канада и, например, Эмираты. Это даст время более бедным экономикам перестроиться на другие рельсы и смочь сделать то же самое (прекратить добычу нефти и газа. Да, полностью), но попозже — вплоть до 2050-го года.
На стыке этих двух фактов лежит, скажем так, поражающая своей новизной мысль: похоже, люди все-таки не способны хоть как-то повлиять на климатические изменения (кроме как делать все, что мы уже делаем сейчас, чтобы они ускорялись). Разумеется, 19 богатейших стран мира не откажутся от производства нефти и газа до 2034 года и не срежут 75% производства до 2030-го. У всех в мире другие приоритеты. А это значит, что климатические изменения будут происходить: пожары будут выкашивать леса и города, перепады температур будут уничтожать привычные сельскохозяйственные процессы, дожди будут смывать дома, штормы будут вымывать прибрежные регионы, количество климатических мигрантов будет расти. Все это будет происходить — вопрос уже не в том, как это остановить, а в том, как к этому адаптироваться. Смогут ли человеки сделать хотя бы это? Уровень развития социальных институтов в мире не внушает большого оптимизма.
Такая вот катастрофическая пятничная пятиминутка, спасибо-пожалуйста.
Стыдно быть не русским, стыдно быть человеком (мне) — причем уже много лет. Стыдно думать, что мы (человечество) тратим зря время, что наши огромные мозги мы спускаем на глупости, что наш потенциал мы превращаем в бесчеловечность, в тщетные попытки отгородиться, в насилие, злобу, демагогию и людоедские идеологии. Что ничего не меняется. И хочется найти какой-то свой путь во всем этом, что-то, что не будет ощущаться полностью, космически бессмысленным — но пока не очень получается.
«Уже много лет мне встречаются немцы, которые признаются, что им стыдно быть немцами. И всякий раз я испытываю соблазн ответить им, что мне стыдно быть человеком. Этот тяжкий стыд, который разделяют ныне многие люди разных национальностей, — единственное чувство, оставшееся от международной солидарности; но политически оно пока никак не проявилось. Наши отцы в своем гуманистическом энтузиазме не только опрометчиво проглядели так называемый «национальный вопрос»; несравненно хуже, что они даже не догадывались о серьезности и ужасе идеи человеческой общности и иудео-христианской веры в единое происхождение человеческого рода. Не очень-то приятно было похоронить обманчивую надежду на «благородных дикарей» и поневоле признать, что люди могут быть и каннибалами. С тех пор народы все ближе знакомились друг с другом, все больше узнавали о способности человека ко злу. В результате идея человеческой общности отпугивает их все сильней, и они становятся все более восприимчивы к расовым доктринам, которые принципиально отрицают возможность подобной общности людей. Они инстинктивно чувствуют, что в идее единого человечества, в какой бы форме она ни выступала— в религиозной или в гуманистической, —- содержится и обязательство общей ответственности, которую они брать на себя не желают. Ведь из идеи единого человечества, очищенной от всякой сентиментальности, политически вытекает очень важное следствие, что нам так или иначе придется взять на себя ответственность за все преступления, совершенные людьми, а народам — ответственность за все злодеяния, совершенные народами. Чувство стыда за то, что ты человек, есть всего лишь индивидуальное и неполитическое выражение этой точки зрения.
Выражаясь политическим языком, идея человеческой общности, из которой нельзя исключить ни один народ и внутри которой ни за кем нельзя признать монополии на порок, является единственной гарантией того, что какие-нибудь «высшие расы» не уверуют в свою обязанность следовать естественному закону «права сильного» и истреблять «низшие нежизнеспособные расы» — пока в конце концов на исходе «империалистической эпохи» мы не окажемся на пути, где нацисты будут выглядеть сущими дилетантами-школярами. Проводить неимпериалистическую политику, сохранять нерасовые убеждения с каждым днем становится все труднее, потому что с каждым днем все яснее, сколь тяжкое бремя для человека — человеческое единство.
Может быть, те евреи, отцам которых мы обязаны первой концепцией идеи человеческой общности, кое-что знали об этом бремени, если они ежегодно в «Авину Малкену хотону лефонехо» («Отец наш, владыка наш, мы согрешили перед Тобой»*) брали на себя не только все грехи, совершенные в общине, но и вообще все человеческие промахи. Те, кто готов сегодня вновь пойти этим путем, надо надеяться, не ужасались по-фарисейски неожиданным возможностям «немецкого национального характера», выдохнув скороговоркой: «Слава Богу, я не таков», зато уже поняли наконец, в страхе и трепете, что человек способен на все, что угодно, — а это и есть предпосылка современного политического мышления. Они, надо полагать, не очень подойдут на роль исполнителей мести. Но совершенно ясно одно: на них и только на них, имеющих врожденный страх перед неизбежной ответственностью человеческого рода, можно будет положиться, если дело дойдет до бесстрашной, бескомпромиссной и повсеместной борьбы против чудовищного зла, которое могут учинить люди».
Ханна Арендт, «Организованная вина» (1944)
«Уже много лет мне встречаются немцы, которые признаются, что им стыдно быть немцами. И всякий раз я испытываю соблазн ответить им, что мне стыдно быть человеком. Этот тяжкий стыд, который разделяют ныне многие люди разных национальностей, — единственное чувство, оставшееся от международной солидарности; но политически оно пока никак не проявилось. Наши отцы в своем гуманистическом энтузиазме не только опрометчиво проглядели так называемый «национальный вопрос»; несравненно хуже, что они даже не догадывались о серьезности и ужасе идеи человеческой общности и иудео-христианской веры в единое происхождение человеческого рода. Не очень-то приятно было похоронить обманчивую надежду на «благородных дикарей» и поневоле признать, что люди могут быть и каннибалами. С тех пор народы все ближе знакомились друг с другом, все больше узнавали о способности человека ко злу. В результате идея человеческой общности отпугивает их все сильней, и они становятся все более восприимчивы к расовым доктринам, которые принципиально отрицают возможность подобной общности людей. Они инстинктивно чувствуют, что в идее единого человечества, в какой бы форме она ни выступала— в религиозной или в гуманистической, —- содержится и обязательство общей ответственности, которую они брать на себя не желают. Ведь из идеи единого человечества, очищенной от всякой сентиментальности, политически вытекает очень важное следствие, что нам так или иначе придется взять на себя ответственность за все преступления, совершенные людьми, а народам — ответственность за все злодеяния, совершенные народами. Чувство стыда за то, что ты человек, есть всего лишь индивидуальное и неполитическое выражение этой точки зрения.
Выражаясь политическим языком, идея человеческой общности, из которой нельзя исключить ни один народ и внутри которой ни за кем нельзя признать монополии на порок, является единственной гарантией того, что какие-нибудь «высшие расы» не уверуют в свою обязанность следовать естественному закону «права сильного» и истреблять «низшие нежизнеспособные расы» — пока в конце концов на исходе «империалистической эпохи» мы не окажемся на пути, где нацисты будут выглядеть сущими дилетантами-школярами. Проводить неимпериалистическую политику, сохранять нерасовые убеждения с каждым днем становится все труднее, потому что с каждым днем все яснее, сколь тяжкое бремя для человека — человеческое единство.
Может быть, те евреи, отцам которых мы обязаны первой концепцией идеи человеческой общности, кое-что знали об этом бремени, если они ежегодно в «Авину Малкену хотону лефонехо» («Отец наш, владыка наш, мы согрешили перед Тобой»*) брали на себя не только все грехи, совершенные в общине, но и вообще все человеческие промахи. Те, кто готов сегодня вновь пойти этим путем, надо надеяться, не ужасались по-фарисейски неожиданным возможностям «немецкого национального характера», выдохнув скороговоркой: «Слава Богу, я не таков», зато уже поняли наконец, в страхе и трепете, что человек способен на все, что угодно, — а это и есть предпосылка современного политического мышления. Они, надо полагать, не очень подойдут на роль исполнителей мести. Но совершенно ясно одно: на них и только на них, имеющих врожденный страх перед неизбежной ответственностью человеческого рода, можно будет положиться, если дело дойдет до бесстрашной, бескомпромиссной и повсеместной борьбы против чудовищного зла, которое могут учинить люди».
Ханна Арендт, «Организованная вина» (1944)